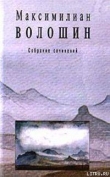Текст книги "Максимилиан Волошин, или себя забывший бог"
Автор книги: Сергей Пинаев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 50 страниц)
Однако 7 марта 1923 года в «Правде» была напечатана статья Л. Сосновского, в которой тому же Зощенко досталось за это высказывание; было поставлено на вид «Серапионовым братьям» за их «аполитичность». А ещё раньше, 2 июня 1922 года, на первой странице «Правды» появилась статья «Диктатура, где твой хлыст?», направленная против книги Ю. Айхенвальда «Поэты и поэтессы» (автор книги спустя три месяца будет выдворен за границу на «философском пароходе»). Вошедший во вкус Сосновский 1 июня 1923 года в «Правде» обрушился на книгу В. Л. Львова-Рогачевского. Статья называлась «На идеологическом фронте». Идеологические штампы в ней заменили художественные оценки. Волошин был представлен не как «большой поэт», а всего лишь – «потрёпанный, бесцветный подголосок… декадентов», не как художник, разглядевший «новый трагический лик России», а как пёс, который «где-то в зарубежной печати скулил из подворотни на нашу революцию». Было ещё гнусное выступление того же Сосновского в той же «Правде» 2 сентября; были ещё различные тявканья и укусы. Но главный удар обрушился на поэта в самом конце года, когда в четвёртом (ноябрьском) номере журнала «На посту» появилась статья Б. М. Таля (в 1930-е годы он будет занимать пост главного редактора «Правды») под убийственным названием «Поэтическая контрреволюция в стихах М. Волошина».
Тенденциозно выдёргивая цитаты и прибегая к огульным обобщениям, критик пытается полностью представить Волошина как поэта из вражеского стана. Так, например, в стихотворении «Родина», написанном 30 мая 1918 года, поэт пишет, что «не окончена борьба», то есть продолжается никому не нужная усобица; критик же вспоминает по этому случаю, что в то время начался мятеж чехословаков и Волошин этой строкой выражает надежду на «близкое падение Советской власти». Процитировав строчки из «Заклятья о Русской земле»: «По всему полю дикому, великому/ – Кости белые. Кости сухие, пустые…», Таль безапелляционно комментирует: «Это белогвардейцы, павшие в борьбе с Советской Россией» (как будто у красноармейцев кости красные); Волошин, стало быть, стремится оживить «мертвецов контрреволюции» для борьбы с рабоче-крестьянским государством, всё-таки революционно-социалистическое литературоведение – тонкая штука; оно требует изощрённого ассоциативного мышления… И уж раз это стихотворение попало в берлинский монархический сборник «Детинец» (о котором Волошин никогда и не слышал), значит, поэт является активным сотрудником этого эмигрантского издания. А как забыть спасение им «белого генерала»?! (Н. Маркс постоянно менял свой «цвет», в зависимости от того, кто и с какой целью обращался к этой истории.) Нахватавшись вершков из книги «Путями Каина», напостовский Писарев обзывает Волошина «певцом средневековья» и «поэтом-аристократом». Главное – навесить ярлык и отшлифовать вывод: Волошин – «последовательный, горячий и выдержанный контрреволюционер-монархист». Как тут не вспомнить, что незадолго до этого ещё один эстет-«ревнитель», только из ЛЕФа, – Н. Чужак, утверждал: революция, согласно волошинским взглядам, развивается «путями Каина».
Поначалу поэт был в шоке. Ещё раньше, 16 октября, он жаловался Вересаеву: «Никогда я не чувствовал, как теперь… всю неуместность моих мыслей, моих стихов, самого факта моего существования». А что же говорить теперь… Вступить в полемику, попробовать оправдаться? Вересаев отговаривает его от этих намерений: «Сидеть над клопом и убеждать его, что нехорошо испускать такие скверные запахи!» Стоит ли провоцировать этого «клопа» на новые обвинения, давать ему дополнительный материал для более тяжёлых обобщений?!
И всё же Волошин не побоялся отправить в редакцию журнала письмо, в котором попытался, как это делал обычно, чётко выразить и отстоять свою позицию. Он еще раз подчёркивает, что его стихи «далеки от современных политических и партийных идеологий». Ведь написал же он в одном из вариантов «Доблести поэта»:
Помни, что для тебя партии, клички, программы —
То же, что списки больных для врача сумасшедшего дома…
Потом, правда, с грустью сетовал на незавидную участь поэта:
Будь изгоем при всех царях и народоустройствах:
Совесть народа поэт. В государстве нет места поэту…
Обращаясь к самому Б. Талю, Волошин идёт ещё дальше: «Я не нейтрален, а гораздо хуже: я рассматриваю буржуазию и пролетариат как антиномические выявления единой сущности… Понятия „России“ и „Русского царства“ для меня вовсе не совпадают с понятием „Монархизма“… Этапы текущей революции я рассматриваю с точки зрения всей Российской и Европейской истории». Касаясь так называемой «лояльности», Волошин не пытается как-то обелить себя или придумать защитную маскировку. «Кому нужно – тем это известно», – с чувством собственного достоинства закрывает он тему.
Но тема эта всё же нуждается в некоторых дополнениях. Не подлежит сомнению тот факт, что статья Таля в той или иной мере была вызвана публикацией в Берлине волошинского сборника «Стихов о терроре». Правда, критик не делает прямых ссылок на эту публикацию; он лишь упоминает отзыв Е. Зноско-Боровского об этом издании в парижской газете «Последние новости». Ясно и то, что Волошин понимал, откуда ветер дует. Поэтому, отвечая Талю, поэт смел и в то же время осторожен. Открыто выражая свои взгляды, он не упоминает о нелегальной передаче А. С. Ященко письма и стихов, но и отказаться от своей причастности к берлинским публикациям не может. Волошин избирает дипломатическую форму признания одного и непризнания другого: «С моего ведома и разрешения были опубликованы только те мои стихи, которые шли через руки В. В. Вересаева (а в 1921 г. и С. Парнок), все же остальные как в России, так и за границей печатались и печатаются без моего ведома, разрешения, оплаты, лицами мне неизвестными и в искажённых текстах; следить за этим из Коктебеля я не имел возможности.
То же относится и к злоупотреблению моим именем в списках сотрудников эмигрантских изданий. Могу ещё сообщить Талю, что имя моё видели и в списке сотрудников „Нового Времени“, и национально-патриотического издания „Зарницы“. „Детинец“ для меня новость, так же как и собственная моя книжка „Стихи о терроре“, о которой пишет Зноско-Боровский (посылая стихи Ященко, Волошин не мог предположить, что они выйдут ещё и отдельной книжкой с таким названием. – С. П.). Содержание её, очевидно, так и останется для меня тайной, так как она запрещена к ввозу в Россию. Только берлинское переиздание моей книги „Демоны глухонемые“ (1-е изд. в 1919 г. в Харькове при Советской власти) сделано с моего ведома и разрешения.
Достопримечательно, что моим именем за границей пользуются преимущественно те органы, которые меня особенно шельмовали раньше». (Письмо в редакцию // Красная Новь, 1924, № 1 (18), январь-февраль.)
Между строками этого письма угадывается и причина отказа поэта от поездки в Берлин (лишнее подтверждение его «лояльности»), и предполагаемая поездка в Москву, где он надеялся выступить со своими стихами перед высшим советским руководством.
Отбросив дипломатические нюансы и тенденциозные обвинения, мы можем констатировать одно: в творчестве Волошина отсутствуют произведения, направленные против советской власти. «„Антисоветских стихов“ у меня вообще нет, – напишет поэт известному врачу И. М. Саркизову-Серазини в феврале 1931 года, – по той причине, что я вообще политику не приемлю ни в какой форме… Что касается до распространения моих стихов внутри России, то это идёт совершенно вне моих намерений и ведома. А списывать их у себя я никому не запрещаю – принципиально».
Ещё 23 ноября 1920 года, то есть в первый же месяц существования новой власти в Крыму, «контрреволюционер-монархист» пишет стихи, посвящённые прославившейся в боях с белыми Сибирской 30-й дивизии. Поэт верит, что новая Россия должна встать «во главе мировой социальной культуры». Он не подвергает критике официальный курс страны. «Дух» его по-прежнему «в России» и с Россией. Поэт совершает даже нечто для себя нехарактерное: подписывает коллективное письмо в ЦК партии, в котором группа советских писателей выражала свою лояльность по отношению к молодой Советской республике и заявляла о нерасторжимости творчества «с путями советской послеоктябрьской России».
Что это – беспринципность, прекраснодушие или «великое познанье»? В письме к партийному работнику И. 3. Каменскому 1 января 1924 года Волошин выскажет свои взгляды следующим образом: «Вообще я считаю себя вполне легальным: советское правительство я признавал с самого начала, в частном своём обиходе я провожу коммунизм более строго, чем большинство политических коммунистов. Но марксизм и экономический материализм мне глубоко чужды – всей моей натуре и всему моему образу мыслей, которые совершенно не терпят ни политики, ни системы марксовых классификаций, ни самого понятия материализма, который считаю научным абсурдом».
Макс принял революцию, утверждала Мария Степановна, «сам включился в неё, читал солдатам и матросам лекции по истории искусства… в автобиографии, всё взвесив и обдумав, он говорит, что революция его ни в чём не разочаровала, он ждал её и думал, что она будет ещё более жестокой… У него была тяжёлая и счастливая судьба. Его не затронули репрессии, хотя доносов было предостаточно. Он и умер в срок, остался в любимом Коктебеле, а не сгинул, как многие другие, в тюремных подвалах». Приводя эти слова М. С. Волошиной (которые оставим без комментариев), её собеседник Э. М. Розенталь делает в своей книге ряд интересных умозаключений: «Макс Волошин был действительно убеждён в своей причастности к судьбам страны, не очень к нему ласковой… Большевизм, по его словам, оказался неожиданной и глубокой правдой о России, которую предстоит связать со всем нашим миросозерцанием… И всё же вера в Россию, в её будущее была стержнем его творчества… путь один – сойти с пути первоубийцы Каина, прийти к всеобщему, вне разделения на любые взгляды, примирению и любви… И тут просвечивается всё тот же императив всей волошинской философии и религии: не уклоняться от зла… а, приняв в себя, преодолеть его» («Планета Макса Волошина»).
СРЕДИ ВЕРХОВНЫХ РИТМОВ МИРОЗДАНЬЯ…
Но этот мир, разумный и жестокий,
Был обречён природой на распад.
Мятеж
И нищий с оскоплённою душою,
С охолощённым мозгом торжествует
Триумф культуры, мысли и труда.
Машина
К середине 1920-х годов Максимилиан Волошин завершает свой многолетний труд – книгу «Путями Каина». Она представляет собой историософское и культурологическое исследование цивилизации. В ней, по словам поэта, сформулированы все его «социальные идеи, большею частью отрицательные». Но мало этого… Не удовлетворяясь констатацией «трагедии материальной культуры» (подзаголовок книги) на земле, Волошин как истинный «путник по вселенным» пронизывает взглядом космос, в нём ищет закономерности и указывает перспективы развития мироздания.
Характеризуя «философские послереволюционные стихи Волошина», С. Маковский отмечает («несмотря на отдельные лирические взлёты») отход художника от лирической стихии. В них, «может быть, и больше мысли, метафизической риторики и выпукло-определительных слов, чем того, что собственно составляет поэзию, т. е. звучит за мыслью и словами. Ритмованная мудрость, а не песня, во многих случаях – это стихи, так глубоко провеянные тысячелетиями средиземноморской культуры с её эзотерической углублённостью в загадки духа и плоти, что и сам Волошин кажется, в наш немудрый век, не то каким-то последним заблудившимся гностиком-тамплиером, не то какой-то гримасой трагической нашей современности накануне новой, неведомой судьбы…». Волошинская «риторика», считает Маковский, достигает такой силы, «что тут грани стираются между изреченным словом и напором вдохновенного чувства».
Главными особенностями книги «Путями Каина» составители двухтомного парижского собрания стихотворений Волошина (1982; 1984) – Б. Филиппов, Г. Струве и Н. Струве – называют «мистический рационализм» и публицистичность. Поэт, согласно их точке зрения, стремился преодолеть стихию словесного символизма, «овеществить слово, сделать его плотным, осязаемым – и сообразовать не с материалом, а с материей… самого предмета, о котором идёт речь. Это в поэме „Путями Каина“ доведено до плакатной броскости и тяжеловесной упругости».
Основная работа над книгой (циклом, поэмой) велась в 1922–1923 годах. Однако магистральные идеи этого произведения сложились у Волошина значительно раньше – в 1904–1907 годах. В период Первой мировой войны им были написаны стихи, ставшие главами поэмы, – «Левиафан» (1915) и «Суд» (1915), в последней редакции завершающие книгу. Само же её название неоднократно менялось: «Война и мир», «Распятый Прометей», «Пути человека» и т. д. Естественно, менялась и композиция поэмы. В качестве первой её главы фигурировали то «Огонь», то «Магия», то «Мятеж». Многие названия частей (а возможно, и сами части) не сохранились: «Распад», «Наука», «Взрыв», «Цареубийство», «Боги-игрушки (Петрушка)», «Любодейство», «Евхаристия» и другие. Из этого следует, что книга «Путями Каина» существовала в творческом воображении Волошина как постоянно обновляющееся, пульсирующее, эстетическое целое. «Моя поэма страшно сложна и сконцентрирована, – объяснял поэт свой замысел матери, – всё надо целиком держать в уме, пока не сведены своды». Не менялась лишь главная задача, поставленная художником: осуществить «переоценку материальной и социальной культуры», рассмотреть её в трагико-ироническом свете.
Э. Голлербах сравнивал М. Волошина с Силеном. Можно предположить, что искусствовед имел в виду мудрое лесное божество – Силена, который в шестой эклоге «Буколик» Вергилия излагает эпикурейское учение и рисует картины рождения мира. «Силеном античности… выказывается в своей поэме Волошин», – отмечают и авторы парижского издания. О воздействии древнегреческой философии на творчество Волошина уже говорилось. В данном случае важно подчеркнуть влияние жанровой системы, в частности античного философского эпоса. Волошин использует это влияние как истый «Силен»: глубинные научно-философские истины он выражает с едва заметной усмешкой. «Общий тон – иронический», – пишет он по поводу своей книги А. Пешковскому 23 декабря 1923 года.
Как мы знаем, античный философский эпос является разновидностью греческой дидактической поэзии; одним из первых её образцов считают поэмы Гесиода (конец VIII – начало VII века до н. э.). Чуть позже появляются многочисленные подражания великому беотийцу, обработки космогонических и теогонических мифов. Для античных поэтов этого склада были характерны сплав образного и логического мышления, умение говорить о сложных философских категориях поэтическим языком (заимствованное у них Волошиным). Конкретно-чувственная основа философского миров и дения подкреплялась поэтической языковой традицией, берущей начало в ритмизованных импровизациях аэдов и устном народном творчестве. Другой особенностью античного философского эпоса можно считать органичный синтез мифологической образности и современных данной эпохе научных знаний.
Крупнейшим представителем древнегреческого философского эпоса считают Эмпедокла (около 495–415 до н. э.), создателя разнообразных по тематике и жанру произведений, в том числе двух философских поэм: «О природе» и «Очищения». В первой поэт-философ излагает свою концепцию мироздания. Он говорит о четырёх стихиях (огонь, земля, вода и воздух), представленных четырьмя божествами. Развитие мироздания обусловлено взаимодействием «мужских» (огонь, воздух) и «женских» (вода, земля) начал. Различные сочетания этих элементов порождают многообразие природы, которая благодаря «божественным» наполнениям воспринимается не как объективная бездушная реальность, но как живое, одухотворённое целое.
Обострённое ощущение четырёх составляющих мироздание стихий, божественных и животворящих, было свойственно и родившемуся в конце XIX века М. Волошину. Программные в этом смысле строки встречаются уже в стихотворном «Письме» (1904): «Стихии мира: Воздух, Воды, / И Мать-Земля и Царь-Огонь!..» Весь окружающий поэта мир – это «мечты» (пусть иногда и «окаменелые») «безмолвно грезящей природы». Более того, он как бы вбирает эти начала в себя («Во мне зеркальность тихих вод, / Моя душа как небо звездна…»). Сливаясь с природой, поэт вместе с тем ощущает себя «божественным и вечным» («Я духом Бог, я телом конь»). Одно из преступлений человека состоит в том, что он возомнил «Себя единственным владыкою стихий», нарушил незримый баланс между «духами стихий» и собой, «расчислив», «обезбожил» природу и, подчинив её машине, высвободил губительные страсти «ундин и саламандр», то есть тех же духов природы.
Пожалуй, самое большее влияние на Волошина оказала поэма Лукреция Кара (98–54) «О природе вещей». Римский поэт «подсказал» поэту русскому, как можно в рамках одного произведения объять необъятное: дать философскую концепцию истории и сатиру на современное общество, окинуть взглядом картину космоса и выявить природу атома, задуматься о механизме ощущений, о душе и Духе. Сам Лукреций во многом опирался на Эпикура, который, помимо проповеди мудрого созерцания, гармонического наслаждения и возвышенной безмятежности, открывал своим слушателям тайны Вселенной, развивая положения атомистической философии Демокрита. Волошин, возможно интуитивно, воспринял основной пафос, сближающий учение Эпикура с поэмой Лукреция: знание законов, управляющих миром и историей, даёт человеку ощущение внутренней гармонии, освобождает от религиозно-политических догм и суеверий, способствует осознанию себя «вселенной и творцом». Сознательно или подспудно была усвоена Волошиным и двоякая природа жанра: заострённая мысль, пронизывающая философский эпос, включает в себя художественный образ и философскую идею; первый лежит в основе собственно поэзии, вторая работает на построение научно-теоретической концепции.
Поэма «О природе вещей» – единственная в своём роде, поскольку дошла до нас полностью. Сама личность Лукреция не может не вызвать ассоциации с Волошиным: творчество того и другого приходится на период смуты и гражданских войн. Лукреций был, вероятно, самым крупным из поэтов-мыслителей, которые противопоставили усобице философско-просветительские идеи, «воспоминание» о золотом веке, когда«…не губила зато под знамёнами тысяч народа / Битва лишь за день один…».
История человечества, в представлении Лукреция, направляется двумя импульсами, которые олицетворяют Венера и Марс, сквозные символы произведения. Жестокость и неразумие современников отстраняются, поэтически «разоружаются» «великими членами мира», универсальной триадой: небо – море – земля. Научная семантика, как правило, переплетается у Лукреция с философско-поэтической символикой. «Великие члены мира», с одной стороны, воспринимаются как воплощения трёх основных состояний материи (газообразного, жидкого и твёрдого), с другой – «возвышают» адресата поэмы над людской суетой. «Прежде всего посмотри на моря ты, на земли и небо…» – советует поэт своему слушателю Меммию.
Ветшают дни, проходит человек,
Но небо и земля – извечно те же… —
словно бы откликается ему из XX столетия создатель Дома Поэта.
Среди современников Волошина едва ли найдётся поэт, столь органично и, главное, в таких масштабах объединивший в своём эстетическом мировосприятии науку, лирику и философию. Единственным исключением, думается, можно считать Велимира Хлебникова, которого В. Маяковский назвал «Колумбом новых поэтических материков». Однако греческая мифология и философия практически не оказали на «Колумба» никакого влияния. Его эрудиция, в отличие от волошинской, не представляла собой «мёд с художественной культуры Запада» и была в значительной мере стихийной. Не впадая в схематизм, можно утверждать, что в отношении поэзии, да и вообще философии творчества, Волошин и Хлебников в историко-культурном контексте Серебряного века занимают противоположные позиции.
Однако не случайно в обиход вошёл термин «велимироведение», чрезвычайно удачно подчёркивающий необозримость творческих устремлений художника, его связей с различными областями науки, культуры, истории. В ассоциативных рядах с Хлебниковым в той или иной связи упоминаются Пифагор, Платон, Нострадамус, Лейбниц, Спиноза, Дарвин, Чижевский, Пикассо… И уж, конечно, нельзя не заметить связи между двумя поэтами, когда, отталкиваясь от «обратного величия малого», они воспринимали жизнь и своё бытие во вселенских масштабах. Об этой стороне волошинского творчества говорилось немало. А вот хлебниковская миниатюра:
Ночь, полная созвездий,
Какой судьбы, каких известий
Ты широко сияешь, книга
Свободы или ига,
Какой прочесть мне должно жребий
На полночью широком небе?
(1912)
«Трагедию материальной культуры» «неклассический классик» Хлебников воспринимал специфически. Оторвавшись от исконно русских, славянско-мифологических корней, цивилизация обречена на распад, считает он.
В этом отношении позиция Волошина разительно отличалась от хлебниковской. Как уже говорилось, Восток и Запад органично смыкались в его творчестве. В последние годы жизни поэт «и вправду нашёл, выносил, дал своё понимание России, ухватил срединную точку равновесия в гигантских весах Востока и Запада, – справедливо пишет Е. Герцык. – Что Восток и Запад, – может быть, ему чтобы выверить положение России и суть её, нужно было провести звёздные координаты». Постигая историю России в её евразийской целокупности, поэт допускал образование Славии, «славянской южной империи, в которую, вероятно, будут втянуты и балканские государства, и области южной России». Это воображаемое государство будет, согласно предположению Волошина, «тяготеть к Константинополю и проливам и стремиться занять место Византийской империи», то есть стать Третьим Римом. В XIV веке, когда «мужская сила Ислама насильственно овладевает Константинополем, Европа становится женщиной и зачинает, – образно поясняет он свою мысль в письме А. М. Петровой (26 января 1918 года). – Её плод, ещё не выношенный, но созревающий и уже вызывающий родовые схватки, – Россия. Родиться для мировой своей роли она сможет только через проливы».
Сквозь Бычий Ход Мехмет Завоеватель
Проник к её заветным берегам.
И зачала и понесла во чреве
Русь – Третий Рим – слепой и страстный плод, —
Да зачатое в пламени и гневе
Собой восток и запад сопряжёт!
(«Европа», 1918)
Прогнозируя будущее, Волошин опирался на историю, подкреплённую философско-эзотерическими прозрениями. Хлебников же чаще апеллировал к математике. Пожалуй, ничто не привлекало его столь пристального внимания, как число, числовые законы, властвующие над историей и судьбами людей.
Впрочем, Хлебников был не единственным исследователем этой закрытой для непосвящённых области. В последнее время всё чаще упоминают большой труд «О периодичности всемирно-исторического процесса» А. Чижевского, созданный примерно в одно время с «Досками судьбы» Хлебникова, а также теории Д. Святского, непосредственно сопоставившего даты революционных событий с годами наибольшей солнечной активности.
Ряд экспериментов в области «научной» поэзии проделал в начале 1920-х годов В. Брюсов. По-видимому, в этой специфической сфере он искал выход из идейного и творческого кризиса, явно обозначившегося в последние годы жизни. К подобным опытам поэт обращался и раньше («Хвала человеку», «В дни запустений», «Жизнь», «Сын земли» и т. д.), однако в наибольшем объёме «научные» стихи вошли в сборники «Дали» (1922) и «Меа!» («Спеши!», 1924). Очевидно, Брюсова беспокоил вопрос о правомерности его экспериментов с поэзией. В качестве опоры и поддержки поэт ссылался на ломоносовскую традицию, а также на французов, в частности на почитаемого и Волошиным Рене Гиля. Как явствует из авторского предисловия к сборнику «Дали», он был убеждён, что «поэт должен, по возможности, стоять на уровне современного научного знания и вправе мечтать о читателе с таким же миросозерцанием. Было бы несправедливо, если бы поэзия навеки должна была ограничиться, с одной стороны, мотивами „о любви и природе“, с другой – „гражданскими темами“…». Темы позднего Брюсова весьма разнообразны: прошлое и будущее человечества, пути цивилизации «от совета Лемуров до совета в Раппало», Пифагор и Демокрит, радий и протоплазма, каналы Марса и «мириады миров», «мир электрона» и «змеи интеграла», управление земным шаром в пространстве и отправление «зовов… на планеты товарищу». В отличие от собратьев по перу, Брюсова не пугает машинная цивилизация. Напротив, он испытывает восторг по отношению к бурно развивающейся технике:
Взмах! Взлёт! Челнок, снуй! Вал, вертись вкруг!
Привод, вихрь дли! не опоздай!
Чтоб двинуть косность, влить в смерть искру,
Ткать ткань, свет лить, мчать поезда!
(«Машины», 1924)
В целом же «научные» стихи Брюсова лишены поэтической свежести и глубины мысли. По большей части это игра в новизну, в модные понятия и термины.
На фоне брюсовской поэзии, не претендующей на философские обобщения, книга Волошина, создававшаяся примерно в одно время с «Далями», выделяется своей поэтической силой, глубиной и неподдельностью. Не случайно Вересаев (возможно, первый читатель поэмы), упрекая Волошина в натурализме отдельных мест, наличии «шлака» и «непоэтической» лексики («промежности», «кал», «ёмкость испражнений» и прочее), всё же признаётся художнику: «Вы – лучший из нынешних поэтов!»
Волошину как философу уже не хватает того, что связано исключительно с Россией и её историей. Его интересует человечество как таковое и даже нечто ему предшествующее:
Вначале был единый Океан,
Дымившийся на раскалённом ложе.
И в этом жарком лоне завязался
Неразрешимый узел жизни: плоть,
Пронзённая дыханьем и биеньем…
(«Огонь», 1923)
Волошинское представление об эволюции жизни, развивающееся на стыке науки и мифологии, всё же предельно субъективно и поэтично. Волошин упоминает о пращуре человека, «что из охлаждённых вод / Свой рыбий остов выволок на землю», унесший с собой «весь древний Океан», претворившийся в крови его далёких потомков, отмечает появление «чудовищных тварей» и, наконец, человека, невидимого «среди земного стада». Царь природы, по Волошину, не более чем элемент природы, равноценный с любой её частицей. Однако, идя «через природу», он всё же вырывается вперёд «Отставших братьев: / Птиц, зверей и рыб» за счёт природного огня и «пламени мятежей». Понятие мятежа Волошиным универсализируется.
В первой главе («Мятеж») даётся оригинальная концепция становления мироздания путём мятежа. По Волошину, «Мятеж был против Бога, и Бог был мятежом», то есть мятеж против себя самого в доказательство и обеспечение своего бытия. «И всё, что есть, началось чрез мятеж». Ведь, согласно «Диалектике мифа» А. Ф. Лосева, для того чтобы «вывести это всё, надо его чему-то противопоставить… надо его чем-то отрицать…», и так как «никого и ничего нет кроме этого всего, то… всё будет само противополагать себя себе же».
Эволюцию человечества поэт воспринимает как бунт против равновесия вещей, как столкновение контрастных начал. Зло необходимо хотя бы как ступень к добру, достигаемому через бунт против зла. При этом «благоразумный» возвращается в «стадо»; «мятежник» стремится пересоздать мир и себя, но застревает в «капканах равновесья». К тому же он попадает в плен к собственным иллюзиям. В бунте против материи человеку начинает казаться, что он подчинил себе духов природы, однако в действительности он сам попал в подчинение к эльфам и кобольдам, ундинам и саламандрам, освободив «силы / Извечных равновесий вещества». И с этого момента
Бесы пустынь, самумов, ураганов,
Ликуют в вихрях взрывов,
Дремлют в минах
И сотрясают моторы машин…
(«Магия», 1923)
Люди убили моральную, божественную сущность вещей. А в «обезбоженной», «расчисленной» природе начинают действовать силы, которые овладевают их страстями и волей.
Поэтому за каждым новым
Разоблачением природы ждут
Тысячелетья рабства и насилий,
И жизнь нас учит, как слепых щенят,
И тычет носом долго и упорно
В кровавую расползшуюся жижу,
Покамест ненависть врага к врагу
Не сменится взаимным уваженьем…
Равным силе,
Когда-то сдвинутой с устоев человеком…
В основе волошинской историософии (а также космософии) – гармония равновесий, «зеркальный бред взаимоотражений». «Мир осязаемых и стойких равновесий», возникший из «вихрей и противуборств», обречённый на распад, но и сохраняющий надежду на спасение, восстановление изначальной гармонии. Поэтическую формулу этой мысли мы находим в главе «Космос» (1923).
У Волошина эта система равновесий (равновесие противоположностей), включающих в себя череду взаимопритяжений и отталкиваний, проявляется в космогонических фантазиях и утверждается в историософском восприятии современности. В начале главы даётся поэтическая концепция сотворения мира по Каббале (книга Зогар), упоминаются «двойники – небесный и земной», которые
Соприкоснулись влажными ступнями.
Господь дохнул на преисподний лик,
И нижний оборотень стал Адамом.
Адам был миром,
Мир же был Адам.
Не вдаваясь в историю происхождения этих образов, отметим, что здесь налицо единство, превратившееся в двоицу. Если число «1» (монада) традиционно является выражением такой гармонической целостности, как Бог или космос, то «2» (двоица) чаще всего представляет собой две противоположности, антиномию, нередко таящую в себе гибель. Однако у Волошина подразумевается равновесие противоположностей, единство противопоставления, взаимодополняющих частей монады.
В главе «Мятеж» показано из самого себя рождающееся противоречие (противотворство). Это равновесие-противоречие и является источником существования мира, его способом и формой.
Бог был окружностью,
А центром Дьявол,
Распяленный в глубинах вещества.
Бог-окружность… Волошин, по сути дела, опираясь на древних философов, воссоздаёт здесь картину античного космоса. Ведь ещё Ксенофан утверждал, что существо божье шарообразно. Парменид считал небо самым точным из встречающихся шаров, отмечая, что наподобие Земли и Вселенной Бог неподвижен, конечен и имеет форму шара. Для Волошина же эта шарообразность Бога или небесных сфер не так уж важна. Для него главное – двоица, которой придаётся сакральное, «космизирующее» значение, двоица как материальный и духовный принцип миростроительства, двоица как равновесие. Бог – Дьявол, небесный и земной двойники, соприкоснувшиеся ступнями, два демона, строителя-держателя вселенной, две дуги собора, упавшие друг на друга и тем самым образовавшие несгибаемый свод. И, наконец, «смерть и рожденье – вся нить бытия» (в другом месте: «…смерть и воскресенье – творящий ритм мятежного огня»).