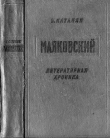Текст книги "От каждого – по таланту, каждому – по судьбе"
Автор книги: Сергей Романовский
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц)
Лиля – люби меня.
Товарищ правительство, моя семья это – Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь – спасибо.
Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся.
Как говорят –
“инцидент исперчен”,
любовная лодка
разбилась о быт.
Я с жизнью в расчете,
и не к чему перечень
взаимных болей,
бед
и обид.
Счастливо оставаться.
Владимир Маяковский.
12/ IV – 30 г.»
Далее – еще несколько частных распоряжений. Как будто уехал неожиданно и оставляет разным людям разные поручения. Вот и всё. Д. Бедный назвал это письмо «жутко незначительным», а Ю. Карабчиевский – «страшным». Не содержанием, по сути, ибо в нем – концентрат мелочности развороченной революцией жизни целого народа. Правды и искренности боялись даже в предсмертных письмах. Страх уже давно сковал души и разум строителей коммунизма.
Главную причину такого конца мы уже назвали: Маяковский почувствовал свою полную, окончательную ненужность никому – даже тем (исключая мать и сестер), кто упоминается в его записке. Он сгноил свою душу ненавистью так же, как испепелило все человеческое в своих гражданах советское государство. Такая жизнь не может длиться долго. Струны нервов натянуты до нечеловеческого предела, и в какой-то момент любой пустяк спускает курок.
Все успокаиваются.
Маяковский застрелился 14 апреля 1930 г. (1 апреля по старому стилю). На следующий день газеты поспешили сообщить официальное: «… самоубийство вызвано причинами чисто личного порядка, не имеющими ничего общего с общественной и литературной деятельностью поэта». Само собой. Что еще могла написать «Пра-вда»? * * Уже в наши дни стали появляться «авторские» прочтения этой трагедии. Из пальца высосанные. Так, Вал. Скорятин в книге «Тайна гибели Владимира Маяковского» (М., 1998. 269 с.) убежденно доказывает, что Маяковского убили «органы». Что «заказал» поэта, само собой, Сталин, заказ принял к исполнению Я.С. Агранов, а уж кто исполнил роль килера – не суть и важно. При этом «доказательства» вычитываются только между строк, ибо даже в самых секретных архивах никогда следов подобных злодеяний не оставляют. И никаких таких документов автор там обнаружить не мог. Все, к сожалению, шито белыми нитками, вся логика строится не на анализе фактов (где их взять?), а на архивной шелухе, на додумываниях и домысливаниях, на подтягивании того, что есть, к тому, что хочется. Часто, прочитав очередной архивный документ, автор задает вопрос: «Невероятное предположение?». И сам же отвечает: «Возможно». Главный его довод: Маяковский активно не нравился Сталину. Тот лишь «подумал вслух» что-то такое, а уже услужливые аграновы готовы на крайность.
[Закрыть]
Узнав о смерти Маяковского, М. Цветаева, сама того не ожидая, разволновалась как никогда ранее. Она написала семь чудных стихотворений, посвященных его памяти. «Враг ты мой родной» – их пафосная линия. И еще она написала: «Упокой, Господи, душу усопшего врага твоего».
* * * * *
Похоронили и стали быстро забывать и поэта, и его поэмы. Книги «горлана-главаря» перестали издаваться. Маяковского собирались изъять и из школьных программ. Главное – его перестали читать. И вдруг… уже во второй половине 30-х годов всё радикально переменилось: Маяковского стали не просто навязывать читателю, его стали «вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он неповинен…» Так писал добрейший Б. Пастернак.
Что же произошло? 24 ноября 1935 г. Л. Брик по совету то ли О. Брика, то ли Я. Агранова (мнения расходятся) написала письмо Сталину. Пожаловалась вождю, что «крупнейший поэт революции» начинает забываться, издан далеко не весь (публикация «Полного собрания сочинений» притормозилась), с эстрады его стихи более не читают, да и не увековечен никак. Л. Брик писала: «… его стихи не только не устарели… они… являются сильнейшим революционным оружием… Он… как был, так и остался крупнейшим поэтом революции…». Письмо Л. Брик передал Сталину предмет ее очередной «свободной любви», заместитель командующего Ленинградским военным округом В.М. Примаков.
Сработало. Сталин взял свой любимый карандаш и начертал наотмашь: «Тов. Ежов, очень прошу Вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи.Безразличие к его памяти и его произведениям – преступление. Жалобы Брик, по-моему, правильны. Свяжитесь с ней (с Брик) или вызовите ее в Москву… Сделайте, пожалуйста, всё, что упущено нами. Если моя помощь понадобится – я готов. Привет. И. Сталин». (Выделено мною. – С.Р.)
С этого и началось признание и насильное внедрение поэзии Маяковского. Он стал советским классиком. Мгновенно забронзовел, покрылся патиной и перестал восприниматься как некогда живая личность. Он был и остался в сознании большинства «агита-тором, горланом-главарем».
Хочется возразить Б. Пастернаку: с указания Сталина началась не «вторая смерть» Маяковского. Напротив, Сталин воскресил память о нем. И инерция этого воскресения продолжается.
Марина Цветаева
«В Бедламе нелюдей отказываюсь – жить»
Марина Цветаева
И. Бродский в одном из интервью уверенно назвал Марину Цветаеву самым крупным поэтом XX века. Причем не среди русских, а среди всех. Добавлю только, что у нее же была и самая тяжкая, нечеловечески тяжкая судьба.
Те, кто мало-мальски знают биографию Цветаевой, на вопрос, что все-таки предопределило ее судьбу со столь страшным финалом? – чаще всего называют семью: мужа и детей. Даже ее дочь, А.С. Эфрон, искренне думала, что Цветаева дважды ломала свою жизнь из-за мужа: первый раз, когда уехала к нему в эмиграцию, второй раз, когда вслед за ним вернулась на родину.
Муж для Цветаевой был всем: объектом ее пылкой страсти (недолго), человеком, чьими нравственными качествами она не могла не восхищаться (всю жизнь), наконец, отцом ее детей и тяжким крестом, который она, как истинно русская женщина, смиренно пронесла до конца.
10 ноября 1923 г. она делится со своей тетрадью сокровенным, признает, что ее встреча с Эфроном в далекой юности, к сожалению, поспешно привела к браку, «слишком раннему со слишком молодым». Это, конечно, правда, но далеко не вся. И не будем корить Эфрона за его ординарность, за то, что он оказался патологическим неудачником, что не стал он, наконец, той единственной опорой, которая все же смогла бы облегчить его жене одной нести тяжкий семейный крест. Не в том суть. Не будь у него этих, да и многих других, не отмеченных нами качеств, все равно их брак был бы мучением. Впрочем, и любой другой уже через короткое время стал бы для Цветаевой не жизнью с любимым человеком, а всего лишь «совместностью».
Она не могла (по природе своей) долго любить, но и без любви – не могла. Как только Цветаева кем-то увлекалась, она, образно говоря, безоглядно кидалась ему на шею и удалялась с ним в свой собственный, только ей одной доступный мир. Однако довольно быстро необходимая подпитка такой любви иссякала, ей становилось «не интересно», и она начинала вновь задыхаться в одиночестве. Ей пора было влюбляться снова. Причем чаще всего эти ее «любови» были чистой воды «литературой», но и этого ей было достаточно. Плотские услады никогда для Цветаевой не были главными. Определяло всё – нацеленность на любовь.
Не принесло ей счастья и материнство. Она три раза рожала. Но для детей не становилась мамой, а оставалась Мариной. Так ее звали и дочь, и сын. Ариадну (Алю), свою старшую дочь, она обожала до тех пор, пока могла гордиться ею: удивительно привлекательная детская мордашка с громадными («Серёжиными») глазами, раннее, совсем не детского уровня интеллектуальное развитие, – одним словом, до тех пор, пока она имела возможность похвалиться своей Алей, пока она, как и все, к ним приходящие, не переставала восхищаться этим удивительным ребенком. Но как только Аля подросла и стала походить на других детей, она тут же перестала быть объектом обожания матери, настало душевное отчуждение, а за ним – ссоры, скандалы и почти полный разрыв. Почти ту же эволюцию прошли и отношения Цветаевой с сыном Георгием (Муром).
Впрочем, обо всем этом мы еще поговорим.
В октябре 1935 г., когда семьи в понятном для каждого смысле у Цветаевой, можно сказать, уже не было, она призналась в письме к Б. Пастернаку: «Собой (ду-шой) я была только в своих тетрадях и на одиноких дорогах – редких…».
Да, собой Цветаева была только на «одиноких дорогах», но на таких дорогах (без людей) стихи не рождаются. Для вдохновения нужна почва, которая бы могла укоренить их. И такой «почвой» для Цветаевой были люди, вполне конкретные, которые чем-то, пусть на мгновение, но приковывали к себе ее внимание. «Всеми моими стихами я обязана людям, которых любила, – которые меня любили – или не любили». Это признание занесла в свою тетрадь уже 47-летняя Цветаева в январе 1940 г.
И еще один штрих. Воображение для любого поэта определяет, если можно так сказать, творческий ареал, то жизненное пространство, которое попадает в его энергетическое поле. Для Цветаевой воображение значило значительно больше, оно не только подпитывало ее творчество, оно вело ее по жизни – от рождения до смерти. Оно диктовало Цветаевой ее поступки, оно давало ей, как и любому крупному поэту, знание будущего, почти математически точное. Между тем и творческое воображение было зачастую бессильно перед ее выбором, ибо вариантов по сути не было: был один сплошной долг – перед семьей, перед тем выбором, который она когда-то раз и навсегда сделала. Он и вел ее за руку всю жизнь и в итоге привел… в петлю.
Цветаева ни на секунду не переставала быть поэтом: и в первые счастливые годы супружества, и когда к ней приходила другая любовь, и когда она голодала в разоренной большевиками Москве в гражданскую, и когда ее «прижимало к земле» отчуждение близких и откровенная ненависть многих сотоварищей по литературному цеху.
Если Марина не писала стихи, она все равно ни на миг не забывала о своем призвании на этой земле и потому делала литературу изо всего: из рядового разговора, из деловых записок, из писем. Как бы ни относилась она к своей семье, к своему невыносимому быту, жила она только «своим творчеством, оно было главным делом ее жизни», – считает одна из известных исследовательниц творческой жизни Цветаевой Анна Саакянц.
Можно было у нее отнять всё, но она бы продолжала жить. И лишь одна потеря была способна лишить ее жизни – возможность писать. «Писать перестала – и быть перестала», – отметила Цветаева в своей рабочей тетради в 1940 г. Да, в то время поэзия уже покинула ее, и она лишь терпеливо ждала своего часа, чтобы перестать быть.
Уезжая в эвакуацию, Цветаева сказала Л.К. Чуковской: «Если не смогу там писать – покончу с собой». Это, конечно, не указание конкретной причины самоубийства поэта, но вполне осознанное ею знание: без стихов жизнь для Цветаевой – излишняя обуза, без стихов – это уже не она. А такая Цветаева жить не должна.
И все же не будем упрощать: не только этот факт сам по себе «спрятал ее в смерть» (Б. Пастернак). Причин было много. Это – вся ее жизнь. А такой конец в определенном смысле – закономерный финал такой жизни ее и ее семьи.
Цветаева знала свой крест и безропотно несла его. Ее уже не удивляло, что она «мимо родилась времени», она поэтому не могла по-настоящему свыкнуться ни с людьми, жившими в своем времени, ни с событиями, происходившими также в свое время. Она была вне всего. Поэтому ее удел – отторжение. И самое страшное – она ясно понимала это.
Да, жила она сразу во все времена, но в пределах узкого и крайне неуютного жизненного пространства. И это приводило к еще одному трудно разрешимому противоречию: ее душа поэта вмещала весь мир, но категорически не совмещалась с тем бытом, который ее окружал в реальной повседневности. В быту она чувствовала себя вне своей стихии, а потому вынуждена была жить, как «загнанный зверь». Именно от этих «не поддающихся рассудку мук» и проистекал весь трагизм мировосприятия Цветаевой.
А. Саакянц пишет, что «Марина Цветаева, великий поэт, была, как нам представляется, создана природой словно бы из “иного вещества”: всем организмом, всем своим человеческим естеством она тянулась прочь от земных “измерений” в измерение и мир (или миры) – иные, о существовании которых знала непреложно… С ранних лет чувствовала и знала то, чего не могли чувствовать и знать другие. Знала, что “поэты – пророки”, и еще в ранних стихах предрекала судьбу Осипа Мандельштама, Сергея Эфрона, не говоря уже о своей собственной».
Сама Цветаева в 1925 г. писала о своем быте так: «Живу домашней жизнью, той, что люблю и ненавижу, – нечто среднее между колыбелью и гробом, а я никогда не была ни младенцем, ни мертвецом».
Рассуждать, где кончается поэт и начинается кухарка, глупо. Мы этим заниматься не будем. Тем более что, по большому счету, как ни называй повседневную жизнь замужней женщины (даже если она – великий поэт), деться ей от этой самой жизни все равно ведь некуда. Она обречена жить так, как ей уготовано собственной ее судьбой: «вольная ли это неволя» или что-то иное – не суть важно. Цветаева – женщина, которую отметил Господь, и такой она и прожила свою жизнь. Иначе она не могла, ибо иначе – это вне долга.
Можно было бы поддержать точку зрения Виктории Швейцер, будто Марина всю жизнь прожила «поэтом – среди непоэтов». В этом якобы суть ее жизни, ее судьбы. Но, к сожалению, это ничего не даст для понимания жизни именно Цветаевой. Ведь каждый поэт проживает свою жизнь среди непоэтов. И это все равно его жизнь. Она отличается от жизни любого другого поэта, также прожившего свою жизнь среди непоэтов. Поэтому данный разворот темы малопродуктивен.
Дело в том, что Цветаева (в отличие от любого другого поэта) была абсолютно несовместима с любым своим окружением. В ее «вселенную» на короткое время всегда допускался лишь один человек, его она в этот момент любила (по-своему, конечно, чаще – литературно), со всеми же остальными находилась в состоянии активного взаимного неприятия.
Еще в ноябре 1919 г. Цветаева делится со В.К. Звягинцевой и А.С. Дорофеевым поразительным по искренности признанием: «Я с рождения вытолкнута из круга людей, общества. За мной нет живой стены, – есть скала: Судьба… У меня нет возраста и нет лица… Я не боюсь старости, не боюсь быть смешной, не боюсь нищеты – вражды – злословия». К сожалению, надо признать, что почти всё, чего она не боялась, у нее уже было – причем с лихвой.
Именно как «Бедлам нелюдей» и воспринимала Цветаева весь род людской. В этом корни и ее поразительной судьбы. Она, по словам Пастернака, закончила последний виток своей жизни – по его разумению – крайне странно: приехала «из очень большого далека затем, чтобы в начале войны повеситься в совершенной неизвестности в глухом захолустье». Простим поэту столь поверхностное суждение: его он высказал в письме в 1948 г. и вполне обоснованно боялся перлюстрации.
Очень точно заметил И. Бродский, что трагизм жизни Цветаевой не из биографии: «он был до». Эта предопределенность, фатум, с описания которых мы начали вводный очерк к этой книге, был голосом Свыше. Он звучал в ее душе, настраивал ее поэтические струны, и она покорно шла за ним. Только он всегда опережал. Она жила в напряженном ожидании звука этого «голоса», и он действительно каждый раз звучал до конкретных событий ее жизни, то-есть предопределял их. Она была не властна над собственной жизнью, хотя и знала, что ее ждет впереди.
Именно потому, что Цветаева хорошо слышала этот «голос» и фактически знала свое будущее, она еще в 1934 г. написала своей чешской приятельнице Анне Тесковой: надо бы завещание составить, хотя кроме рукописей, что она может завещать. И чуть далее: «мне вообще хотелось бы не-быть». А уже сделав безумный шаг и вернувшись в СССР, Цветаева 31 августа 1940 г. написала В.А. Меркурьевой: «Мне некого винить. И себя не виню, потому что это была моя судьба. Только – чем кончится??».
Конечно, не только самоубийство – этот жуткий финал ее жизни – было сутью ее судьбы. И не только трагедия близких ей людей (мужа и дочери) привела ее к этому роковому шагу. И, само собой, не отчуждение людей: с ним она прожила долгие годы и свыклась как с неизбежной данностью.
Вся жизнь Цветаевой, которую она воспринимала не иначе, как «послушание», была заплетена в столь тугой узел проблем, что распутать или разрубить его у нее не было сил. Их достало лишь на то, чтобы завязать петлю.
* * * * *
Первым, кто распознал в Цветаевой подлинного поэта, был Максимилиан Волошин, друг ее юности. Об этом она сообщила в октябре 1932 г. Анне Тесковой. А несколькими годами ранее ей же Цветаева написала, как в десятку выстрелила: «Я знаю себе цену: она высока у знатока и любящего, нуль – у остальных».
Именно так: у знатока и любящего – степени превосходные, у других – лишь пренебрежительное снисхождение до разговора о ней.
Начнем с любящих. С.Я. Эфрон, ее муж, считал, что Марина одарена, «как дьявол». При жизни матери ее дочь не делилась оценками ее творчества. Но как только уже на склоне лет Ариадна обрела свободу, все оставшиеся ей годы она посвятила памяти матери-поэта: она собирала архив Цветаевой, систематизировала его, старалась опубликовать то, что было возможно в те годы, и сама писала «Воспоминания дочери». К живой Цветаевой она была более чем холодна, полюбила лишь память о ней. Стала мудрее. Да и обиды свои житейские она сумела, что не всякому дано, профильтровать сквозь жестокое сито лагерей и ссылок. Весь мусор отсеялся из памяти. Осталось нетленное, над чем время не властно.
«Вы – возмутительно большой поэт», – писал Пастернак Цветаевой 14 июня 1924 г. Он давно уже любил ее стихи. Сразу и на всю жизнь она стала его любимым поэтом. Настолько сильно его околдовала энергетика цветаевской поэзии, что Пастернак как-то незаметно для себя перешел ту грань, которая отделяет стихи от их автора. Он не на шутку влюбился в нее, как в женщину. Она была далеко, недоступна. Тем сильнее распалял он свое воображение. Когда же в 1935 г. увиделись, то буря быстро сменилась штилем. К тому же Пастернак в 1931 г. женился и в жену свою был влюблен. С Цветаевой, увы, любви не получилось. А ведь Марина сына своего собиралась назвать именно Борисом. Но посмотрев в погасшие глаза мужа, согласилась с ним: пусть будет Георгием.
Цветаевой очень нравились стихи Ахматовой. Всегда. Это она назвала Ахматову «Анной всея Руси» – высочайшая оценка. Лучше не скажешь. Всегда мечтала познакомиться. После возвращения Цветаевой из эмиграции встречу двух великих поэтесс устроил Пастернак. Увиделись в Москве, на Ордынке, в квартире Ардовых, где в то время (июнь 1941 г.) жила Ахматова. Встретились уже немолодые, раздавленные жизнью женщины. Приязни не получилось. Вышла, как любила говорить Цветаева, «не-встреча». Какие-то эмоциональные шестерни их характеров не сцепились друг с другом. И тем не менее Цветаева, по воспоминаниям историка литературы Ю.Г. Оксмана, «в своей растерянности» очень тянулась к Анне Андреевне.
Исключительно высоко оценивал творчество Цветаевой Иосиф Бродский. Именно с его высказывания мы начали этот очерк. В одном из интервью, которые в последние годы жизни он давал часто и охотно, Бродский заявил (не забыв при этом и себя), что «Цветаева – единственный поэт, с которым он отказывается соревноваться».
В творческую лабораторию поэта может проникнуть только другой поэт, к тому же соразмерный по дарованию, а потому лишенный сальеривских комплексов. Оценкам Бродского поэтому можно доверять полностью. Они – искренние. Именно он почувствовал, что Цветаева-поэт всю жизнь всем своим творчеством творила над собой «вариант Страшного суда». У нее всегда
голос правды небесной
против правды земной.
А потому вся ее поэзия – это обнаженный электрический провод, до которого нельзя дотрагиваться: убьет!
При жизни Цветаева была самым «незамеченным» (Викто-рия Швейцер) русским поэтом. Отметили ее уже потом. Возвеличили достойно тоже – потом. И поняли, наконец, что вне зависимости от отношения к ее творчеству все равно она навсегда останется в русской поэзии «самой трогательной, самой больной, всем нам болящей, фигурой». Это слова Ю. Карабчиевского, которого мы часто упоминали в очерке о Маяковском.
И еще поняли потомки: сравнивать Цветаеву с кем-либо или, как выразился Бродский, «соревноваться» с нею, бесполезно. Нельзя состязаться с бесконечностью: ее поэзия «безмерна», как точно подметила Ирма Кудрова. Но вот природу этой безмерности не разгадать принципиально, ибо у каждого гения – своя индивидуальная безмерность, «мерность» которой не знает даже он сам.
Теперь два слова о мнении тех, кто был равнодушен к ее творчеству либо не признавал его вовсе.
Известный русский философ Ф.А. Степун, высланный в 1922 г. из СССР на всем памятном «философском пароходе», познакомился с Цветаевой в эмиграции. Сам он стихов не писал. Не очень согрели его душу и цветаевские строки. Но конкретные проявления ее дарования заметил сразу. Они бросались в глаза: «Было, впрочем, – писал он, – в Марининой манере чувствовать, думать и говорить и нечто не вполне приятное: некий неизничтожимый эгоцентризм ее душевных движений. И, не рассказывая ничего о своей жизни, она всегда говорила о себе… Не будем за это слишком строго осуждать Цветаеву. Настоящие, природные поэты, которых становится все меньше, живут по своим собственным, нам не всегда понятным, а иной раз и малоприятным законам».
Да, Цветаева жила по «своим законам». Со стороны это могло выглядеть как угодно: ей это было безразлично. Ее штатный недоброжелатель в эмиграции, литературный критик Г. Адамович, заметил как-то, что Цветаева постоянно жила, как живут больные люди, «с температурой 390». Так ему виделось с его шестка.
Ничего заслуживающего внимания не находил в поэзии Цветаевой и Иван Бунин. Его собственное дарование вполне укладывалось в рамки понятной всем «нормы». И того же он требовал от других «дарований». А коли они не могли разместиться в заданной рамке, то и выпадали за пределы его приятия. В глазах нашего первого Нобелевского лауреата по литературе подобной оценки удостоилась не одна Цветаева, а и многие другие. Бунин редко кого усаживал на «литературный диван» рядом с собой. Так что пусть ей не будет обидно. К тому же она никогда и не претендовала на восхищение снобов.
В отношении к Цветаевой Бунин оказался в одной компании с лидерами советской пролетарской литературы: М. Горьким и В. Маяковским.
Как видим, она на самом деле жила как бы вне людей. Ее отторгали даже те, кого она позволяла себе любить, – Маяковский, например.
13 октября 1927 г. Пастернак отправил письмо Горькому. В нем он высоко оценил талант Цветаевой. В ответном же письме прочел: «С Вашей высокой оценкой дарования Марины Цветаевой мне трудно согласиться. Талант ее мне кажется крикливым, даже – истерическим, словом она владеет плохо и ею, как А. Белым, владеет слово. Она слабо знает русский язык и обращается с ним бесчеловечно, всячески искажая его…»
Пастернак не стал портить отношения с Горьким из-за Цветаевой. Он лишь кокетливо написал ему, что ни М. Цветаеву, ни А. Белого он ему, Горькому, не уступает. И далее слова, вполне приятные пролетарскому гуманисту: «…как никому никогда не уступлю и Вас». Это политес. Главное – в том, что Пастернак «уступил-таки» Цветаеву Горькому. Суть – в этом. Остальное – слова.
* * * * *
Марина Ивановна Цветаева была привлекательной женщиной. Фигурка при хорошем (для женщины) росте 163 см была стройной, осанка прямой («горделивой»). Лицо худое, тонкое. Нос с горбинкой. Волосы густые, прямые, рано начавшие седеть. Но главное – глаза: «зеленые, цвета винограда, окаймленные коричневыми веками». Такими их запомнила Аля. Цветаева страдала очень сильной близорукостью, но очки никогда не носила. Возможно, по этой именно причине всегда смотрела как бы мимо собеседника и никогда – в глаза. Такая манера общения уже сама по себе сразу же настраивала любого против нее: кому понравится, что она тебя «не видит» и смотрит, как сквозь прозрачный предмет.
Понятным становится и редкое, вообще говоря, сочетание надменности и растерянности, которое подметил в молодой Цветаевой И. Г. Эренбург. Роман Гуль добавляет: «Как женщина Цветаева не была симпатичной». Это, конечно, только на его вкус. И продолжает: в ней было что-то мужское, мужественное. Ходила широким размашистым шагом, на ногах же – наглядное подтверждение ее бедственного состояния – стоптанные полумужские ботинки.
В 17 лет Марина начала курить и не прекращала до конца жизни. Курила дешевые сигареты и чрезмерно много, отчего пальцы ее постоянно были желтыми, прокуренными.
Гимназию не закончила – стала раздражать рутина. Общепринятое откровенно и демонстративно презирала. Вероятно, по этой причине, как цыганка, носила никак не вяжущиеся с ее вкусом многочисленные дешевые кольца.
Была немногословна. Говорила, как письма писала, – не словами, а сразу готовыми формулами. Но коли «заводилась», была неудержима. Тогда те, кто не очень ей симпатизировал, старались стушеваться, чтобы не попасться ей «под язык», ибо Цветаева была заведомо умнее и «острее» любого своего оппонента.
Но это, повторяю, было не часто: только когда ей наступали на ее же принципы. Если же Цветаева была «в норме», то есть спокойной и доверчивой, она тут же превращалась из агрессивной тигрицы в ласкового и доверчивого котенка. «Я к каждому с улицы подхожу вся. – Писала она мужу 25 октября 1917 г. – И вот улица мстит. А иначе я не умею, иначе мне надо уходить из комнаты. Все лицемерят, я одна не могу».
Еще об одной грани своей натуры Цветаева 21 июля 1916 г. поведала в письме к П. Юркевичу: «Теперь я знаю и говорю каждому: мне не нужно любви, мне нужно понимание. Для меня это – любовь… Я могу любить только человека, который в весенний день предпочтет мне березу. – Это моя формула.
… Вся моя жизнь – роман с собственной душой, с городом, где живу, с деревом на краю дороги, – с воздухом». Все это, конечно, чистой воды «сочинение на заданную тему»: сколь реалистичное, столь и воображаемое. Цветаева была всякой и любила по-всякому. И романы у нее были и с березами, и с воздухом, и с женщинами, и с вполне здоровыми, лишенными всякого романтизма мужчинами. Всё было.
… В 1914 г. Марина серьезно увлеклась больным туберкулезом братом своего мужа, да так сильно и серьезно, что с началом войны Сергей Эфрон решает бежать от этого унижения на фронт, чтобы не быть «на пути ее жизни». Спасает ситуацию смерть Петра Эфрона.
Вскоре Цветаева в гостях у А. Герцык знакомится с Софией Парнок (русской Сафо) и безоглядно влюбляется в нее. Парнок сама писала стихи, но след в русской поэзии оставила не по этой причине – долгое время она была «возлюбленной Цветаевой». Марина с детства чувствовала себя бисексуалом, ее влекло к женщинам. Парнок она полюбила вполне по-земному. В результате этой «странной любви» родился цикл необычной любовной лирики Марины Цветаевой.
С. Эфрон был в отчаянии. Он в это время служил «братом милосердия» в санитарном поезде и всё, разумеется, знал. Марина никогда ничего от него не скрывала. Что-либо предпринять он был бессилен: слишком пылко еще любил Марину, чтобы бросить ее, и слишком был слаб для столь решительного шага. И это он прекрасно понимал. А Марина была сильной натурой, влиять на нее он был не в состоянии. На счастье С. Эфрона роман с Парнок сошел на нет сам по себе уже к началу 1916 г.
Марина, как видим, не могла жить вне любви. И не жила. Для нее любовные романы были необходимы, они давали толчок поэтическому воображению. Близость ей на самом деле чаще всего была не нужна, ей вполне хватало ласки словом. Она сама говорила, что для тех, кто ей в данный момент был дорог, она хотела бы стать «не любовницей – любимицей». Ей было куда важнее, чтобы любили не ее, как женщину, а ее мир. Марина пишет в одном из писем: «Любите мир во мне, а не меня в мире».
И тем не менее, если он не разделял ее понимание любви, она чаще всего не спорила: уступала. Причем изменой мужу это не считала. Главное для нее, чтобы она могла с объектом своей влюбленности собеседовать. К подобному восприятию любви почти все ее избранники относились без понимания. Потому она своим «собе-седничеством» быстро перекармливала того, кто был ей в данный момент близок, и тот старался при первой возможности улизнуть. Либо она выбрасывала его из своей жизни, как выбрасывают одноразовую посуду.
Всех, кого она любила (каждого – по-своему), мы вспоминать не будем. Зачем? Подобная бухгалтерия ничего не прояснит. Коснемся вкратце лишь одного ее страстного увлечения 1923 г., вполне женской, без всяких «цветаевских штучек», ее любви к Константину Родзевичу, «лукавому и лживому, – как писала В. Швейцер, – человеку небольшого роста с розовыми щеками».
К. Родзевич был сыном генерала царской армии, воевал в гражданскую сначала за красных, затем, попав в плен к белым, быстро сменил окрас. Красные (заочно) приговорили его к расстрелу, но он успел сбежать в Турцию, там познакомился с С. Эфроном и вместе с ним перебрался в Прагу. Он, как и Эфрон, стал впоследствии работать на НКВД, но оказался не столь лучезарно-востор-женным, как его друг, и в СССР не вернулся. Потому и дожил до старости.
Марина не могла остыть три осенних месяца 1923 г. Главный (для всех нас) итог этой бешеной страсти – шедевры лирики Цветаевой: «Поэма Горы» и «Поэма Конца».
Что тут скажешь? С. Эфрона полюбила девушка, почти девочка. К. Родзевича – молодая женщина, много страдавшая и не утолившая свою неуемную страсть. От мужа она, как и всегда, ничего не скрыла. Да это было бы и невозможно. Роман с Родзевичем не просто измучил Цветаеву, иссушил, он растерзал ее. «Я – без завтра», – писала Цветаева 10 января 1924 г. другому предмету своего недолгого увлечения журналисту А.В. Бахраху.
С. Эфрон, хотя он уже успел свыкнуться с этими Мариниными любовными вывертами, был в полном смятении, ибо видел: на сей раз – серьезно, до самого края, она потеряла голову от своей страсти.
Но что делать ему, как поступить? Ведь он ничего, решительно ничего не может сделать. Если Марина с головой кидается в воду, то он осторожно ее пробует – не холодна ли. Если она действует, то он рассуждает. Ему бы плюнуть на все, да уйти куда глаза глядят, а он раздевает свою душу перед Максимилианом Волошиным:
«Марина, – пишет Эфрон, – человек страстей… Отдаваться с головой своему урагану для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас – неважно. Почти всегда… вернее всегда всё строится на самообмане. Человек выдумывается и ураган начался. Если ничтожество и ограниченность возбудителя урагана обнаружатся скоро, Марина предается ураганному же отчаянию… Сегодня отчаяние, завтра восторг, любовь, отдавание себя с головой, и через день снова отчаяние… Вчерашние возбудители сегодня остроумно и зло высмеиваются (почти всегда справедливо). Всё заносится в книгу, всё спокойно, математически отливается в формулу».
Он давно, конечно, знал эту ее особенность – находиться в состоянии постоянной влюбленности в кого-либо. Сам он, как объект ее женской страсти, давно и безвозвратно ушел в прошлое. И новые увлечения сменяли друг друга с калейдоскопической быстротой. Эфрон, может быть, и не придавал бы им значения, не замечал их (слабому человеку так легче), но на сей раз Марина влюбилась по-настоящему, не как поэт, а как женщина.
С. Эфрон решает уйти из семьи. Сказал об этом Марине. Но не ушел, а лишь «навязал ей дискуссию» на эту тему. Она – против разрыва. Уже не любит, но ей будет невыносимо, если «ее Сережа» окажется где-то один. Жить вместе по-людски уже не могли: раздражение по каждому пустяку, скандалы, озлобленность. И тем не менее Цветаева не может снять эти вериги: они венчаны, и она обязана нести свой крест и далее.