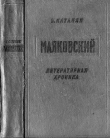Текст книги "От каждого – по таланту, каждому – по судьбе"
Автор книги: Сергей Романовский
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
В третий раз Горький посетил СССР в 1931 г. Сталин дал ему понять: пора кончать гастроли, надо перебираться окончательно. Писателю выделили под жилье роскошный особняк в самом центре Москвы (дом Рябушинского), дачу в Горках за трехметровым кирпичным забором. Одним словом, всё, что положено подлинно пролетарскому писателю.
По просьбе Председателя ОГПУ Г. Ягоды Горький в 1931 г. вошел в более тесное соприкосновение с лидерами РАПП, чтобы «обнажить» их перед органами. Горький задание принял. Тем более, что Л. Авербаха терпеть не мог.
1931 – 1933 гг. – время наибольшей близости Горького и Сталина. Вождь часто навещает писателя. Между ними идет активная переписка. Горький понял: Сталину необходимо его перо. О Ленине ведь написал. И неплохо. А чем хуже он? Ведь великую индустриальную державу строит. Надо бы увековечить. Но Горький все тянул. Уехал в Сорренто (в Москве не дают сосредоточиться), просил прислать материалы. Прислали. А перо все никак ему не подчинялось. В 1932 г. понял окончательно – написать не сможет. «Как великолепно развертывается Сталин», – писал Горький в 1932 г. А.Б. Халатову. А сам «развернуться» не смог. И не потому, скорее всего, что совесть писательская ему это сделать не позволила. К такому предположению нет абсолютно никаких оснований. Просто, как у певца иногда пропадает голос, так и у писателя желчь выжигает талант. Так случилось и с Горьким. Он просто не мог уже написать ничего путного.
Выручил Анри Барбюс. Ключевая мысль его очерка: «Сталин – это Ленин сегодня». Вскоре Барбюс умер.
В апреле 1932 г. Горький приехал в СССР в четвертый раз. С небывалым размахом отметили 40-летие его литературной работы. Именно в том году его имя разлетелось во множестве экземпляров по колхозам, поселкам, улицам, переулкам, площадям, садам и скверам, театрам и школам, институтам и станциям метрополитена. И т.д. И т.д. Горький был канонизирован, только по светскому обряду.
И еще в тот приезд Горького до глубины души потряс подвиг пионера Павлика Морозова, донесшего на своего отца. Горький плакал: наконец-то идея возвысилась над нравственностью. Какое счастье!
На этот раз Горький из СССР уехал в Сорренто только за «багажом». Ибо понял – после подобных воздаяний уезжать из страны просто глупо. Тем более, ему намекнули, что легкие можно лечить и в Крыму.
Летом 1933 г. Горький вновь в СССР. На сей раз – навсегда. Приехал в самый разгар жуткого голода, спровоцированного «ускоренной коллективизацией». Но ему сказали так: да, есть небольшие перебои с продовольствием. Виновны кулаки. Выявим и добьем.
Свою работу в СССР Горький начал масштабно, с размахом. В августе 1933 г. он организовал через Г. Ягоду поездку громадной бригады писателей (более 100 человек) на строительство Беломорско-Балтийского канала, соединившего Белое море и Онежское озеро. Трудились там сотни тысяч заключенных и надо было «правдиво воспеть» работу органов по перевоспитанию заблудших. Сказано – сделано. В 1934 г. толстенный том с многочисленными иллюстрациями «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина» увидел свет. Горький написал вводную статью «Правда социализма». Название более чем двусмысленное, но тогда никто об этом не мог даже подумать. По словам Александра Солженицына, это стало очередным позором советских писателей, ибо «впервые в русской литературе» был восславлен «рабский труд».
В том же 1934 г. еще одно грандиозное событие – I съезд Союза советских писателей. И вновь у штурвала – Горький. Съезд этот организационно завершил дело давно начатое – ликвидацию многочисленных писательских объединений с созданием единого для всех отстойника, куда можно было попасть, пройдя сложную систему идеологического шлюзования.
Горький занимался этой работой с упоением. Ему льстило, что он еще и официально – первое писательское перо Союза. Он – вождь!
Съезд открылся 17 августа. Заседания проходили в Колонном зале Дома Союзов. На фронтоне портреты Ленина, Сталина и Горького. Сколько же в СССР завелось писателей, если уже в 1934 г. только делегатами съезда были избраны 372 человека. Съезд напоминал карнавал: писатели в национальных одеждах, оркестр в фойе, зал украшают гирлянды цветов, непрерывные одна за другой депутации с мест – и все с декламацией, со здравицами, со льстивыми стихами.
У штурвала съезда – А.А. Жданов. Но основной доклад делал, конечно, Горький. Наглость тогда ценилась как уверенность в своей правоте. Поэтому никого не удивили горьковские слова: «Мы выступаем как судьи мира, обреченного на гибель, и как люди, утверждающие подлинный гуманизм… гуманизм силы».
Еще до съезда написал Сталину. Он уже знал все «правила игры» в этой новой для него стране, усвоил прочно, что даже писательские дела без Хозяина не решаются. Поэтому предупредил, что коли руководить Союзом писателей будут люди типа Фадеева или Панферова, то он просит не занимать его время на абсолютно зряшную работу. Ибо был уверен, что «люди без таланта» повысить качество работы писателей не смогут.
Не помогло. Хоть и не на первых ролях, но в Правление они вошли – Фадеева Сталин любил. Ну, а за идеологической чистотой советских писателей теперь наблюдал А. Щербаков, «“скорпион”, едва умевший читать и писать».
М. Пришвин заметил абсолютно точно, что после писательского съезда началось «садистское совокупление литературы с советской властью».
* * * * *
Горькому оставалось жить чуть менее двух лет. Судьба, которую он сам выбрал для себя, в небесной канцелярии подводила его жизнь к естественному (при такой судьбе) финалу.
Когда он сделал всё, что от него ждали: поддержал ускоренную коллективизацию, многочисленные судебные расправы над советской интеллигенцией, все внутриполитические начинания вождя, включая организацию Союза писателей, – он более советскому руководству был не нужен. Его накрепко изолировали от не профильтрованного ОГПУ общения, и он тихо доживал свои дни в особняке на Никитской.
Конечно, ему было не сладко практически в полной изоляции. Но такая жизнь – не «лучшее оправдание Горького перед лицом истории», как считает Л. Спиридонова, а всего лишь нормальная плата по счетам той же истории.
Он в нее «вляпался» еще в начале века. Теперь – платил.
18 июня 1936 г. Горький умер. Сам ли, либо ему «помогли» Сталин и Ягода, гадать не будем. Ибо эта загадка без разгадки.
Зато другая загадка, касающаяся вклада Горького в духовное закабаление страны, вполне по силам молодым исследователям, не отягощенным традициями советского горьковедения.
Михаил Булгаков
«В своих произведениях я проявлял
критическое и неприязненное отношение
к Советской России»
Михаил Булгаков
Начнем этот очерк с двух цитат.
15 марта 1940 г., через несколько дней после смерти Михаила Афанасьевича Булгакова, Александр Фадеев, крупный литературный функционер, ранее не признававший ни творчества Булгакова, ни самого писателя, но вынужденный по долгу службы навестить смертельно больного и опального сочлена, написал затем вдове столь проникновенные строки, что создается впечатление, будто не «Мастер и Маргарита» его пленили, а только «Маргарита».
Фадеев пишет Елене Сергеевне Булгаковой: «Мне сразу стало ясно, что передо мной человек поразительного таланта, внутренне честный и принципиальный и очень умный, – с ним, даже с тяжело больным, было интересно разговаривать, как редко бывает с кем. И люди политики и люди литературы знают, что он человек, не обременившей себя ни в творчестве, ни в жизни политической ложью, что путь его был искренен, а если в начале своего пути (а иногда и потом) он не все видел так, как оно было на самом деле, то в этом нет ничего удивительного. Хуже было бы, если бы он фальшивил».
И вторая цитата. 16 января 1961 г. Е.С. Булгакова пишет в Париж брату своего мужа Николаю Булгакову: «Вы очень верно сказали о том, что не всякий выбрал бы такой путь. Он мог бы, со своим невероятным талантом, жить абсолютно легкой жизнью, заслужить общее признание. Пользоваться всеми благами жизни. Но он был настоящий художник – правдивый и честный. Писать он мог только о том, что знал, во что верил. Уважение к нему всех знавших его или хотя бы только его творчество – безмерно. Для многих он был совестью».
Все верно в этих восторженных строках, кроме главного. Как оно «на самом деле», знали только большевистские вожди, да их литературные гувернеры, типа Фадеева. Все остальные пропускали факты жизни сквозь свою совесть и в их произведениях жизнь оказывалась такой, какой видели ее именно они. И их не интересовало, как какие-то конкретные явления толкуются «на самом деле». Это метастазы диалектического материализма, который сократил все «сущности», оставив одну, и именно она давала знать – как оно было на самом деле.
И еще. Не мог Булгаков «жить абсолютно легкой жизнью». Так бы хотела жить его жена. Быть же правдивым и честным в сталинские годы означало одно: постоянное чувство неустойчивого равновесия между ГУЛАГом и собственным кабинетом. Да и пишут все (Булгаков в этом смысле – не исключение) только о том, что знают и во что верят. Только одни всю жизнь искали свою правду, другие же искренне верили передовицам «Правды». В этом разница между Михаилом Булгаковым и Андреем Платоновым, с одной стороны, и Юрием Олешей и тем же Александром Фадеевым, да и еще сотнями других советских писателей, – с другой.
Булгаков свою писательскую судьбу выбрал сам и выстроил сам. Причем он не мог питать и не питал никаких иллюзий о своих отношениях с советской властью. Будучи по образованию «лека-рем», он тем не менее социальным диагностом оказался даже более виртуозным, чем некогда медицинским: болезни общества, даже будущие, которые еще лишь вызревали в его политическом чреве, он распознавал мгновенно. И это знание столь же стремительно проникало в его творчество. Поэтому отторжение сочинений Булгакова социалистической системой было изначально задано самим писателем, ни на что другое он рассчитывать не мог. Хотя рассчитывал, конечно.
26 октября 1923 г. Булгаков делится своими мыслями с дневником: «Мне с моими взглядами, волей-неволей выливающимися в произведения, трудно печататься и жить». А жить хотелось, причем очень хорошо жить.
Вся жизнь Булгакова – это сплошной клубок неразрешимых противоречий между действительным и желаемым. Действительное – то, что он идейный враг большевизма. Нелюбовь же, что хорошо известно, всегда взаимна. Поэтому желаемое так и оставалось желаемым. И обижаться писателю было не на кого. И даже тот факт, что проза Булгакова не печаталась с конца 20-х годов вплоть до 60-х, также вполне укладывается в эту логику. Как только ответвления политического русла социализма стали одно за другим превращаться в старицы, т.е., выражаясь на политическом сленге, стали водоемами «застойной идеологии», Булгакова начали дозировано прописывать советскому читателю.
Булгакова, как писателя, создала советская власть так же, как его великого предшественника, Салтыкова-Щедрина, – власть царская. Оба сатирики, обличители. Булгаков, как умел, издевался над советской властью, более того – над коммунистическими идеалами. Власть же, как хотела, издевалась над писателем, унижала его. Причем закономерность можно отметить поразительную: чем сильнее давил на писательское перо идеологический пресс, тем более и более талантливыми оказывались вырывавшиеся из-под тотального гнета его творения. А когда устал сопротивляться, написал Булгаков панегирическую пьесу «Батум», и вместе с ней вышел из него и дух писательский.
Как будто про него сказал герой лучшей булгаковской пьесы «Бег» генерал Хлудов, обращаясь к рядовому Крапивину:
– Плохой солдат! Ты хорошо начал, а кончил скверно!…
Судьбой Булгакова стало посильное ему писательское сопротивление системе, в которой он был вынужден существовать. И оттого – страдание. Безмерное для художника с несовместимой для социалистического общества мерой эгоцентризма.
Еще в годы учебы в университете Святого Владимира в Киеве Булгаков увлекся учением Фридриха Ницше, порвал с Богом, уверовал в свою исключительность и великое (как вскоре он для себя выяснил) предназначение. Эгоизм Булгакова, как считала его сестра Надежда, питался необузданной «сатанинской гордостью»: людьми для него, как и для его любимого Воланда, были лишь те, кто с ним, точнее – за ним безоглядно; он бросал друзей, портил отношения с родными, даже жен менял как раз в тот момент, когда это было нужно его ego. «У Миши, – говорила его сестра, – терпимости не было».
2 сентября 1923 г., когда Булгаков еще ничего по сути не написал, он тем не менее уверенной рукой выводит в дневнике: «… в гнусной комнате гнусного дома у меня бывают взрывы уверенности и силы. И сейчас я слышу в себе, как взмывает моя мысль, и верю, что неизмеримо сильнее как писатель всех, кого я ни знаю. Но в таких условиях, как сейчас, я, возможно, пропаду».
Вполне допустимо, что и в своих известных посланиях Правительству и лично И.В. Сталину Булгаков позволял себе «невоз-можное» в силу все того же ницшеанского эгоцентризма, для которого нет ничего невозможного, если того хочет мое «Я». Оттого для Булгакова даже Сталин был хоть и всемогущим, но не всесветным. Всё – только он! Уверовав в это сам, он тут же и страх потерял, да и осторожность, контролировавшая ранее его язык, ушла напрочь; он мгновенно утратил ту совковую интеллигентскую «шарико-вость», которой страдали практически все его современники.
Еще один нюанс – в том, что Булгаков начал писать в годы революции, выбор тем для творчества тогда диктовала лишь его внутренняя потребность художника, никаких привходящих обстоятельств еще не было, а когда они появились, он уже полностью, как писатель со своей нишей общения, сформировался, и тут же обозначились непримиримые противоречия между его желаниями, чтó писать, и желаниями власти, чтó печатать. Пропасть с годами лишь расширялась.
В 1926 г. Булгакова допрашивали в ОГПУ (об этом – далее). Так вот, в протоколе допроса с его слов записано, что деревню он «не любит», о рабочих ему писать неинтересно и он не будет о них писать. И далее: «Я всегда пишу по чистой совести и так, как вижу». Причем не скрывает – ему интереснее отрицательные стороны жизни (писать о положительных и без него тьма желающих). «Я – сатирик».
А через четыре года в письме Правительству СССР от 28 марта 1930 г. Булгаков проставит все точки над i: он видит главную причину своих писательских бед в упорном изображении «русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране».
И это верно. Большевики интеллигенцию терпеть не могли. Булгаков же ее живописал. Причем любил он интеллигенцию не всякую, а только русскую. Советская же интеллигенция для него – это Шариковы, только в очках и шляпах да еще с бородкой клинышком. И еще перепуганные насмерть. Такие интеллигенты были не в оппозиции к власти, а славили ее, верили ей. Страх советского интеллигента настолько подавлял совесть, что даже интимные дневники многие вели с оглядкой на ОГПУ: сделают обыск, изымут, прочтут, порадуются – свой. И отпустят.
Верить поэтому «на слово» тем, кто поверял свои мысли бумаге в годы жизни Сталина, надо с большой осторожностью. Тем более, когда это касается не дневников, писем, а воспоминаний. Они все – оглядочны.
Дневник Е.С. Булгаковой представляет в этом смысле редкое исключение. Вот ее запись 7 апреля 1937 г. Булгакова вызвали в ЦК для очередного идеологического «вливания»: «Миша смотрит на свое положение безнадежно. Его задавили, его хотят заставить писать так, как он не будет писать».
И не писал. Даже его жалкая пьеса «Батум» написана искренне, «от желания». А вот от какого – вопрос интересный.
Анна Ахматова в 1940 г. написала прекрасное стихотворение «Памяти Булгакова». Оно – о его судьбе, о его «скорбной и высокой жизни»:
Вот это я тебе, взамен могильных роз,
Взамен кадильного куренья:
Ты так сурово жил и до конца донес
Великолепное презренье.
Ты пил вино, ты, как никто, шутил,
И в душных стенах задыхался,
И гостью страшную ты сам к себе впустил,
И с ней наедине остался.
И нет тебя, и все вокруг молчат
О скорбной и высокой жизни,
Лишь голос мой, как флейта, прозвучит
И на твоей безмолвной тризне.
О, кто поверить смел, что полоумной мне,
Мне, плакальщице дней не бывших,
Мне, тлеющей на медленном огне,
Всех потерявшей, всех забывшей, –
Придется поминать того, кто, полный сил,
И светлых замыслов, и воли,
Как будто бы вчера со мною говорил,
Скрывая дрожь смертельной боли.
Булгакова, что мы уже отметили, начали возвращать советскому читателю в 60-е годы, причем малыми порциями: «Жизнь господина де Мольера» (1962 г.), «Записки юного врача» (1963 г.), «Белая гвардия» (1966 г.), «Мастер и Маргарита» (1966-1967 гг.), «Собачье сердце» (1987 г.).
Про «оттепель» уже забыли (да была ли она?). Поэтому, чтобы не насторожить бдивых цензоров, публикаторы и комментаторы булгаковских текстов старались не упоминать неудобные факты его биографии, чтобы его жизнь укладывалась в каноны и была «в духе». Вот так, как будто во благо удовлетворения нашего читательского голода, лепился миф о просоветски настроенном писателе, сочинения которого были неприемлемы только во времена культа; мы же стали умнее, система – еще нерушимее, нам поэтому читать их вполне можно.
Так, впустив в наши души одного Булгакова, коммунисты мгновенно девальвировали десятки других имен, коими нас пичкали в течение десятилетий. Сук, на котором мы все сидели, стал еще сильнее трещать…
* * * * *
Булгаков был блестящим, веселым «человеком в футляре», он был всегда застегнут на все пуговицы, не терпел панибратства и фамильярности. В начале 20-х годов одна «бабочка» на шее, да монокль в правом глазу, да безупречно сидящий костюм-тройка говорили о нем больше, чем многие страницы воспоминаний его случайных знакомых.
Если Маяковский – футурист своей лимонно-желтой кофтой эпатировал публику, выражая таким манером свое презрение к прошлому, то монокль Булгакова, напротив, с отвращением отбрасывал все нынешнее: наносное и неестественное. Когда все с пролетарской твердостью пожимали руку «товарищу женщине», он целовал ручки дамам. Как никто, умел раскланиваться, входя в комнату. А его длинная до пят шуба, которую он носил в 20-х годах, могла свести с ума или довести до белого каления.
В дневнике, да и во многих письмах начала 20-х годов Булгаков постоянно жалуется на нужду, на жизнь впроголодь. Но как только объявлялся гонорар за очередной фельетон, обязательно – либо что-то из мебели, либо костюм и непременно – в ресторан. Булгаков упорно не желал быть и жить как все – безлико и однообразно. Большевики лишили его привычного социального слоя и он делал все, чтобы, хоть внешне, восстановить его. Поэтому перегоревшая лампочка для Булгакова была равносильна общественному катаклизму.
17 ноября 1921 г. он обещал матери в три года «восстановить норму – квартиру, одежду, пищу и книги. Удастся ли – увидим». Не удалось. Жизнь оказалась сильнее желаний.
И еще. Булгаков родился, конечно, не в своем веке. Свой для него – XIX век, где любимо всё – и литература прежде всего. Никаких новомодных литературных течений «серебряного века» он не признавал. Для него в равной мере были неприемлемы ни акмеизм, ни имажинизм, ни футуризм. Да и стихи он, надо сказать, не жаловал.
Как не переносил всего того, что пытались ему навязать большевики: и в литературе (В. Маяковский, Д. Бедный), и в искусстве (Вс. Мейерхольд), и даже в быту (коммунальные квартиры, бесконечные очереди за всем и чиновные канцелярии по любому поводу). Булгаков не любил всех, воспевавших или хотя бы просто любовавшихся советской властью.
Революционные события, которые Булгаков имел неудовольствие лицезреть в 1918-1919 гг. в его родном Киеве, городе «бес-системной» политики, сделали из него, закоренелого консерватора, который поначалу не хотел быть ни белым, ни красным, человека с отчетливой «белой ориентацией». Ее он не смог скрыть ни в «Белой гвардии», ни в «Днях Турбиных», ни в «Беге». И Сталин это заметил сразу.
Сама же революция его ужаснула своей грязью, жестокостью и кажущейся бессмыслицей.
Уже в самой первой своей публикации, в газетном фельетоне «Грядущие перспективы», напечатанном в газете «Грозный» 26 ноября 1919 г. (она выходила во Владикавказе, когда там была власть генерала А.И. Деникина), Булгаков в безнадежно мрачных тонах рисовал будущее своей родины:
«Герои добровольцы рвут из рук Троцкого пядь за пядью русскую землю.
… И ее освободят.
Ибо нет страны, которая не имела бы героев, и преступно думать, что родина умерла.
Но придется много драться, много пролить крови, потому что пока за зловещей фигурой Троцкого еще топчутся с оружием в руках одураченные им безумцы, жизни не будет, а будет смертная борьба… * * 8 января 1924 г. Булгаков сокрушается в дневнике: «Троцкого выставили. Что будет с Россией, знает один Бог. Пусть он ей поможет!» А ведь знал он еще по Киеву, что Троцкий – это палач. Теперь же Россия без него пропадет. Тут противоречий нет. Просто – это эмоции, отражающие разный внутренний социальный заказ: в 1919 г. – один, в 1924 г. – другой.
[Закрыть]
Негодяи и безумцы будут изгнаны, рассеяны, уничтожены».
За эту сумасшедшую социалистическую революцию придется платить и детям и внукам. Это Булгаков уже тогда понимал превосходно.
Вот как круто замесил в самом начале своей, пока журналистской, карьеры Булгаков.
Но как только белое движение проиграло гражданскую войну, и большевики утвердились в завоеванной ими России, Булгакова стали интересовать дела международные, чего ранее за ним не замечалось. Причина очевидна: он понимал, что если эта социальная зараза, крайне соблазнительная для неимущего интеллекта, перекинется в другие страны, то и в России власть большевистская только упрочится.
«Для меня нет никаких сомнений в том, – писал Булгаков в своем дневнике 30 сентября 1923 г., – что эти второстепенные славянские государства, столь же дикие, как и Россия (он имеет в виду балканские страны. – С.Р.), представляют великолепную почву для коммунизма».
Но что делать? Россия в коммунизм уже вляпалась. И он вместе с нею. Значит придется жить, строя «светлое будущее». И лучше это делать, что естественней для русского человека, с царем в голове. Только теперь место царя всамделишного заняли цари партийные: Ленин, Троцкий, Сталин. Их Булгаков принял сразу. Без хозяйского понукания, без указующего перста, без плетки на конюшне русскому человеку – зарез.
Туда же и Булгаков. О Троцком мы уже вспомнили. О Сталине речь впереди. А Ленин 21 января 1924 г. умер. Булгакова, как корреспондента газеты «Гудок», направили морозиться в бесконечной очереди в Колонный зал, чтобы затем описать в газетном очерке людскую скорбь. И он справился с заданием. 27 января 1924 г. газета напечатала его статью «Часы жизни и смерти». Свой восторг по поводу деяний почившего вождя Булгаков не скрывал * * В книге Бориса Соколова «Три жизни Михаила Булгакова» (М., 1997. 432 с.) развивается мысль о том, что к Ленину Булгаков относился «совсем не позитивно». И даже образ профессора Владимира Ипатьевича Персикова в повести «Роковые яйца» якобы – пародия на Ленина. Но это все именно «якобы». Доводы, которые приводит автор, явно притянуты за уши. Их даже обсуждать не хочется.
[Закрыть].
Булгаков, повторяю, был консерватором и прагматиком. Власть большевистскую он, само собой, не любил. Но она – реальность. Любые же насильственные перемены приведут к очередному, еще большему хаосу. Поэтому он с содроганием пишет в дневнике о том, что «будто по Москве ходит манифест Николая Николаевича. Черт бы взял всех Романовых! Их не хватало» (Запись 24 февраля 1924 г.). Провинилась династия – допустила на российскую землю заразу большевистскую. Так что убрались, и на здоровье. Вернутся – не дай Бог! – еще большую беду накликают.
Еще не утихла боль гражданской войны. Жизнь пока убогая, нищая. Жалкая жизнь. Но все же – хоть какая-то стабильность. И даже внутрипартийная возня, которая усилилась после смерти Ленина, эту стабильную убогость поколебать не могла. Булгаков 20 декабря 1924 г. заметил абсолютно точно, что даже дружное нападение на Троцкого из-за его книги «Уроки Октября» «всех главарей партии во главе с Зиновьевым» (как о банде пишет. – С.Р.) ни к какому перевороту, на что уповает зарубежная контрреволюция, не приведут. «Троцкого съели и больше ничего». Самую суть системы уловил Булгаков: чтобы ни творили партийные «главари», в стране будет тишь да гладь, ничего не будет.
Прошли годы. Наступила «сталинская эра». Но и в те годы, как заметила М.С. Чудакова, взгляд Булгакова «на перевернувшие жизнь страны события принципиальных изменений не претерпел – что резко отличило его от многих соотечественников». И это, заметим уже мы, также стало фактом его судьбы…
Булгаков, как известно, начинал свою литературную карьеру как фельетонист. Так легче было упрятать авторское отношение к тому, о чем пишешь. Показателен в этом плане его рассказ «Спири-тический сеанс» (см. «Рупор», 1922. № 4).
Участники сеанса вызвали дух Наполеона и задали ему мучивший в то время почти всех вопрос:
– Дух императора, скажи, сколько времени еще будут у власти большевики?
– Те-ор… и… три… ме-ся-ца!
– А-а!!
– Слава Богу! – вскричала невеста. – Я их так ненавижу!
Считайте, что невеста «вскричала» голосом Булгакова. Так будет точнее.
Хотя, на самом деле, Булгаков наивен не был. И он видел, что большевики в России умостились всерьез и надолго. И жизнь свою пытался выстроить так, чтобы, не терзая свою совесть сомнениями, писать то, что хочешь, и, как результат, жить, как хочешь. Ан, не получилось. Сочинительство Булгакова всегда выходило против властной шерстки, а потому власть ему за подобное творчество платила не червонцами, а унизительными запретами и газетной травлей.
Булгакову в общем-то и писать во власть, т.е. Правительству и «лично товарищу Сталину», было незачем, ибо с ним (для властей предержащих) всё было ясно из его сочинений.
Еще один, чисто булгаковский, парадокс его натуры: с одной стороны, практически не скрываемая его позиция в отношении большевистской власти в повестях и пьесах, поразительная открытость и мужество в его письмах Правительству, его демонстративное «фрондерство» (Ю. Слезкин) в творчестве; с другой же стороны, крайняя осторожность в общении с людьми, открытая боязнь «ляпнуть» лишнее, страх за то, что ему припишут не его грехи. Последнее касается перевода его пьесы «Зойкина квартира» на французский язык. Булгаков искренне боялся, что при переводе в текст внесут антисоветскую отсебятину, а его… посадят.
О его отношении к происходившим событиям из его многочисленных писем мы не узнаем: даже к переворотам 1917 г. свое отношение в переписке он не выказал – не из-за трусости (тогда еще никто ничего не боялся), а из-за своей природной осторожности и оглядочности.
… Свое медицинское образование при Петлюре он скрывал, чтобы его не мобилизовали как врача. Не эмигрировал в 1921 г. из Батуми не только потому, что денег не было, главное – опасался, а вдруг там не сложится, вдруг он там никомусо своими сочинениями будет не нужен.
26 декабря 1924 г. в гостях у редактора «Недр» Н.С. Ангарского Булгаков резко высказался об ожесточившейся цензуре, «чего вообще говорить не следует». А через день читал в литературном салоне Е.Ф. Никитиной «Роковые яйца». Гостей было человек двадцать. «Боюсь, как бы не саданули меня за все эти подвиги “в места не столь отдаленные”».
Этими страхами Булгаков поделился с дневником. И тут же, со злобой: «Эти “никитинские субботники” – затхлая, советская, рабская рвань, с густой примесью евреев» * * Отношение Булгакова к евреям – тема особая. Ее мы касаться не будем.
[Закрыть] (подчеркнуто Булгаковым. – С.Р.).
И последний штрих. Уже в своей первой «Автобиографии» (1924 г.) Булгаков скрывает, что служил в Добровольческой армии и работал в газетах белых. Такую «осторожность» скорее можно назвать неосмотрительностью, ибо Булгаков отлично понимал, что ГПУ всё досконально знает о его метаниях времен гражданской войны, что и подтвердилось на его допросе в этом ведомстве в 1926 г.
* * * * *
Теперь – о главном. В литературу Булгаков входил широким, размашистым шагом, правда, часто менял походку: сначала это была прыгающая походка фельетониста-сатирика, затем вальяжная поступь всеми любимого драматурга. И только походку Булгакова– беллетриста современники так и не увидели.
М.С. Чудакова заметила, что 1920-1922 гг. Булгаков провел, как во сне, жалея, что не ушел с белыми. И даже не чистая политика тут в основе. Он сразу понял главное: писать, не изменяя совести, можно лишь одной манерой – лицедействуя, т.е. становясь неким литературным скоморохом. Но подобное оказалось не для Булгакова, ибо под напором его дарования обычное шутовство оборачивалось злой сатирой. Заработать на таких писаниях можно было не рубли, а место в камере на Лубянке.
А как же жить без заработка? Вот и приходилось Булгакову писать денно и нощно, писать наспех, что попало. Да и печатать, где попало. Абы деньги платили.
Так он начинал. Жил, конечно, бедно. «Питаемся с женой впроголодь», – рефрен его записей начала 20-х годов. Но не будем забывать, кто наш герой. Быть нищим – унижение для его эгоцентрической натуры. Они с женой могли днями ничего не есть, но как только в кармане начинали шелестеть банкноты, они жгли его. Супруги тут же мчались в магазин и что-либо покупали «для души». В 1923 г. они «для души» купили «будуарную мебель» да брюки на шелковой подкладке.
В 1927 г. у Булгаковых уже домработница, хотя детей у них не было. В начале 30-х, наведываясь в Ленинград, жил только в «Астории». Когда в третий раз женился, предыдущей жене купил однокомнатную кооперативную квартиру, а себе – трехкомнатную в писательском доме, в Нащокинском переулке. Летом снимали с женой дачу.
Еще штрих из дневника Е.С. Булгаковой: 11 апреля 1935 г. Булгаковы пригласили к себе домой секретаря американского посольства Чарльза Боолена, еще несколько человек на ужин: «…икра, лососина, домашний паштет, редиски, свежие огурцы, шампиньоны жареные, водки, белое вино». В том же году Е.С. Булгакова занималась меблировкой их новой кооперативной квартиры. Мебель желает непременно красного дерева (значит – старинную). Хочет купить антикварные фонари для коридора, побольше ковров. А уже через пять месяцев Булгаковым стало тесно в трехкомнатной квартире, и он подал заявление в правление об обмене его квартиры на четырехкомнатную. Наконец, 25 января 1936 г. купили Булгакову медвежью шубу до пят (из шкуры американского медведя гризли).
Конечно, можно сказать, что факты эти надерганы. Верно. Надерганы. Но если бы их не было, нечего было бы и «дергать». Это – к тому, что нищим в бытовом смысле, как Цветаева, Ахматова или Мандельштам в некоторые годы жизни, Булгаков никогда не был. Он бы пустил себе пулю в лоб. Булгаков жил, как жили в те годы интеллигенты более чем среднего достатка. То есть по меркам предвоенных лет, более чем сносно.
И вновь – о главном. Писательская среда так и не стала своей для Булгакова. В его доме писатели гостили не часто. Чаще бывали артисты да режиссеры. И это не случайно. Коллеги по перу различия в дарованиях замечали быстро, да и Булгаков не стремился слиться со средой для себя инородной. Он прекрасно видел, что его бывшие коллеги по газете «Гудок» – Ю. Слезкин, Ю. Олеша, В. Катаев, И. Ильф и Е. Петров, из кожи вон лезли, чтобы хоть как-то склеиться с советской властью. Булгаков же даже попыток не делал. Их это настораживало. Они стали сторониться Булгакова.