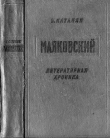Текст книги "От каждого – по таланту, каждому – по судьбе"
Автор книги: Сергей Романовский
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 29 страниц)
Вокруг меня уже ползает змейкой темный слух, что я обречен во всех смыслах…
Без всякого малодушия сообщаю тебе, мой брат, что вопрос моей гибели это лишь вопрос срока, если, конечно, не произойдет чуда».
Чуда не произошло.
* * * * *
Мы подошли к психологически очень интересному аспекту творческой судьбы Булгакова – его активной бескомпромиссной переписке с высшими должностными лицами страны. Зачем ему это было нужно? И как он решился на это? Вот два основных вопроса, на которые надлежит ответить.
На первый вопрос ответ очевиден: Булгаков прекрасно понимал, что его творческая манера вошла в непримиримое противоречие с советской системой и выход из этого видел только один – эмигрировать из СССР. То есть он перестал взвешивать, как в 1921 г., а начал активно действовать.
Ответ на второй вопрос не столь прост и ясен. Здесь, как говорится, возможны варианты. Выскажу лишь собственное мнение, ни на что однозначное не претендующее.
Мы отмечали уже, что Булгаков под влиянием философии Ф. Ницше с юности уверовал в свою исключительность, в свой гений. И эта вера, как оказалось, родилась не на пустом месте. Благодаря ей, он утратил страх перед системой, он перестал бояться власти. Отсюда, кстати, социальная и даже политическая ориентация его произведений, они отражали его отношение к большевистской идеологии и он даже не пытался скрыть свои позиции.
К тому же, побывав на допросе в ОГПУ в 1926 г., он понял: они всё про него знают и если бы хотели с ним поквитаться, поводов он сам дал более чем достаточно. А его не трогали. Значит он кому-то нужен, очень нужен. Не он лично, разумеется. Его пьесы. Ну, а кому – он понял сразу.
Да, Сталин мог лишь бровью повести, чтобы Булгакова растерли в лагерную пыль. Но он этого не сделал. Зачем? Пусть пишет. Пусть надеется. Пусть полюбит своего хозяина. А там посмотрим. Конечно, Сталин своего добился: Булгаков полюбил вождя…
Такова, как мне кажется, подоплека отчаянной бескомпромиссности Булгакова.
… Началась эта эпистолярная эпопея в феврале 1928 г. Булгаков просил выпустить его с женой на два месяца во Францию, чтобы осадить бывшего редактора «России» З.Л. Каганского, прибравшего к рукам права на произведения Булгакова. Моссовет, не опускаясь до объяснения причин, отказал.
Публичная травля писателя, между тем, набирала обороты. Он, принципиальный, мужественный человек, гениальный драматург, быстро превращался в заурядного мальчика для битья, лупцевать которого можно было абсолютно безнаказанно, ибо его лишили возможности даже ответить.
Доведенный до отчаяния, в июле 1929 г. Булгаков пишет письмо на имя И.В. Сталина, М.И. Калинина, начальника Глав-искусства А.И. Свидерского и писателя А.М. Горького. Письмо длинное, эмоциональное. Приведу из него лишь один абзац: «К концу десятого года (литературной работы. – С.Р.) силы мои надломились, не будучи в силах более существовать, затравленный, зная, что ни печататься, ни ставиться более в пределах СССР мне нельзя, доведенный до нервного расстройства, я обращаюсь к Вам и прошу Вашего ходатайства перед Правительством СССР об изгнании меня за пределы СССР вместе с женою моей Л.Е. Булгаковой, которая к прошению этому присоединяется».
Идея насильственной высылки становится для Булгакова маниакальной. Он чувствует, что сойдет с ума, если своего не добьется. 3 сентября 1929 г. он пишет еще секретарю ЦИК СССР А.С. Енукидзе, в тот же день – М. Горькому. Думает, что если они подскажут Правительству, как его легче выслать, то они и сделают так, как он хочет.
Никто ему не отвечает. И впредь отвечать не будет.
Жизнь Булгакову в самом прямом смысле слова спасла его любовь к Е.С. Шиловской, с которой, как мы помним, он познакомился в феврале 1929 г. Любовь придала Булгакову и мужества. Ибо 28 марта 1930 г. он пишет беспрецедентное по открытости свое очередное (самое значительное и самое известное) свое послание Правительству СССР. Оно, как тезисы доклада, состоит из логически связанных между собой положений. Их 11. Остановимся вкратце на аргументации Булгакова:
1) Доброхоты советуют: все пьесы запретили, так как они антисоветские, а ты сочини «коммунистическую пьесу», а заодно и отрекись публично от своих литературных взглядов, т.е. от всего написанного. Советам не внял: «коммунистическую пьесу» писать не будет, знает, что «такая пьеса» у него «не выйдет».
2) Чувствует, что стал самым популярным писателем: собрал в отдельный альбом 301 отзыв, из них похвальных – 3, враждебных – 298. Обзывали его, как хотели. Издевались так, как и над врагом не следовало бы. Называли его «литературным уборщиком», подбирающим объедки после того, как наблевала дюжина гостей. С какой целью так позволяли себе ругаться советские журналисты? Только с одной: доказать, что «произведения Михаила Булгакова в СССР не могут существовать». Он с этим вполне согласен.
3) Пьесу «Багровый остров» пресса назвала «пасквилем на революцию». Далее выстраивает свое идейное алиби: «Пасквиль на революцию, вследствие чрезвычайной грандиозности ее, написать невозможно. Памфлет не есть пасквиль, а Главрепертком – не революция» (Не пасквиль, но то, что памфлет – признал). Прямо пишет, что его главный писательский долг – «борьба с цензурой» (Читай: с советской властью, ибо она без цензуры немыслима). И далее: я горячий поклонник свободы печати «и полагаю, что если кто-нибудь из писателей задумал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода».
4) Признает: он – сатирик, ученик Салтыкова-Щедрина. Сатира же в СССР немыслима. Как верно писал его хулитель А. Блюм: «…всякий сатирик в СССР посягает на советский строй». И задает вопрос Сталину: так «мыслим ли я в СССР?»
5) Да, верно: в «Днях Турбиных», «Беге», в романе «Белая гвардия» он изобразил интеллигентов как представителей «лучшего слоя в нашей стране». При этом он, как писатель, классовых позиций не признает, он хочет «стать бесстрастно над красными и белыми», а его упорно считают белогвардейцем. Вывод: для СССР он человек конченый.
6) Все это есть «мой литературный и политический портрет. За пределами его не искать ничего. Он исполнен совершенно добросовестно» (А чего еще искать? Итак, более чем достаточно. После всего понаписанного даже в этом письме, было предельно ясно: Булгаков несовместим с советской властью. Но так рассуждаем мы. Сталин мыслил иначе:
– Не можешь жить с нами, свобод тебе, видите ли, не хватает. Уехать от нас хочешь? Нет! Будешь жить здесь! И страдать будешь! А когда выплачешь все слезы, полюбишь!)
7) «Ныне я уничтожен». Все пьесы запрещены. Причем только что написанная «Кабала святош» («Мольер») «к представлению не разрешена» (Думает, что разжалобит, сообщая тирану, что сжег начало «романа о дьяволе»(«Мастер и Маргарита». – С.Р.) и начало романа «Театр»).
8) Из отзыва Л. Авербаха и отзыва о нем Р. Пикеля следует, что он реакционный писатель, который даже под «попутчика» подлаживаться не желает. Как в таких условиях он может писать? И далее: «Я прошу принять во внимание, что невозможность писать равносильна для меня погребению заживо».
9) Просит Правительство СССР приказать ему «в срочном порядке покинуть пределы СССР в сопровождении моей жены Любови Евгеньевны Булгаковой».
10) Просит «отпустить на свободу».
11) Все мосты не сжигает, оставляет один: коли не отпустите, то дайте хоть работу в театре штатным режиссером. Нет? Могу быть и статистом. Нет? Сгожусь и рабочим сцены. Просит сделать что-нибудь, ибо у него «в данный момент, – нищета, улица и гибель».
Булгаков предусмотрел всё. Письмо отправил сразу по нескольким адресам: И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.М. Кагановичу, М.И. Калинину, Г.Г. Ягоде, А.С. Бубнову и Ф. Кону.
25 апреля 1930 г. Политбюро решило (!? – С.Р.): надо «Булгакову дать возможность работать, где он хочет».
Уверен, что Сталин потирал руки от удовольствия, читая это послание вконец отчаявшегося писателя. До окончательного влюбления в себя Булгакова оставалось сделать всего несколько удушающих движений.
Первое не заставило себя ждать. Да какое! После него Булгаков всю оставшуюся жизнь провел как во сне. Дело в том, что 18 апреля 1930 г. Булгакову позвонил… Сталин.
14 апреля застрелился Маяковский. 17 апреля были его похороны. Булгаков был на них. А 18 апреля этот звонок. Единственный свидетель разговора, обросшего вскоре неизбежным фольклором, Л.Е. Белозерская. Никаких слов о встрече не было. Это всё привиделось потом. Единственное, что Сталин просил Булгакова: не настаивать на отъезде. А работу получите.
Этот звонок не просто вынул голову Булгакова из петли. Он теперь жил им. Он стал для писателя навязчивой идеей. Он все ждал приглашения на встречу, но так и не дождался. В этом контексте надо рассматривать и всю последующую переписку Булгакова с верхами, его письма Сталину 5 мая 1930 г., 30 мая 1931 г. Он знал, что ничего не будет для него делать чиновная сволочь. Но он с маниакальностью обреченного всё напоминал и напоминал о себе. Он потерял самолюбие. Он влюбился в вождя!
А Сталин между тем делал и кое-какие послабления. Так, после письма Булгакова 30 мая 1931 г. Сталин, само собой, выезд писателю не разрешил * * Евгения Замятина за границу выпустили. Как будто чтобы специально еще раз унизить Булгакова. Это известие «оглушило» писателя.
[Закрыть], зато позволил поставить «Мертвые души» и «Мольера», а также возобновить «Дни Турбиных».
11 июля 1934 г. Булгаков пишет В.В. Вересаеву: у него появились какие-то нездоровые симптомы – «страх одиночества» (боится улиц). Добили его тем, что всем работникам МХАТА, подававшим прошения, выдали в 1934 г. заграничные паспорта, только ему одному «отказано».
Плюнули в очередной раз прямо в лицо. Булгаков даже слег.
* * * * *
В 30-х годах градус травли Булгакова не понижался. К газетной ругани он давно привык, притерпелся. Знал, чего стоят эти продажные писаки. Но не ведал он, слава Богу, мнения о себе тех, к кому он уповал в своих отчаянных письмах, на кого надеялся, на чью помощь рассчитывал.
… 12 ноября 1931 г. из Сорренто Горький пишет Сталину. В письме том есть слова и о Булгакове: «Булгаков мне “не брат и не сват”, защищать его я не имею ни малейшей охоты. Но – он талантливый литератор, а таких у нас – не очень много. Нет смысла делать из них “мучеников за идею”. Врага надобно или уничтожить, или перевоспитать. В данном случае я за то, чтоб перевоспитать. Это – легко».
Каков заступник? «Белую гвардию» хвалил, «Дни Турбиных» также. «Бегом» восхищался, «Мольера» поддержал… и все же не удержался – «стукнул» Хозяину: Булгаков – враг. Но – не опасный. Он еще сгодится. Так что не торопись ставить его к стенке, «дорогой товарищ».
… Более чем за год до этого «доброжелательного доноса» Булгаков писал своему другу П.С. Попову * * П.С. Попов, литературовед и философ, в 1944 г. написал донос на своего товарища А.Ф. Лосева и занял его кафедру в Московском университете. (См.: Б. Соколов. Три жизни Михаила Булгакова. М., 1997. 432 с.).
[Закрыть]: «Я ни за что не берусь уже давно, так как не распоряжаюсь ни одним своим шагом, а Судьба берет меня за горло».
Это не совсем так. В 1929 г. Булгаков за несколько месяцев (он все делал быстро) написал «Кабалу святош». Почему вдруг XVII век?
Причина, думаю, в том, что «Бег» к тому времени сняли с репертуара МХАТа, и театр потребовал, чтобы Булгаков вернул аванс. А где его взять? Его давным-давно уже не было. Проще ему написать новую пьесу. И он выбрал, как ему казалось, беспроигрышный (на сей раз) сюжет: жизнь французского комедиографа XVII века. Уж тут-то придраться будет не к чему.
Ошибся, однако, Михаил Афанасьевич. Недооценил свой сатирический дар. Даже если б он выбрал сюжет не из XVII века, а из жизни динозавров в мезозойскую эру, текст все равно был бы антисоветским. Таков масштаб таланта!
Так оно и оказалось. 18 марта 1930 г. Главрепертком «Кабалу святош» благополучно запретил. Булгаков как в воду глядел. Еще 16 января он писал брату Николаю в Париж: «Я обречен на молчание и, очень возможно, на полную голодовку». Уверен, что «Мольера» не пустят на сцену потому только, что его автор – Булгаков.
Качели продолжали раскачиваться: 3 октября 1931 г. «Кабалу святош» все же разрешили к постановке, но потребовали изменить название. Теперь пьеса называлась «Мольер».
Помимо МХАТа изъявил желание поставить «Мольера» и ленинградский БДТ. Но желание прошло быстро. 14 марта 1932 г. договор с автором был разорван.
История эта могла бы выглядеть смешной, если б не была столь гнусной. На сей раз дирекция БДТ заболела диареей после визита в театр начинающего драматурга, но зато фанатичного коммуниста Всеволода Вишневского. Он так умудрился запугать театр, что тот, по словам Булгакова, «выронил пьесу». Оказывается, этот деятель уже успел напечатать в «Красной газете» от 11 ноября 1931 г. статью «Кто же вы?»
Да, оружие меняется, грустно заметил Булгаков. Если Пушкина убивали, глядя ему в глаза, то меня добивают ударами ножей в спину. Чего же испугался БДТ?
Всего. Тогда боялись даже собственной тени. Вишневский, например, обвинил их в том, что они предпочли пьесу о Мольере пьесам самого Мольера. Ну и что? Предпочли. Чего тут? Ан, нет. Испугались. 30 апреля 1932 г. Булгаков написал в одном из писем П.С. Попову: «В последний год на поле отечественной драматургии вырос в виде Вишневского такой цветок, которого даже такой ботаник, как я, еще не видел».
Да и во МХАТе «Мольера» не приняли с распростертыми объятиями. С постановкой тянули невероятно долго, всё к чему-то придирались. Наконец, это Булгакову надоело и 22 апреля 1935 г. он потребовал от К.С. Станиславского вернуть пьесу. Станиславский разобиделся и от репетиций отказался. Пьесу взял В.И. Немирович-Данченко.
16 февраля 1936 г. состоялась, наконец, премьера. Успех был невероятным. И тут же – столь же невиданная газетная ругань. Но скандалу разрастись не дали. 29 февраля в дело вмешался уже знакомый нам П.М. Керженцев, он составил для Политбюро соответствующую «справку», и «Мольера» тут же прихлопнули.
Но обставили всё хитрó. Сделали так, что МХАТ сам отказался от пьесы без особых указующих постановлений. Керженцев советовал: достаточно скрытого намека, чтобы мхатовские «старики» поняли, – ошиблись они в Булгакове, опять он их уводит с генеральной линии социалистического реализма. Надо помочь театру, писал вышколенный в демагогии Керженцев, – просто напечатать в «Правде» редакционную статью, а далее они сами будут знать, что делать.
Сталин на этой «Справке» написал своим красным карандашом: «Молотову. По-моему, т. Керженцев прав. Я за его предложение. И. Сталин».
Сказано – сделано. 9 марта 1936 г. «Правда» открывалась редакционной статьей «Внешний блеск и фальшивое содержание». И «Мольера» на афишах мгновенно заклеили.
Булгаков до конца жизни считал, что МХАТ его предал. А предательства он не прощал никому. Более в этом театре он не проработал ни одного дня.
15 сентября 1936 г. Булгаков ушел в Большой театр на должность либреттиста.
* * * * *
Конечно, Булгаков был блестящим фельетонистом-сатири-ком, значительно более острым, чем, к примеру, Ильф в паре с Петровым; он был выдающимся драматургом, несопоставимым по масштабу дарования ни с одним из своих современников. Но наиболее высокую ноту он все же взял в беллетристике – беллетристом он был гениальным. Но именно эту грань его дарования современники писателя и еще 2-3 поколения советских людей так и не узнали. Не дождался публикации ни «Собачьего сердца», ни «Мастера и Маргариты» и автор. И это, к сожалению, еще одна грань его несчастной судьбы.
О злоключениях «Собачьего сердца» мы уже упоминали. Черед теперь за коротким рассказом о главной книге Булгакова, составившей ему мировую славу, – романе «Мастер и Маргарита».
Когда Булгаков задумал свой «роман о дьяволе», сказать трудно. Первая версия романа была готова в конце 1928 – начале 1929 г. Роман назывался в разные годы по-разному: «Копыто инженера», «Черный маг», «Консультант с копытом», «Великий канцлер», «Князь тьмы».
Писался роман, включая последнюю, третью, версию, в общей сложности тринадцать лет. Ждал публикации еще двадцать шесть.
Булгаков к 1929 г. был уже достаточно терт советской властью, чтобы понять: такой роман в Советском Союзе опубликован никогда не будет. Не рассчитывая же на публикацию вообще, писатель работать также не может. А Булгаков работал и очень интенсивно. Спрашивается: на какие перспективы он делал ставку? Ответ один: на эмиграцию. Там бы он смог напечатать свой роман без проблем. Возможно, и по этой причине Булгаков в частной переписке о нем не упоминает совсем. Хотя в ОГПУ все о его трудах знали. В настоящее время это установлено определенно.
После прослушивания нескольких глав «Мастера» симпатизировавший Булгакову бывший редактор «Недр» Н. Ангарский сказал:
– А это напечатать нельзя.
– Почему?
– Нельзя…
28 марта 1930 г. в день написания своего знаменитого письма Правительству СССР в припадке безумного отчаяния и безысходности Булгаков сжег единственный экземпляр рукописи своего романа.
В 1932 г. в Ленинграде роман начал заново, первые главы которого он помнил практически наизусть. Уже осенью 1934 г. буквально из пепла возник второй вариант романа. Дописывал больной: нервные срывы, бессонница, страх одиночества и боязнь любого открытого пространства, – одним словом доклевала Советская власть одного из самых талантливых писателей. К лету 1936 г. Булгаков завершил работу над второй редакцией романа.
Но и она не устроила писателя. В мае 1937 г. он начинает заново роман о Христе и Дьяволе. Тогда же появилось и его окончательное название «Мастер и Маргарита». Уже в конце мая 1938 г. третья версия романа была закончена.
Свое Послушание Булгаков выполнил сполна.
* * * * *
Как мы уже говорили, Сталин своего добился, и Булгаков, по выражению Даниила Данина, стал «тяжелеть» под гипнозом вождя. Большевизм и социалистический выбор Булгаков не любил по– прежнему, но вождь для него стал свят. Чем сильнее Сталин душил, тем крепче Булгаков любил.
Предположение некоторых исследователей (М. Чудаковой, М. Горбаневского, Б. Соколова и др.), что Булгаков принялся за сочинение пьесы о Сталине с какой-то торгашеской целью: облегчить публикацию главного своего романа, сделать «проходными» многие отвергнутые его вещи, не состоятельно.
Во-первых, Булгаков был не столь наивен и не думал, что с помощью откровенной лести можно что-то себе отторговать.
Во-вторых, Булгаков был человеком глубоко принципиальным и порядочным, оттого и жизнь себе изломал. Подобное предположение по этой причине просто оскорбительно для писателя.
Нет. Все было прозаичнее и проще. Булгакова Сталин действительно в определенном смысле загипнотизировал, особенно после телефонного звонка в 1930 г. С тех пор Булгаков и заболел неизлечимой болезнью под названием «Сталин». Он был не одинок. Таким же «заболеванием» долгие годы страдал Б. Пастернак. Искренне, как он думал, влюбил себя в вождя, которого прежде ненавидел, О. Мандельштам.
Болезнь Булгакова вызревала медленно. Не дождавшись приглашения на личную встречу, Булгаков в 1931 г. пишет Сталину и просит вождя быть первым его читателем, приговору которого он покорится (Почти как у Пушкина, только с точностью до наоборот, – там Николай I сам предложил поэту быть его цензором, чтобы его творения не подвергались риску быть отвергнутыми малограмотными и трусливыми чиновниками Цензурного комитета. Здесь же сам Мастер предлагает свои сочинения на суд – кого?). Даже ответа на свое унизительное предложение Булгаков не удостоился.
Именно после этого болезнь стала прогрессировать.
6 февраля 1936 г. Е.С. Булгакова отметила в своем дневнике: «Миша окончательно решил написать пьесу о Сталине».
С сюжетом он явно промахнулся: пьесу решил сочинить о молодом Сталине (еще Джугашвили), о его первых революционных шагах. Как оказалось, Сталину все это крайне не понравилось: зачем молодой? Молодые все одинаковы! Все делают ошибки…
Это не годилось. Надо было писать не о начинающем революционере, которого кто-то там наставляет и обучает, а о всеми любимом, безгрешном вожде, почти что Боге, который все видит, все знает, который справедливо рассудит, а иногда и осудит, если надо.
Интерес к необычному развороту материала, к нестандартному развитию сюжета, что всегда украшало его пьесы, на сей раз подвел Булгакова.
Дело в том, что катастрофически надвигался 60-летний юбилей вождя (1939 г.), и театры из кожи вон лезли, чтобы угодить, выслужиться, не ударить в грязь лицом.
МХАТ взял Булгакова откровенной лестью, дирекция театра «пала ему в ножки» и слезно молила: выручи, драматург! Не за понюх пропадем! Писать-то более некому…
И уговорили. Точнее даже интересы их удачно совпали. Узлом пьесы, которую Булгаков назвал «Батум», стала батумская демонстрация 1902 года.
Далее история развивалась стремительно. 24 июля 1939 г. Булгаков закончил пьесу. Все ее хвалили – попробуй сделать хоть одно замечание! 14 августа Булгаков даже командировку (для отдыха) себе придумал: решил с женой и несколькими актерами из МХАТа съездить в Тифлис и Батум, чтобы фольклора подсобрать и сделать тем самым постановку более колоритной.
Но не успели откупорить на радостях бутылки шампанского, как прямо в вагон доставили телеграмму: возвращайтесь, необходимость в поездке отпала.
Булгаков понял: прочел сам и ему пьеса не понравилась. Так и было.
Тут-то писатель впервые и почувствовал сильную резь в глазах, верный признак нефросклероза – смертельной наследственной болезни, от которой умер отец Михаила Афанасьевича Булгакова.
* * * * *
Уже в наши дни писатель Виктор Ерофеев написал: «Меня радует, что советскому правительству не понравилась пьеса Булгакова «Батум» о романтической юности Сталина. Не в свои сани не садись. Хочешь быть порядочным, будь до конца… Но Булгаков был мягок и непоследователен. Шариков – хамская душа революции – вновь был превращен в собаку, преданно лижущую руку. Это была сладкая мечта всей нормальной русской интеллигенции, обиженной революцией и справедливо ропчущей на нее. Однако почему булгаковские профессора из ядовито сатирических повестей с каким-то особенным постоянством звонят в ГПУ, где находят сочувствие?…»
Да, действительно, почему?