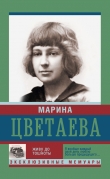Текст книги "От каждого – по таланту, каждому – по судьбе"
Автор книги: Сергей Романовский
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц)
Марк Слоним безусловно прав: слабый человек способен только служить, ему нужно место службы и нужен хозяин. Тогда он и слабым быть перестает. Менять же хозяев – тоже удел слабых. Поэтому Эфрон очень быстро убедил себя, что «белая идея» не может быть оторвана от реальной истории, а реальная история России – это Евразийство, а его идеи, в свою очередь, уже воплощаются в жизнь через строительство коммунизма в отдельно взятой стране. А это – его страна.
Такая вот примитивная, зато убаюкивающая рыцарскую совесть схема. Плюс беспросветная нужда. Она способна сдвинуть с любой идеи и взамен подставить ту, которая окажется под рукой. Да еще его любимая сестра Елизавета Эфрон. Она – в СССР. Работает. Пусть она живет в унизительной коммуналке, зато не голодает. Значит там, а не здесь, на Западе, строят правильную жизнь. Значит место его там. И он должен быть там…
Анна Саакянц права, что Эфрон и в этой своей «оправда-тельной» схеме оставался человеком чести. Он был не один, кого изловила советская пропаганда, но все, кто попали в ее сети, имели одну незавидную общность, – то были люди преимущественно бездарные, с недалеким, бытовым мышлением. Именно талант не позволял другим кивать согласно головами в ответ на красивые, но лживые фразы. Люди типа Эфрона были уже не в состоянии трезво оценивать происходящее, они ступенька за ступенькой спускались «по лестнице оправдания зла – вплоть до соучастия в нем». Последние закавыченные нами слова принадлежат Ирме Кудровой. Возражать ей мы не будем.
Вот эти ступеньки.
В 1925 г. Эфрон еще с Добровольческой армией, он – раб Белой идеи, он – не приемлет Советскую Россию. А уже через год, в Париже, он вместе с другими своими единомышленниками затеял издание журнала «Вёрсты». В нем они уже ни белые, ни красные, они – евразийцы. Они были искренни в этой идее. И не понимали, что вносят явный раскол в русскую эмиграцию, ослабляют ее. Более того, уж и вовсе им было невдомек, что, не имея удостоверения сотрудников ОГПУ, они объективно работают на советские спецслужбы, ибо основная задача «заграничного отдела» ОГПУ как раз в том и состояла, чтобы расколоть эмиграцию и развернуть эти осколки в направлении Советского Союза.
Эфрон, а следовательно и Цветаева, в глазах эмиграции очень быстро становятся «большевиками». Уже с 1927 г. Эфрон непримиримый евразиец, сторонник левого, наиболее радикального его крыла, цель которого – установить живую связь с Россией путем открытого разрыва с культурными традициями Запада. Оставался всего один шаг, чтобы от идейных связей с большевистской Россией через публикуемые им в «Вёрстах» статьи перейти к деловым контактам с СССР через его «органы».
Как только к 1928 г. евразийское движение оформило свою идейную базу и даже умудрилось трансформировать ее в идеологическую платформу, его руководство приступило к выработке практической политики в проложенном ими русле. Но коли называть вещи своими именами, то это уже дело не высоколобой гуманитарной интеллигенции, это дело иностранных агентов советских спецслужб. Они эту работу делали весьма успешно.
Первый реальный успех: раскол евразийства на два течения – левое и правое. Эфрон, само собой, левый. Он за максимальное сближение со страной Советов. Если б он был один, был бы волен на любые шаги. Но за ним – дети, за ним – Цветаева. Он сам с возбужденно бьющимся от радости сердцем шел навстречу своей гибели и тянул за собой близких. И затянул…
Бедный, бедный Эфрон. Он был искренен. Так открыт, а его травят в печати, обвиняют, что евразийцев финансируют большевики. И он, бедолага, расстраивается, «теряет на этом деле последнее здоровье», – сообщает 20 октября 1927 г. Цветаева Анне Тесковой.
Даже умнейшая Марина Ивановна, как видим, не чувствовала, что муж ее уже глубоко заглотил крючок ОГПУ и его «ведут» умелые руки рыбаков с Лубянки.
Был и еще нюанс, который в то время распознать не удалось. На самом деле евразийство для ОГПУ оказалось настоящей идеологической находкой (тем более, что не сами они его придумали), но в любом случае для советских спецслужб это движение рассматривалось как белогвардейское. Левый ты евразиец или правый, ты, прежде всего, был и остался классовым и идейным врагом. Эфрон же – один из руководителей этого движения. Значит, его участь в СССР была предрешена самим фактом участия в этом движении. И не могло его спасти даже такое алиби (в его собственных глазах), как руководство просоветским «Союзом возвращения на родину».
В 1931 г. Эфрон подает прошение на получение советского паспорта. Думает: написал заявление, большевики умилятся от того, что бывший белогвардеец не просто режим их признал, но искренне пожелал сам строить коммунизм, и тут же выдадут ему желанную «краснокожую паспортину». Ан, нет. НЕ выдали. Но зато ясно дали ему понять: хочешь вернуться, отработай свои грехи перед нашей властью, выполни то, что тебе прикажут, а там посмотрим.
Кстати, нетерпение мысли Эфрона настолько застлало его разум, что он даже Горького просил походатайствовать за него. Горький же его и знать не знал, знать его он мог только как мужа поэтессы, творчество которой не переваривал. Разумеется, помогать не стал. Паспорта Эфрон не получил ни в 1932, ни в 1933, ни в последующие годы. Он совсем потерял голову от «нетерпения». Во всем, как благородный рыцарь, винит семью: «Если бы я был один!!!» – возопил Эфрон в письме к сестре 31 октября 1933 г. Жила она в СССР. И знал, несомненно, Эфрон, что письма из-за границы читают «где надо», и тем не менее писал, без стеснения «под-ставляя» свою жену. Писал, что не дают ему паспорта из-за ее «взглядов». «С нею ужасно трудно. Прямо не знаю, что делать» – тому же адресату.
Он, как видим, уже созрел «для полной готовности». И с 1932 г. Сергей Эфрон становится штатным сотрудником иностранного отдела ОГПУ. Правда, заявления о приеме на работу не писал и о том, что он уже «в команде», не знал. Он добросовестно (как мог, а мог плохо) выполнял только отдельные поручения людей «оттуда», но кого конкретно – тоже не знал. По заданию ОГПУ он и создал «Союз возвращения», не понимая, что каждого члена этого союза еще ждет свидание со следователем. Такие восторженные недоумки были бесценной находкой для советских спецслужб.
И все же надо отдать должное Эфрону. Как только понял (после ареста), во что он вляпался, тут же вновь обернулся благородным рыцарем идеи. Он даже под пытками никого не выдал. Говорил только то, что касалось лично его. Но это – потом.
А пока. В октябре 1933 г. Цветаева пишет А. Тесковой: «Сергей здесь, паспорта до сих пор нет, чем я глубоко – счастлива… Я решительно не еду, значит – расставаться, а это (как ни грыземся!) после 20 лет совместности – тяжело».
… В 1936 г. Эфрона подключили к активной борьбе с «международным троцкизмом». Это уже не политика. Это – терроризм и открытая уголовщина. Он соучастник похищения архива Троцкого в Париже (1936 г.), убийства в Швейцарии в сентябре 1937 г. бывшего советского агента, ставшего невозвращенцем, Н.М. Порецкого (Игнатия Рейсса); похищения в Париже (в том же месяце) председателя Русского общевоинского союза генерала Миллера.
Убийство Рейсса полиция раскрыла быстро. Результаты стали доступны прессе. Советским агентам было приказано любыми путями бежать в Москву: столь топорную работу советские спецслужбы своим резидентам не прощали. Эфрон уехал в Гавр, оттуда советским пароходом – в Ленинград.
Что тут скажешь. Только банальность: спасая свою свободу, Эфрон потерял жизнь.
Марину впервые в жизни допрашивали в полиции, да еще устроили в ее доме обыск. Она вела себя как невменяемая – ее отпустили. Для нее в тот миг всё мгновенно рухнуло. Франция обернулась тюрьмой. Она была на грани психического срыва, ибо не могла ни на минуту допустить, что «ее Сережа» был замешан в убийстве. При повторном допросе она подтвердила алиби Эфрона: с 12 августа по 12 сентября 1937 г. он был с ней и с сыном на юге Франции.
Марк Слоним вспоминал позднее, что вся эта политическая уголовщина окончательно сломила Цветаеву. «Что-то в ней надорвалось… Она сразу постарела и ссохлась… Я помню, как просто и обыденно прозвучали ее слова: “Я хотела бы умереть, но приходится жить ради Мура; Але и Сергею Яковлевичу я больше не нужна”».
Напрасно Цветаева цеплялась и за последнюю свою соломинку. Не очень-то она нужна была и своему сыну. Вскоре она отчетливо поймет это…
Отношения Цветаевой с детьми – тема особая, деликатная. Никаких «разговоров» на эту тему мы себе не позволим. Отметим лишь то, что с очевидностью следует из ее собственных писем.
Своих детей Марина обожала до той поры, пока они были привлекательны для постороннего глаза, пока можно было ими горделиво хвастаться. Так было с Алей, пока она росла. Когда же ей исполнилось 11 лет, она тут же в глазах матери стала «пустеть и простеть». Стала, как все. Значит, неинтересна. Затем та же история с Муром. «Ничем не пронзен», – скажет позже Цветаева о собственном сыне. Но в начале 30-х годов Мур был еще ребенком, и Цветаева его боготворила, восхищалась его необычайно раннем развитием, его «необычностью». Мужа в то время она уже только терпела, Аля же была «безответна». Но – до поры. Потом Але стала невмоготу тирания матери.
Цветаева почувствовала, что теряет дочь. И опять в основе конфликта – нужда, грязный быт без просвета. Аля уже взрослая девушка, красивая, но… нищая. В негласном союзе с отцом они объединились против матери. Отец всегда на ее стороне, при любом скандале. А ссоры участились, стали атрибутом общения. Уже в 1934 г. семьи в нормальном ее понимании у Цветаевой не было.
«Моя дочь, – писала Цветаева Вере Буниной 22 ноября 1934 г., – первый человек, который меня ПРЕЗИРАЛ. И, наверное – последний. Разве что – ее дети». В том же году Аля после очередного скандала надолго уходит из дома. В 1935 г. всё повторяется. Марина дала дочери пощечину. Эфрон вновь принял позицию дочери, дал ей немного денег и сам посоветовал пожить отдельно. 1 января 1936 г. Цветаева записывает в дневнике: «Аля выросла – чужая, не моя и не своя, как все, и даже не как все – все – лучше… От той девочки – ни следа».
Аля после многократных «вразумляющих» бесед с отцом искренне стала считать, что место ее – в СССР и стала рваться туда. Именно отец убедил ее, что только на родине она сможет жить спокойно: работать и строить свою жизнь. Она первой получила визу на въезд. Подоплека очевидна: надо, чтобы Эфрон не забывал, кто у него «в закладе» там, в СССР.
15 марта 1937 г. Аля уезжала, уезжала, не скрывая радости. Хотя Иван Бунин, когда Аля зашла проститься, сказал ей: «Дура, куда ты едешь, тебя сгноят в Сибири!» Как в воду глядел…
На расстоянии, вдали от матери Аля мгновенно подобрела. Ее письма во Францию – сплошной восторг. В СССР ей нравится всё, абсолютно всё. Она быстро нашла работу: переводила, делала иллюстрации для журнала «Revue de Moscou». И даже впервые влюбилась, ждала ребенка.
… Наконец, Мур. Его отношения с матерью прошли все те же стадии, что и у его сестры. Пока был ребенком, им любовались, его «показывали» гостям, его баловали. Он рос в полном сознании, что именно он – центр мироздания. «Мур труден», – писала начинавшая понемногу трезветь мать; «дети его не любят». Да, таких не просто «не любят», в детстве таких бьют нещадно. Били сверстники и его. А он вымещал обиды на матери. Она терпела от него всё и даже позволяла ему то, на что более не имел права никто, – тратить попусту ее время, отрывать ее от творчества, сил на которое и так оставалось совсем немного.
И как-то незаметно для матери превратился Мур в юношу с профилем Марины Цветаевой и с замороженным сердцем Кая.
С таким сыном она и приедет в СССР.
* * * * *
Проблема возвращения на родину была с Цветаевой постоянно, ни на минуту не оставляя ее. Ибо Россия была в ней всегда, а она «вне России» – лишь временно.
Но именно России. СССР был для нее не родиной, но новой страной, ее она не знала и боялась.
В 1931 г. Цветаева написала стихотворения «Страна». Приведем из него две строфы:
С фонарем обшарьте
Весь подлунный свет!
Той страны на карте –
Нет, в пространстве – нет.
Выпита как с блюдца, –
Донышко блестит.
Можно ли вернуться
В дом, который – срыт?
И в том же году в одном из писем к Анне Тесковой: «Всё меня выталкивает в Россию, в которую – я ехать не могу. Здесь я не-нужна. Там я невозможна.»
И все же Цветаева была верна собственным убеждениям, которые изложила еще в 1925 г. в журнале «Своими путями»: «Родина не есть условность территории, а непреложность памяти и крови. Не быть в России, забыть Россию – может бояться лишь тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри, – тот потеряет ее лишь вместе с жизнью». Та Россия была для нее незаживающей раной, и вернуться в Россию было для нее равносильно тому, чтобы самой на свою рану кинуть пригоршню соли. Ибо знала Цветаева, чтó есть ее Россия сегодня.
Она, как талантливый поэт, видела сквозь время, она наперед знала свою судьбу, вернись она в СССР. То был не страх, а почти математически точное знание того, что ее там ждет. Да еще чисто женское (материнское) предчувствие несчастья для всей ее семьи.
В 1931 г. Цветаева написала С.Н. Андрониковой-Гальперн: «Не в Россию же мне ехать?! Где меня (на радостях!)… упекут. Я там не уцелею, ибо негодование – моя страсть (а есть на что!)». А за три года до этого в одном из писем к Анне Тесковой Цветаева заметила с отчаянной иронией: «… России (звука) нет, есть буквы: СССР, – не могу же я ехать в глухое, без гласных, в свистящую гущу. Не шучу, от одной мысли душно. Кроме того, меня в Россию не пустят: буквы не раздвинутся… В России я поэт без книг, здесь – поэт без читателей. То, что я делаю, никому не нужно».
В 1934 г. Цветаева пишет стихотворение, в котором вновь – в который раз! – всё о том же: о безвозвратно утерянной ее родине:
Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морóка!
Мне совершенно всё равно –
Где совершенно – одинокой
Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом и не знающий, что – мой,
Как госпиталь, или казарма.
Но это всё – слова, литература. А в жизни всё обстояло куда прозаичнее. Ее семья – сначала муж, а затем и дочь – твердо решили ехать в СССР. Как только это случилось, Мур насел на мать и не отстал, пока она не сдалась. Поражает, кстати, та легкость, с которой Цветаевой, в отличие от ее мужа, дали советский паспорт. Скорее всего, из-за того же Эфрона: она оставалась во Франции живым свидетелем того позорного провала иностранной разведки НКВД. И надо было ее срочно увозить оттуда. Не исключено поэтому, что не столько Мур, сколько умелые и вкрадчивые речи агентов советских спецслужб сыграли решающую роль – Цветаева покорилась неизбежности. К тому же в СССР уже ее живая плоть – дочь, да и муж – крест ее вечный. Сбросить его она не могла, не дойдя с ним до самого края…
Она уезжала в Москву «не-жить», а где «не-жить» – какая разница. Уезжали одни, без провожающих. Так решили в советском посольстве. «Едем без проводов… Как собаки, – писала она А. Берг, – как грустно (и грубо) говорю я… Пока о моем отъезде – никому. Пока сами не заговорят».
С дороги написала последнее письмо Тесковой: «Сейчас уже не тяжело, сейчас уже – судьба». Ехала она не на родину – в могилу. И знала это.
В Москву приехали 18 июня 1939 г.
* * * * *
Первое, что узнала по приезде, – сестра Ася в лагере еще с сентября 1937 г. Поселили их всех под Москвой, в Болшево. Там же уже жила семья еще одного бывшего советского агента Клепинина. Это была дача застрелившегося профсоюзного вождя М.П. Томского. Теперь она была на балансе НКВД. Цветаева обо всем этом, само собой, не знала.
Воздухом советского счастья воссоединившееся семейство дышало недолго: 27 августа 1939 г. на глазах матери и отца арестовали беременную Алю. После длительных издевательств из нее «выбили», чего добивались: ее отец – французский шпион. (Аресто-вать провалившегося своего агента НКВД не мог себе позволить. Об этом стало бы известно другим, пока функционирующим их резедентам, и отразилось бы на их работе. А так надежнее: шпион должен быть разоблачен.)
Теперь можно было ехать и за ним. 10 октября 1939 г. арестовали Сергея Эфрона.
Дом опечатали, и Цветаева с сыном оказались на улице. Пришлось напроситься постояльцами к Елизавете Эфрон в проходную комнату большой московской коммуналки.
Цветаеву и так встретили в Москве прохладно, а узнав, что она жена и мать «врагов народа», и вовсе стали шарахаться, как от прокаженной.
Писала Александру Фадееву: просила дать хоть какое-нибудь жилье. Он ответил: решительно невозможно, у нас в Москве слишком много прекрасных поэтов, значительно больше, чем жилья. Так что, уж как-нибудь сами. Присоветовал ехать в Голицыно, в Дом творчества писателей, там можно бесплатно питаться, но комнату придется снять. Зарабатывать, мол, будете переводами. А кого переводить, решать будем мы. Знай, Цветаева, свое место в советском строю.
Писала Берия, пыталась заступиться за мужа и дочь. Не ответил.
Так ее припекло, что гордая Цветаева унизилась до просьбы к бездарному П. Павленко, одному из писательских функционеров: «Положение безвыходное… Исхода не вижу. Взываю к помощи».
Кто-то из наивных присоветовал ей собрать сборник своих стихов и издать их. Тогда, мол, узнают, какой она поэт и все изменится к лучшему. Ухватилась и за эту соломинку. Сборник подготовила быстро. Но критик К.Л. Зелинский в конце 1940 г. написал «как надо»: это не поэзия, а формалистические выкрутасы. Цветаеву подобная оценка ее творчества оскорбила до глубины души. Вынуждена была «нагнуться до ответа»: «Человек, смогший аттестовать такие стихи как формализм – просто бессовестный. Я это говорю – из будущего. М.Ц.».
Советская система монотонно вжимала ее в землю. Она это, конечно, чувствовала. Но цеплялась за жизнь из-за Мура. Только он держал ее (пока) на этой земле. И даже его черствость, грубость и откровенное, почти не скрываемое, презрение были для нее роднее, чем просто жизнь в «Бедламе нелюдей».
Отправила телеграмму Сталину: «Помогите мне, я в отчаянном положении. Писательница Марина Цветаева». 31 августа 1940 г. ее вызывали в ЦК. В жилье отказали. «Москва меня не вмещает», – написала она.
22 июня 1941 г. Германия напала на СССР. Началась Отечественная война. Но для Цветаевой война шла с 1939 г.: уже оккупированы ее Прага и ее Париж. Она была почти уверена, что немцы возьмут и Москву.
Решила эвакуироваться. На теплоходе плыли в Татарию. Место ей нашлось в Елабуге, в то время – настоящем захолустье. Жить там без работы, без общения было невыносимо. Да и просто – не на что.
И 26 августа 1941 г. Цветаева пишет свое последнее «заявле-ние».
Почти невозможно представить, до какого же состояния ее надо было довести, чтобы за подписью Цветаевой в историю советской литературы вошла следующая страшная бумага:
«В Совет Литфонда.
Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда. М. Цветаева».
Этот клочок бумаги будет звучать приговором советской тоталитарной системе до тех пор, пока «в подлунном мире жив будет хоть один пиит».
Написала на имя председателя Литфонда, поэта (!) Н. Асеева, друга Маяковского.
После такого заявления выход один – в петлю.
31 августа 1941 г. Марина Ивановна Цветаева повесилась.
Оставила короткое письмо сыну: «Мурлыга! Прости меня. Но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это – уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить.
Передай папе и Але – если увидишь – что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик».
Сын одобрил шаг «М.И.». Не мамы, а именно М.И. И – одобрил. Даже писать страшно. Если бы Цветаева могла знать такое, повесилась бы много раньше.
Не будем обсуждать, чтó все же довело Цветаеву до этого безумного шага. Всё! Вся ее жизнь. Жизнь на нервах и надломе. Последней же каплей могло быть что угодно: и страх перед приходом немцев (они активно наступали на Москву), и непрерывные скандалы с сыном, и полная (окончательная) ее ненужность никому. Даже Муру. И ему она – в тягость * * И еще одна запредельная вещь повторилась через 20 лет: в 1920 г. Марина не пошла хоронить свою дочь Ирину, в 1941 г. не участвовал в похоронах матери ее сын.
[Закрыть].
Жизнь осталась позади. Она уже давно жила после жизни.
И последнее. Советская система свое дело сделала. Все семейство Цветаевых она извела под корень.
Але дали 8 лет лагерей. По тем временам – не срок. Потому что «чиста» была. Ее арестовали только для оговора отца. Ну, а потом – не выпускать же. Срок отбывала в Туруханском крае. В 1949 г. ее, как и многих, взяли повторно. Потом реабилитировали. Остаток жизни Аля посвятила увековечению памяти матери. Она писала в своих воспоминаниях: «Мама любила меня дважды в жизни – в раннем детстве и когда я была в тюрьме».
С.Я. Эфрона допрашивали 18 раз. Держался мужественно. Никого не оговорил. От побоев стал терять рассудок. 16 октября 1941 г. его расстреляли.
Мура 26 февраля 1944 г. призвали в армию. 7 июля того же года он погиб.