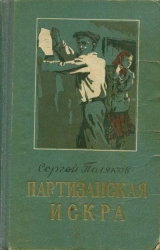
Текст книги "Партизанская искра"
Автор книги: Сергей Поляков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц)
Глава 14
ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ СТОЯ
Светало. В маленькое оконце хаты глядело пасмурное, осеннее утро. Поля встала, наскоро оделась и, накинув на плечи стеганую фуфайку, вышла на улицу.
Влажный воздух холодком проползал по телу. Все село, и чем дальше, тем плотнее было затянуто серой пеленой. На молодых вишневых деревцах оседала влага, сгущалась на еще не опавших листьях и падала на землю крупными, редкими каплями. В такое тихое сырое утро звуки, обычно, бывают слышны на далекое расстояние. Поля прислушалась. Где-то по соседству тихо, грустно промычала корова. Некоторое время селом владела тишина. И вдруг издалека, с другого конца села, донесся яростный собачий лай и хриплый, похожий на лай, голос «бульдога». Поля вернулась в хату.
– Опять гонят на работу, – сказала она матери, возившейся у печи.
– Куда сегодня? – спросила мать.
– Говорили, на линию, куда-то далеко, аж под Врадиевку.
– Зачем же вас туда? Там другие села есть.
– И другие работают. Знаешь, мама, сколько народу работает на железной дороге? Ужас! Неужели это никогда не кончится? – с отчаяньем произнесла Поля. – Не знаю, что бы отдала, не знаю, что сделала, только бы все это сгинуло. Жизни бы не пожалела за один только день прежней нашей жизни.
– Что поделаешь, доченька. На то и войну выдумали, чтобы разорять да мучить людей.
– Ничего, мама, это скоро кончится, – убежденно сказала девушка.
– Скоро, говоришь? – вздохнула мать. – Что-то не видать этого конца.
– Да, скоро. Только это, мама, само собой не кончится. Надо, чтобы весь наш народ поднялся. Наш народ на свою погибель не пойдет, не станет он на фашистов работать. В леса уходят люди, в партизаны. У нас в савранских лесах тоже есть партизаны.
Мать молча кивала головой. В душе она соглашалась с дочерью, но сама видела все это отдаленным и туманным. Действительность угнетала ее. Она так же, как и дочь, желала, чтобы вернулась прежняя жизнь, но уж больно трудно было ее вернуть, и как ее вернуть – она не могла себе представить.
– Ты бы потеплее оделась, да позавтракала, – забеспокоилась мать, – а то сейчас этот пес Семен заявится. Я так боюсь, когда он приходит к нам.
– А каково нам на работе? Эти жандармы да полицаи за людей нас не считают. Лаются скверными словами, орут, бьют палками. Вчера Миша Кразец не вытерпел, гордый он, и огрызнулся. Жандарм его толкнул в спину. Миша-хлопец здоровый, сильный, ухватил жандарма за грудь и швырнул в канаву. Что было, мама! Все четверо конвоиров набросились на Мишу и били по-всякому: и палками, и ногами топтали. Я не могла смотреть, хлопцы наши хотели вступиться за товарища, но Парфентий запретил. Потом Мишу бросили в канаву, и он пролежал там до вечера. С трудом упросила я конвоиров разрешить перевязать Мише разбитое лицо. А вечером Парфентий с Митей увели его домой. Я слышала, мама, как хлопцы сговаривались отомстить.
– Зря вы с ними связываетесь. Ну, что вы можете сделать?
– Многое можно сделать, мама. Во-первых, не будем работать на них.
Поля подошла к матери и тихо, решительно сказала:
– Я тоже не буду работать.
– Как? – удивилась мать.
– Не буду – и все. Не пойду.
– Нельзя, Полюшка.
– Пойми, мама, что же получается? На фронте наши борются, кровь проливают, а что делаем мы, комсомольцы? Вместо того, чтобы вредить, помогаем врагам. Они убивают наших отцов, братьев, а мы работаем на них. Придут наши и спросят: что ты сделала, комсомолка Полина Попик, чтобы помочь нам? Что я им отвечу? Ничего. Никто нам не простит этого.
– Вы же не сами, вас заставляют, – слабо доказывала мать.
– Это отговорки. Так только свою совесть усыпляют. Но совесть не усыпишь. Никто не может заставить честного человека делать постыдное дело.
Дарья Ефимовна молчала.
– Мы не хотим работать на фашистов. И я не пойду сегодня, не могу больше.
– А как придут?
– Я уйду из хаты, спрячусь.
– Лаяться будут. Спросят, где ты… Что я им скажу?
– Скажи, что не ночевала дома, вот и все. Тетка, мол, в Кумарах больная, ушла навестить и задержалась.
– О, горе мне, – скорбно вздохнула мать.
У Дарьи Ефимовны Попик война отняла очень много. С первых дней она отдала фронту двух сыновей – Федота и Захара. Немного позже ушел и муж. Теперь при ней оставалась одна единственная дочь. Поэтому мать так болезненно и ревниво оберегала ее от всего, что, по ее разумению, являлось опасностью для Поли. Особенно зорко следила Дарья Ефимовна за тем, чтобы девушка постоянно и тщательно скрывала свою красоту. Она заставляла Полю как можно хуже одеваться, кутать голову платком, чтобы скрыть часть лица.
Время шло. Молодежь Крымки все тверже становилась на путь борьбы. Дарья Ефимовна видела, как между хлопцами и девчатами росла и крепла какая-то особенная, непохожая на прежнюю, дружба. К Поле теперь часто заходили товарищи и подруги, и от внимательной, чуткой матери не могло ускользнуть, что в этой дружбе есть какая-то строгая тайна. И так постепенно уяснила себе, что бесполезно и не нужно перечить дочери. Она сама видела, как невыносимо тяжело складывается жизнь для детей и мирилась с поступками и рассуждениями умной, настойчивой девушки. Всю материнскую тревогу и опасения за судьбу дочери она таила в душе, всячески стараясь внушить себе, что иначе не может быть.
– Ничего, мама, все будет хорошо, – сказала Поля, обняв мать. – Ничего страшного не случится, да и страшнее того, что есть, вряд ли что может быть.
Девушка помолчала и раздумчиво, как бы отвечая собственным мыслям, тихо продолжала:
– А если что случится, то тоже не страшно. Так жить, как мы сейчас живем, дальше нет сил. Ты помнишь, мама, как-то давно я рассказывала тебе про Испанию?
– Забыла что-то.
– Лет пять тому назад испанский народ боролся против своих же испанских фашистов, которым помогали итальянские и немецкие фашисты. Бойцам народной армии становилось все труднее. С каждым днем сжималось вокруг них фашистское кольцо. И вот, в самую трудную минуту на фронт пришла бесстрашная женщина-испанка и сказала бойцам: «Солдаты, дети мои! У нас фашисты хотят отнять самое дорогое – право жить. Но мы не отдадим этого права, мы любим свободу и не станем рабами. Крепче сжимайте в руках ваше оружие!» И дальше она крикнула: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» Эти слова Долорес, так звали женщину, облетели все уголки фронта. И ты знаешь, мама, республиканцы так дрались, что весь мир был потрясен их стойкостью и мужеством. И мы теперь, мама, говорим: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!»
Дарья Ефимовна слушала дочь. И от ее горячих слов уходило прочь горе, легче становилось на душе, и жизнь не казалась такой беспросветной, и во всем существе старой женщины поднималась материнская гордость.
– Поступай, Поля, как знаешь, – согласилась мать, – только будь осторожнее.
На улице гомонили.
Мать с пугливой поспешностью поглядела в окно.
– Пошли к Надьке, сейчас сюда явятся.
Поля накинула шерстяной платок и на ходу сказала:
– Помни, я ночевала у тетки в Кумарах.
– Иди, иди скорее.
Поля прошла в сарай, влезла на чердак и глубоко зарылась в солому.
Она слышала, как к ним заходил Семен Романенко и как выходил из хаты, скверно ругаясь.
Потом все стихло.
Сжавшись в комок, Поля постепенно замкнулась в круг своих мыслей и чувств. Это были мысли о её будущем. Раньше все казалось простым и ясным: она кончит школу и уедет учиться дальше. Потом вернется в Крымку и станет учительницей литературы и родного языка.
Но теперь эти мечты оборвались. Чужие люди пришли в Крымку и стали хозяйничать на ее родной земле. Душа девушки наполнялась ненавистью, до боли сжимались зубы, а голову жгли слова: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!»
Глава 15
ПРИКАЗ № 1
В один из хмурых осенних дней на столбах, на дверях некоторых хат, а то и прямо на стволах деревьев появились расклеенные серенькие бумажки.
Приказ № 1
Ставлю в известность население районов Первомайского, Врадиевского, Доманевского и Кривоозерского, что все эти районы объединены в одну административную единицу, называемую Кривоозерский уезд.
По приказу губернатора Транснистрии за № 1113, я назначен префектом этого уезда и сегодня вступаю в управление им, имея резиденцию в городе Голте (Первомайск).
Прошу всех граждан нового уезда сохранять самый строгий порядок и дисциплину, сдать все оружие в течение двух дней в городские органы полиции и сельские управления, а взамен я им гарантирую целость их имущества и спокойную жизнь
Те граждане уезда, которые доброжелательно откликнутся на мой призыв, найдут во мне отзывчивого отца, который поможет им словом, делом и советом, а те, которые воспротивятся, будут сурово наказаны по законам военного времени. Дан в нашем кабинете 15 октября 1941 года. Уездный префект.
Подполковник Модест Изопеску.
Всполошил, поднял Крымку этот маленький клочок бумажки. В двух десятках строчек, набросанных неровным и неясным шрифтом, ясно было сказано то, чего так страшились люди. Неволя, с которой не могла примириться свободная душа советского человека, глядела сквозь эти строчки.
От хаты к хате разносилась недобрая весть, из рук в руки переходили сорванные бумажки – приказ уездного префекта. Невыносимо было в эти минуты оставаться в одиночестве, тянуло поделиться с другими большим горем. Тайком собирались в хатах и, закрыв наглухо окна и двери, говорили:
– Люди добрые, что же это делается? Района нашего Первомайского не стало, в Кривоозерский уезд переладили.
– Да и слово «уезд» мы давным давно забыли, – негодовали старики.
– И давненько же, деды, мы такого лиха не видели у себя.
– Отцом, говорит, буду для вас, батьком родным, коли мне покоритесь.
– Хорош батько, коли смертью пугает.
– Не спросил нас, злодюга, желаем ли мы к нему в сыновья да в дочки пойти.
– Может, кому этот самый префект и лучше отца родного.
– Вот, к примеру, таким, как Яшка Брижатый. И дом ему прежний новые хозяева вернули, и мельницу снова откроет. Как при царизме, помяните слово.
До поздней ночи потревоженным ульем гудело село. И спать укладывались с одной мыслью, что все самое дорогое и родное отнято, все святое грубо растоптано. Никто не мог предположить, надолго ли это? На месяцы? На годы? Одно пока было понятно всем, что отсюда начинается дележ родной колхозной земли. И как ржавые звенья давно позабытых кандальных цепей царской России, лязгали слова: «уезд», «жандармерия», «полиция».
– Ну, Парфуша! Выходит, что мы с тобой на жительство в какую-то Транснистрию переехали, – с дрожью в голосе сказал сыну Карп Данилович Гречаный.
– Я думаю, что ненадолго, тату, – ответил Парфентий.
– А если надолго, сынок? Что будет тогда?
– Этого не может быть, этого не будет, тату, – поправился Парфентий, – мы все не хотим этого, – он сказал это с такой убежденностью, что Карп Данилович, как ни был подавлен, улыбнулся словам сына.
– Как же оно может так скоро кончиться?
– Конечно, само оно не кончится. Для этого, тату, много трудов потребуется, и сил много нужно.
– Ох, трудно, – вздохнул отец, – ведь оно вон куда зашло, власть свою устанавливают, порядки свои заводят, злодюги. Говорят, немец под самой Москвой находится и скоро там будет.
– Кто сказал?
– На днях офицер показывал на карте и говорил, что немецкая артиллерия уже бьет по городу.
– Это брехня, тату, не верь. Им надо дух у своих бандитов поддержать, а нас подавить, вот они и брешут, хвастаются. На самом деле все иначе, тату. Ты же слышал, как им здорово досталось под Одессой.
Парфентий помолчал и, глянув отцу в глаза, продолжал:
– Как можно, тату, даже подумать… Москва… Ну, Смоленск. Житомир или Чернигов наши оставили временно, наверное – так нужно было. А… Москву нельзя отдать фашистам. Да там столько заводов, фабрик, музеев, там наше правительство, там Центральный Комитет партии, Центральный Комитет комсомола. Тату, там Кремль, а у кремлевской стены мавзолей. Там спит наш Ленин, тату. Да как можно Москву? – Голос Парфентия дрогнул, ясная голубизна глаз подернулась влагой. Парфентий отвернулся смущенно и выбежал в кухню.
– Глаза у тебя, сынок, на мокром месте, – про себя сказал Карп Данилович, растроганно и нежно глядя вслед Парфентию. Он знал впечатлительную натуру сына. Бывало, Парфуша читает вслух какую-нибудь книжку и, когда доходит до места, где побеждает или гибнет любимый герой, вдруг голос его дрогнет и оборвется на полуслове. Чтобы скрыть и оправдать заминку, он щурится, старается проглотить застрявший в горле тяжелый комок и делает вид, что разбирает неразборчиво напечатанное слово. А потом, вдруг, не выдержав, отворачивается и молча выбегает из хаты.
– Куда ты? – будто не заметив, строго спросит отец.
– Воды напиться, – бросит Парфентий в ответ и долго «пьет воду», усиленно гремя кружкой. А вернется с покрасневшими глазами, а то и вовсе не вернется.
Так произошло и сейчас. Парфентий пробыл в кухне несколько минут и вернулся в пиджаке и фуражке, низко надвинутой на лоб, чтобы скрыть глаза.
Со двора вошла мать.
– Куда ты собрался? – удивленно спросила она.
– Нужно, мама. Я ненадолго, к Мите Попику.
– Так поздно? Спят теперь все.
– Может, и спят все, а Митя не спит, уж я знаю. – Смотри, сынок, нарвешься на кого.
– Не беспокойся, мама, не нарвусь. Я знаю, как пройти. – Парфентий вопросительно посмотрел на отца.
– Иди, иди, сынок, раз нужно. Только осторожнее, – улыбнулся отец.
Парфентий зашел в другую половину хаты и некоторое время что-то делал там, чего-то искал, звякая ведром. Затем, просунув в полуоткрытую дверь голову, весело засмеялся.
– Я скоро, мама, вернусь.
– Ступай, ступай, – подбадривающе бросил отец. И выждав, когда за Парфентием энергично хлопнула наружная дверь, ласково произнес:
– Хороший сын у нас, Лукия.
Лукия Кондратьевна укоризненно посмотрела на мужа.
– Ох, батько, балуешь ты его. Не будет добра, коли хлопчик по ночам пропадать начнет в такое время.
– Скучно ему, Лукия, тоска грызет хлопца, вот он и бежит поделиться с другом, – резонно пояснил Карп Данилович.
Сам он чувствовал и глубоко понимал, что не простое общение с товарищами так влечет сына. Карп Данилович наблюдал, как молодежь села всем существом своим протестует против угнетателей. Он замечал, что к словам Парфентия особенно прислушиваются товарищи, и тайная отцовская гордость за сына росла и ширилась в его душе.
Глава 16
МАЛЕНЬКИЙ СТРАННИК
В больших, не по росту сапогах, перевязанных веревками, в рыжем домотканного деревенского сукна пиджаке, в шапке, нахлобученной до глаз, бродил по селу от хаты к хате мальчик и жалобным голосом просил милостыню:
– Тетечка, милая, подайте христа ради кусочек хлебушка или картошечку.
Сердобольные люди выходили на этот просящий голос и протягивали через порог подаяние. Тогда маленький нищий привычным жестом снимал свою, непомерно большую шапку, истово крестился и, уронив голову на грудь, как-то по особому смиренно, нараспев тянул:
– Спасибо, тетечка, спасибо, милая. Дай бог здоровья вам и деточкам вашим.
Старые люди дивились, откуда у мальчика столько благости и смирения. Они участливо спрашивали:
– Сколько годков тебе, хлопчик?
– Одиннадцатый.
– Жив батько?
– Убитый на фронте, – скорбным голосом отвечал мальчик.
– Да, да. Где же теперь кроме, – спохватывалась какая-нибудь женщина, видимо вспомнив своего мужа или сына, и долго затуманенным взором провожала сиротку.
А он, вновь нахлобучив шапку, брел дальше. Жалобно дрожал его голос, невольно вызывая сострадание. – Тетечка, милая, подайте христа ради… И где-то снова приоткрывалась дверь и натруженная, узловатая старушечья рука протягивала просящему милостыню.
Люди давали, что могли. А он принимал подаяние, истово крестился, благодарил нараспев и брел дальше: – Тетечка, милая, подайте христа ради… Мальчик остановился возле хаты с палисадником на камышовой загородкой и двумя абрикосовыми деревьями перед окнами. Рядом, вдоль улицы, длинный белый сарай, большущая печь у самой дороги. Справа пустырь, слева – овражек.
– Эта самая, – шепчет про себя мальчуган и тихонько направляется к хате.
– Тетечка, милая, подайте христа ради хлебушка или картошечку.
На пороге сеней появляется женщина, до глаз повязанная клетчатым платком, и, обернувшись, кричит в хату:
– Парфуша, дай хлопчику коржик.
Маленький нищий терпеливо ждет. Сердце его бьется часто, сильными толчками, так бьется сердце только от большого волнения.
Парфентий шагнул через порог на улицу и молча подал мальчику небольшой корж, исколотый вилкой. Глаза у юноши голубые и теплые.
Нищий, не снимая шапки, поблагодарил юношу, но уходить медлил и только пристально смотрел сначала в глаза Парфентия, потом на его лоб, по которому вилась светлая, волнистая прядь волос.
– Что ты смотришь? – удивился Парфентий.
Мальчик улыбнулся.
– А я знаю тебя.
– Ну?
– Давно знаю.
– Даже давно?
– Да, – нищий помолчал. – Ты Парфентий?
– Ну, я Парфентий. – Гречаный, – уже утвердительно сказал мальчик.
– Он самый.
– Я сразу догадался.
– А что такое? – спросил Парфентий. Его начинали смущать и вопросы мальчика, и его пристальный взгляд.
– Я много о тебе слыхал. Говорили, что ты белокурый, правильно. И что глаза у тебя такие же голубые, как у меня, это тоже правильно. Сам вижу.
– Да что ты! – засмеялся Парфентий. – А что еще говорили про меня?
– Еще что? Говорили, что смелый хлопец. Очень смелый, – значительно добавил мальчик, с мальчишеским почитанием глядя на Парфентия.
– Кто же тебе про меня такие сказки рассказывал?
– Человек один, – ответил мальчик загадочно. И при этих словах он энергично взял Парфентия за рукав рубашки и, потянув к себе, прошептал:
– Дело к тебе есть.
Краска возбуждения густо залила лицо Парфентия.
– Говори скорее, хлопец. – Зайдем куда-нибудь.
Парфентий порывисто обнял мальчика за плечи, и они бегом завернули за угол хаты. Здесь был скрытый от посторонних взглядов уголок между глухой стеной хаты и большой кучей сухих подсолнечных стеблей.
Мальчик распорол заплатку нижней полы своего пиджака и, достав маленькую белую полоску, подал Парфентию.
Парфентий, волнуясь, развернул записку. Он несколько раз перечитал ее. Мальчик видел, как сквозь золотистую от загара кожу лица его все больше проступал румянец волнения.
В записке было всего четыре слова: «Завтра утром серебряная поляна». И ни подписи, ничего. Но Парфентий без труда узнал, от кого была эта записка. Узнал вовсе не потому, что почерк был уж слишком знакомый, а потому, что он долго ждал эту весточку, ждал нетерпеливо, считая недели, дни, минуты. И, наконец, свершилось. Вот она, эта весточка, у него в руках.
– Спасибо, хлопчик, – с чувством поблагодарил Парфентий, держа у самого сердца зажатую в кулаке записку и протягивая мальчику другую свободную руку. – Идем в хату, позавтракаешь у нас.
– Я не голодный, Парфень, – отказался нищий.
– Отдохнешь, устал небось, – уговаривал юноша. Ему хотелось сейчас сделать что-то хорошее, приятное этому чудесному мальчику, так отважно и умно в образе нищего-сиротки выполняющему роль связного.
– Нельзя, Парфентий. В другие хаты, если зовут, я захожу, а к тебе нельзя, потому что к тебе мне еще придется много заходить. – Он помолчал и, лукаво глядя в глаза Парфентию, добавил: – Понимаешь теперь – почему?
Парфентий с улыбкой кивнул головой.
– Мне сказали, что нас с тобой вместе на селе никто не должен видеть.
– Тогда, может, что нужно тебе, скажи, – спросил Парфентий.
– Ага, нужно. Освободи мне сумку, а то класть больше некуда. А мне еще нужно сперва вот этой улицей пройти, потом вот этой, для отвода глаз. Понимаешь? – разъяснил мальчик, лукаво при этом подмигнув, и, сбив шапку на затылок, улыбнулся широкой белозубой улыбкой. Все лицо его преобразилось, стало совсем иным, мальчишески задорным, и ничего не осталось в нем от налета сиротской скорби и смирения, вызывавших, сострадание несколько минут назад. Парфентий заметил, что и впрямь у мальчика были такие же, как у него, голубые глаза, ранее скрытые под шапкой, и такие же волосы цвета спелой соломы, – только слипшиеся от пота. И с восхищением глядя на его озорное лицо, слыша уверенность в его словах и поступках, Парфентий решил, что этот маленький нищий выполнит любое задание, какое бы ему ни поручили.
– А как же тебя зовут? – спросил Парфентий.
– Меня зовут «эй, хлопчик» или «эй, ты». И я оборачиваюсь, когда меня так кличут. Я никому не говорю своего имени, но тебе скажу. Меня зовут Василь, а фамилия Гончарук, – он произнес это с гордостью и, оглядевшись вокруг, продолжал: – Батько мой на фронте, он у наших комиссаром полка.
– А где ты живешь?
– Там, там, там и там, – указал он на все четыре стороны.
– А дом есть у тебя?
Мальчик коротко и порывисто вздохнул.
– Фашисты спалили. Летом мы с дедушкой и с Наталкой, сестренка моя, – поехали в отступление, нельзя нам было под немцем оставаться. Но нас немцы на Днепре, отрезали и вернули. Тогда много наших вернули.
– Да, да, Василь, я знаю, – подтвердил Парфентий.
– Ну вот. А как зашли к нам в село румыны, то сразу узнали про батьку нашего. И дедушку забили. Мы с Наталкой спрятались, а потом ушли в другое село подальше, а то бы и нас фашисты убили. Тогда я Наталку оставил у людей, а сам, вот видишь, хожу-побираюсь. – Он хитро улыбнулся. – И креститься меня научили, и слова разные жалостливые говорить.
Парфентий диву давался, что такой маленький хлопчик так быстро и совершенно смог постигнуть искусство перевоплощения. Ему даже стало неловко от того, что он значительно старше этого малыша и еще ничего такого значительного не сделал. И он, не утерпев, спросил Василька:
– Сколько же тебе лет, Василек?
– Четырнадцатый. А я всем говорю – одиннадцатый. Нужно так, понимаешь? С маленьких меньше спросу. Штаны у меня, видишь, какие широкие, а сапоги здоровые. Коленки согнешь в них – совсем маленький, хоть з детский сад отправляй. – Он подогнул колени и действительно стал меньше ростом.
– А то дурачком прикинешься. Спросят – чего, а ты молчишь вот так.
Он отвесил нижнюю губу, высунул язык и скосил к носу глаза, приняв совершенно идиотский вид, рассмешивший Парфентия.
Вдруг мальчик стал необычайно серьезным. Лицо его сделалось умным и сосредоточенным.
– Ты думаешь, у меня только в Крымке дела? Нет, я везде бываю.
И неожиданно, сменив серьезный тон на веселый, он как ни в чем не бывало произнес:
– Ну, Парфентий, будь здоров, до свидания, – и по-ребячьи, сразмаху шлепнул маленькой шершавой ладошкой по раскрытой ладони Парфентия.
– Спасибо, Василек. Привет там от нас передай, скажи, что крымские хлопцы не подведут.
Выйдя на дорогу, мальчик внезапно преобразился. Меньше ростом, сгорбленный, он побрел прежней походкой нищего, забитого, жалкого существа, придавленного своей тяжелой долей. И до Парфентия донеслось щемящее сердце:
– Подайте христа ради хлебушка или картошечку…
Парфентий торопливо вбежал в хату, напевая:
– Раскинулось море широко, А волны бушуют вдали…
Мать радовалась, когда он пел, поэтому она, улыбаясь, спросила:
– Что это ты развеселился, сынок?
– Не все же скучному быть, мама… Надо когда-нибудь и повеселиться человеку. Верно, тату?
Он хитро подмигнул отцу.
– Правильно, сынку, нечего нос вешать.
Мать взглянула на мужа и на сына и с легкой, нарочитой укоризной заметила:
– Все ты от меня скрываешь, сынок.
– Ни капельки, мама. С чего ты взяла?
– А что это за хлопчик был?
– Нищий. Ты же сама видела.
– Нищий. А что он дал тебе? – подступала мать.
– Он мне? Это я ему дал коржик.
– Не хитри. Он что-то сунул тебе в руку.
– Ничего.
– Бумажку какую-то. Я сама видела в окошко из кухни.
– Тебе показалось, мама.
– Не вмешивайся, мать, – вступился Карп Данилович, – записка от дивчины. Видишь, как хлопец обрадовался, аж покраснел. – Отец одобрительно улыбался.
Лицо Парфентия действительно рдело от волнения.
– Пусть ходят больше хлопцев и девчат, пусть, а то со скуки помереть можно.
И заговорщицки подмигнув сыну, отец добавил:
– Он, как батько, не любит в тишине да в скуке жить.
Оставшись один в хате, Карп Данилович сел на лавку и, опершись локтями о стол, с волнением слушал, как на кухне пел Парфентий, вкладывая в слова: «Товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли», какой-то свой, затаенный смысл.








