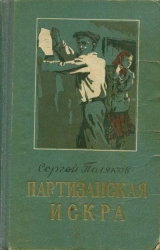
Текст книги "Партизанская искра"
Автор книги: Сергей Поляков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 29 страниц)
Глава 20
МЫ С ВАМИ
Пурга.
Ноги увязают в глубоком снегу. В белой кипени бегут навстречу вишневые деревца. Они гнутся под напором ветра и машут, машут на прощанье своими хрупкими оголенными ветками. Сердце щемит от разлуки с ними. Вот они остаются позади. Уходят назад и последние кустики, торчащие из-под снега.
Это край села, над которым сейчас витает смерть. Она за спиной.
Впереди, в буйном хороводе снегов, лежит безбрежная родная столь.
– Свобода! – тихо, торжественно, как клятву, произносит беглец, покидая родное село. Идет нехоженной тропой, степной целиной. Ветер стелет по земле сыпучие снега, заметает свежие, глубокие следы. Снежный наст проваливается и тяжко идти. Но ноги путника не чувствуют усталости. Все его тело кажется невесомым. Будто неведомые крылья подхватили его, взметнули высоко-высоко над землей и несут нивесть куда с головокружительной быстротой. Мчатся, мелькая навстречу, окутанные снегом села, причудливые кружева садов, кудрявые ленты степных посадок.
И от этого стремительного полета становится жарко. На пылающем лице тают колючие снежинки, стекают горячими щекочущими струйками, смертная жажда жжет грудь, пересохший рот ловит холодный воздух.
Путник наклоняется, на ходу черпает горстью сыпучий снег и жадно глотает. Но жажда все усиливается.
– Воды! – шепчет беглец пересохшими губами.
Он видит сквозь снежную пелену неясные очертания хат. Село. Посреди села одинокий колодезный журавель.
– Пить! – повторяет беглец и бежит к колодцу. Тихо скрипит журавель, медленно качается по ветру тяжелая кованая бадья.
Путник черпает воду и, припав губами к обледенелому краю бадьи, долго и жадно пьет. Он чувствует, как тяжелые студеные комья воды падают внутрь.
Но не унять жара студеной воде.
Снежная даль манит. Надо идти.
И несут, несут вперед беглеца могучие крылья, несут по степи, мимо сел, городов, через реки, глубокие балки.
На пути серой, зубчатой громадой стал лес. Бережно опустили на землю беглеца невидимые крылья. И внезапно стих ветер, смолкло шипенье снегов, только звон в ушах стал слышнее. Медленно и плавно движутся навстречу величественные стволы вековых деревьев. И путнику кажется, будто не он идет, а сами деревья обходят его, отступая назад.
Усталый путник опускается на широкий пень. Лес замирает в неподвижности. Непомерная слабость овладевает путником, темнеет в глазах. Наступает знакомое забытье. Но это только на короткий миг. Вернувшееся сознание кричит: «Скорее, скорее!»
И путник снова идет, все быстрее, быстрее, бежит, наконец. Могучие стволы деревьев расступаются перед ним, дают дорогу. Но молодые, низкорослые деревца, растопырив мерзлые ветки, преграждают путь, больно стегают по лицу. Беглец не чувствует этой боли. Все его мысли устремлены туда, к желанной цели, которая приближается с каждым шагом.
…Вдруг лес поредел, исчезла темнота…..Перед ним на стене ковер. Его ярко-зеленые, алые, синие, оранжевые узоры удивительно знакомы. Кто-то склонился над ухом и тихо говорит:
– Отдохни. Не бойся, никто не узнает, что ты здесь.
Он узнает смуглое личико сестренки.
– Ты, Танюша? – шепчет он, прижимая к своей щеке ее тонкую руку.
– Я, Митя. Ты усни, усни, – ласково, как ручей по весне, журчат слова. И маленькая прохладная ладонь легко касается его пылающего лба.
Но почему рука сестренки вдруг так нестерпимо жжет? Ах, это не рука, это огонь горящей сигары касается его лба, щек, подбородка, закрытых век. А вот и искаженное злобой лицо с черными усиками. И Митя, стиснув от боли зубы, с трудом произносит одно короткое: «Не скажу».
Жуткое видение исчезает. Перед его взором чердачный полумрак, кругом солома, ее жесткие стебли колют лицо.
«Где же Таня?»
– Таня! – кричит он и открывает глаза.
И видит смуглое лицо сестры, склоненное над ним. Как хорошо, что Таня здесь, с ним.
– А где тато?
– Успокойся, нет его. Никого нет, одна я с тобой.
– А хлопцы? – тревожно спрашивает он.
Танюшка молчит, опустив голову.
– Ты боишься сказать мне? Не бойся, говори, я все понимаю.
Снова глухая темнота забытья.
…Прямая, вся в ребристых оттисках автомобильных шин, уходит вдаль дорога. По обеим ее сторонам колышатся густые, светлозеленые хлеба, и там, у горизонта, сходятся с небом. Там, как море, плещут дымчатые волны марева.
Легкие крылья снова несут Митю этой прямой дорогой на восток. А летнее солнце нещадно палит и жара становится все нестерпимее. Митя сбрасывает с себя зимнюю одежду и летит, не касаясь ногами земли.
Среди пения полевых птиц, стрекота кузнечиков и жужжания пчел он различает глухие слитные гулы. Они движутся навстречу и становятся все явственней и явственней. Наконец, отчетливо слышится грохот орудий. Дрожит от него земля, колеблется встревоженный воздух.
– Вот оно! – радостно восклицает беглец. Там решается судьба Родины и его судьба. Митя устремляется вперед. И кажется, что спал жар, сжигавший его, и не томит больше жажда. Только бы скорее туда, скорее бы конец этому мучительному пути!
Он то идет среди хлебов межой, то, пригнувшись, вдоль дороги, глубоким кюветом. А ночью осторожно пробирается через села. Он слышит чужую гортанную речь, видит чужих людей в серозеленых мундирах. Это фашисты – его враги.
…Перед ним опушка маленького леса, каких много на Украине. Он бросается к опушке, пренебрегая опасностью. Над головой свищут пули, воют снаряды, шипят мины.
Митя припадает к земле, смотрит вперед и видит – в густых зарослях кустарника стоит на коленях человек в защитной гимнастерке.
Вдруг человек отнял от глаз бинокль, и Митя увидел на его пилотке маленькую красную звездочку.
Сердце радостно забилось. Забыв об опасности, беглец устремляется к молодому командиру.
– Стой! – кричит командир. Но у Мити нет сил остановиться.
– Ложись! – приказывает командир.
– Свой я! – отвечает беглец.
– Ложись, говорят! – командует офицер. – Ползком давай!
Митя покорно ползет по траве.
– Кто такой!
– Свой же! – радостно говорит Митя.
– Кто свой?
– Попик Дмитрий.
– Откуда?
– Из Крымки. Село такое есть на Одесщине, товарищ командир…
Офицер слушает, нахмурив светлые, выгоревшие на солнце брови. Летом у всех командиров на фронте от солнца выгорают брови.
Дмитрий огорчен, что молодой советский командир как будто не рад встрече с ним, а, напротив, сурово и недоверчиво глядит на него.
– Как попал сюда?
– Бежал из камеры, товарищ командир.
– Из какой камеры? – недоумевающе спрашивает командир.
– Известно, из жандармской. Товарищи освободили меня.
Командир пристально смотрит в лицо Дмитрия и глаза его становятся еще суровее, зубы крепко сжаты.
– Это они тебя? – сквозь стиснутые зубы спросил командир.
– Румынский офицер сигарой. Но я ему ничего не сказал.
Командир с нежностью посмотрел на стоящего перед ним измученного паренька и улыбнулся.
– Молодец, парень! Так и надо, – сказал он и пожал Мите руку.
И от этого пожатия командира Красной Армии у Мити прибавилось силы.
– Я долго бежал к вам. Я верил, что встречу вас, и все мы верили.
– Расскажите, что у вас там…
Митю обступают бойцы. Они такие же молодые, как и он сам. У них обветренные лица и выцветшие брови.
Митя начинает рассказывать. О, у него есть, что рассказать!
– К нам в Крымку пришли румынские фашисты. Они отняли у нас землю, нашу школу, а нас стали заставлять работать на них. Но мы не захотели им покориться. Мы, школьники, создали подпольную комсомольскую организацию и стали бороться против них. – Митя улыбнулся. – Мы помогали вам. Мы верили, что Красная Армия вернется.
Молодой командир ласково улыбается Дмитрию. И на лицах бойцов Митя видит добрые улыбки.
– Но вот до конца бороться мы и не сумели, – с горечью промолвил Митя, – нашу организацию-«Партизанская искра» она называлась, – предал изменник. И теперь там всех хлопцев и девчат арестовали жандармы.
Офицер кладет руку на плечо Дмитрия и говорит:
– Не горюй, скоро мы будем у вас в Крымке.
Командир обнимает Митю и затем все бойцы обнимают его. Он слышит запах пороха и оружейного масла и думает: «Это настоящие фронтовики, боевые ребята, с ними не страшно». И он торопится рассказать им все, чем переполнено сердце.
– А как я спешил к вам, товарищи. Ведь нужно скорее туда, надо спасти их, моих товарищей-партизан! – взволнованно произносит Дмитрий.
– Мы за тем и идем. Сам видишь, что торопимся.
– Возьмите меня с собой, – просит Дмитрий.
Командир хмурит светлые брови, раздумывая – взять или не взять его.
– А стрелять умеешь?
– Еще как! – запальчиво отвечает Митя. – Только из винтовки.
– Это теперь не модно. Вот мы стреляем из каких, – показывает командир на короткий, с большим диском автомат.
– Из этого не умею пока. Но я научусь, быстро научусь, товарищ командир. А вы меня в разведку пошлите. Я, где хотите, проберусь.
– Что же мне с тобой делать? – улыбается командир. Он смотрит на бойцов. – Ну как, возьмем его?
– Да. Надо, – хором отвечают бойцы, – парень хороший и, видать, не из трусливых. Вон как фашисты разделали, и то ничего гадам не сказал.
– Ну, раз солдаты хотят, так и будет. Будешь с нами воевать. Вот только вид у тебя больно не того, не военный.
Дмитрий смотрит на свои босые, исцарапанные в пути ноги, на одежду, изорванную в клочья, и убеждается, что вид у него действительно не военный.
– Но это мы поправим в два счета, – смеется командир.
И Мите от этих слов становится несказанно легко на душе. Хочется обнять командира и всех бойцов, крепко, крепко прижать к сердцу и крикнуть: – Я с вами! Мы все с вами!
– Вот что, – говорит командир, – ты ступай сейчас в тыл. Вон, видишь село? Иди прямо туда. Найди старшину и скажи, чтобы выдал тебе обмундирование и автомат, вот такой, как у всех.
Митя впервые берет в руки автомат. До этого он только слышал о нем из рассказов.
– Сколько же здесь патронов?
– Хватит, – отвечают ему.
– С таким можно воевать. Из одного, пожалуй, целый взвод фашистов уложишь.
– Совершенно верно. Мы так и делаем, – говорит офицер, – ну, ступай. Да скажи старшине, чтобы накормили тебя как следует. Мол, капитан Клименюк приказал. Скажи, что ты мой земляк и друг моего младшего брата Миши.
– Нет, товарищ капитан, я не голоден. Я пить хочу. Во рту пересохло. В груди жжет, как огонь. Жарко мне… пить… пи-и-ить…
Утром староста Шмальфус вышел во двор.
С чердака его сарая доносились какие-то глухие звуки, похожие на стон. Староста подошел ближе и прислушался. Звуки повторялись. Сомнения не было, что это стон тяжело больного.
Осторожно, с опаской староста поднялся по лестнице, ведущей на чердак.
– Пи-и-ить! – доносится оттуда.
– Кто там? – спрашивает Шмальфус.
Тихо шуршит солома на чердаке. Кто-то ворочается, и снова слабый голос:
– Пить я хочу, товарищ капитан.
Шмальфус узнает голос своего племянника.
– Майн готт! – восклицает он. Невыразимый страх обуял старосту. Страх за собственную шкуру. Он-то уж отлично знает, что за укрывательство партизан грозит смерть. Фриц Шмальфус боится смерти. Но ведь он не прятал племянника у себя на чердаке. Помилуй бог! И он вовсе не желает быть в ответе за каких-то там комсомольцев. Что делать? Вытащить племянника с чердака и сказать, пусть идет, куда хочет? А вдруг кто-нибудь заметит и донесет? Дрожь пробежала по телу. Он боязливо огляделся кругом. Ему уже начинало казаться, что кто-то, может быть, знает о том, что на чердаке у старосты Шмальфуса скрывается раненый жандармами племянник его жены, которого ищут по селу. И гонимый чувством страха и ненависти к партизанам, Фриц опрометью побежал в жандармерию.
Будто сквозь сон слышит Митя скрип приближающихся шагов. Затем несколько секунд тишина и топот ног по лестнице. Снова тишина и хриплый голос:
– Кто тут?
Но Митя не может осознать, кому принадлежит этот голос. Другу или врагу. Жажда, испепеляющая жажда заслоняет собою все.
– Пи-и-ить! – просит он ослабевшим голосом.
Глаза Романенко наливаются кровью. Он бросается на чердак, разрывает солому и видит окровавленного, в лихорадочном бреду, Дмитрия.
– Вот ты где! А мы ищем тебя, с ног сбились. Поднимайся!
Митя лежит недвижно. Кажется, все, что происходит перед ним, не касается его.
Романенко хватает лежащего за волосы, слипшиеся от крови, и яростно, скверно ругается.
Митя видит перед собой страшное, угреватое, искаженное злобой лицо. Но оно как-то внезапно расплывается, стушевывается и на его месте четко вырисовывается добрая улыбка молодого капитана. И кругом родные, обветренные лица бойцов.
– Мы скоро будем в Крымке, – говорит капитан. – Я с вами, товарищ капитан. Мы все с вами. Остервенелая брань, звериное рычание. Грохот выстрела, вместе с ударом в висок. И… темнота.
Глава 21
ЗА РОДИНУ!
Утром двадцать восьмого февраля все население Крымки было взбудоражено криками:
– Ведут!
– Хлопцев наших ведут из Первомайска!
Будто эхо разнесло эту весть по селу из края в край. Жители Крымки от мала до велика повыскакивали из хат. По улицам бежали полураздетые ребятишки, старики, женщины, покинувшие топящиеся печки. И весь этот гудящий человеческий поток устремился к окраине села, откуда выходила и тянулась по степи дорога на Первомайск.
Здесь, на окраине, собирались огромной толпой. Лица людей выражали чувство тревоги и смутной надежды. Думали, что, может быть, все обойдется и хлопцев с девушками распустят по домам.
Взоры собравшихся были устремлены на дорогу, по которой двигалась небольшая колонна крымских подпольщиков. По обеим ее сторонам с винтовками наперевес шагали по снегу жандармы. Их было более полусотни. Впереди колонны ехал верхом начальник жандармского поста Анушку.
В Крымке знали о пытках, применяемых румынскими фашистами при допросах крымских комсомольцев. За эти двенадцать дней люди много слышали о зверствах префекта Изопеску и его палачей. Но то, что увидели сейчас, превзошло все их ожидания. Это было ужасное, леденящее душу зрелище.
Скрученные попарно по рукам колючей проволокой, окровавленные, избитые до неузнаваемости, шли юноши и девушки. На некоторых из них вместо одежды висели клочья, иные были в одних нательных рубашках, пропитанных кровью, некоторые ступали по мокрому снегу босыми ногами. И почти на каждом бинты: бинты на головах, на руках, алые бинты, окрашенные кровью.
Но что больше всего взволновало собравшихся и заставило трепетать сердца, – это тишина. Ни единого звука, ни слова, ни стона, ни малейшего проявления слабости. Будто не было здесь ни боли, ни мук. Какая-то гордая, величавая тишина владычествовала в этом молчаливом шествии. Они шли с гордо поднятыми головами, презирая муки и тех, кто причинял их. Шли, как подобает сильным.
И та же гордая тишина царила среди собравшихся.
– Мама, им больно? – тихо нарушил тишину детский голосок.
– Больно, – ответила мать.
– А почему они молчат?
– Потому что они герои, – вместо матери пояснил глухой, стариковский голос.
– А героям не страшно? – не унимался мальчик. Ему до конца хотелось понять эту тайну молчания.
– Не страшно. Они сильные и смелые, – ответил тот же голос.
Колонна приблизилась. Перед крайними хатами дорога чуть изгибалась, и колонна развернулась боком к стоящим.
Впереди шли связанные между собой Поля с Марусей Коляндрой. За ними Соня Кошевенко с Верой Носальской, схваченной по подозрению два дня назад, дальше Надя Буревич с Тамарой Холод. За девушками, связанный с Карпом Гречаным, шел Владимир Степанович Моргуненко.
Он глянул в сторону односельчан и улыбнулся всем знакомой улыбкой. И все, сколько было людей, поклонились.
Дед Григорий вышел вперед и, сняв шапку, склонил седую голову перед героями.
В полусотне метров Анушку приказал колонне остановиться. Сам он подъехал ближе к собравшимся, обвел всех злыми глазами и спросил:
– Кто разрешил вам собираться здесь?
Народ молчал. Не от боязни, а от прилива враждебных чувств, от лютой ненависти к этому человеку. Если до той поры некоторые считали его просто жандармским офицером, исполняющим свои, по приказу свыше, обязанности, то теперь каждый видел в нем палача, истязающего их детей, заклятого врага, убить которого каждый почел бы за свой святой долг, если бы было возможно.
– Я спрашиваю, почему собрались?
– Детей наших посмотреть, – отозвался из толпы женский голос.
– Я думаю, от таких детей хорошие родители давно бы отказались. – Он шарил глазами по толпе, будто ища одобрения своим словам. Но он услышал иной, чем предполагал, ответ:
– Для нас они хороши, а каковы для вас – нам все равно.
Эти слова принадлежали Татьяне Беличковой, чей сын Ваня был среди арестованных. Анушку приподнялся на стременах.
– Кто это сказал?
Все молчали.
– Может, эта женщина хочет пойти вместе с ними? Там всем место найдется. Я приказываю сейчас же разойтись.
Но люди стояли, как прикованные. Никто не решался в эту минуту покинуть детей. Хотелось всем существом быть ближе к своим кровным. А ведь у многих, собравшихся здесь, были сыновья, дочери, внуки, братья и сестры.
Понимая, что народ сам не разойдется, Анушку пошел на хитрость.
– Ваши дети будут распущены по домам, только не раньше, чем разойдетесь вы.
Но словам офицера никто не верил. Все видели состояние, в котором находились арестованные, и понимали, что не даровать им жизнь собирались палачи.
– Пока не разойдетесь, я буду держать их на холоде. Пусть мерзнут, если вам не жалко.
Он подождал минуту и, видя, что ни единый человек не двигается, крикнул жандармам:
– Двадцать человек ко мне! Разогнать это сборище!
Толкая прикладами, жандармы теснили людей, но разогнать так и не удалось. Люди разбегались и прятались в ближайшие хаты, чтобы не сводя глаз смотреть.
Когда опустела окраина, колонну подпольщиков выстроили на большом пустыре в стороне от дороги. Против нее шеренгой стояли солдаты.
Капитан Анушку развернул большой лист бумаги. Это был приговор полевой жандармерии осужденным участникам подпольной организации «Партизанская искра», подписанный жандармским подполковником Модестом Изопеску.
Сообщить Наде Буревич о предательстве и предупредить ее о грозящей ей опасности ареста Парфентий не успел. Конные жандармы опередили его. Надя, вместе с членами ее подпольной группы, была уже схвачена и отправлена в крымский жандармский пост.
Покинув Каменную Балку, Парфентий вышел в степь. Он шагал по глубокому снегу, поглощенный тяжелыми думами о товарищах, схваченных жандармами. Он понимал, что всех их ожидают пытки, истязания, а затем неминуемая смерть. А ведь их борьба только начиналась. И так все это неожиданно оборвалось из-за подлой измены одного. Но неужели все погибло? Нет, не может быть. Ведь то великое дело, за которое он вместе со всеми товарищами боролся, не погибло. Оно бессмертно.
Эти мысли придавали ему силы. Он шагал все быстрее, не чувствуя огневой боли в раненой ноге.
«Скорее туда, в лес!» – торопил он себя, на серебряную поляну, где он условился после налета на жандармерию собраться с товарищами. Он надеялся, что не все они арестованы. Некоторые из них ушли и, может быть, уже там, на месте ждут своего вожака.
Но на серебряной поляне не было ни души. Он несколько раз обошел ее вокруг.
С щемящим чувством долго стоял он на том месте, где с товарищами целовал знамя, клялся в верности Родине.
Измученный, с усиливающейся болью в ране, пробродил он всю ночь по лесу. К утру поднялся жар. Тягучий озноб ломил тело, и в голове стоял шум, обычный при высокой температуре и потере крови. От слабости подкашивались ноги. Перед глазами мутнели, теряя очертания, предметы.
Превозмогая слабость, он побрел к селу в надежде укрыться где-нибудь на горище в соломе, отдохнуть, а главное, – перевязать рану на ноге. Домой идти Парфентий не решался, ибо знал, с каким ожесточением разыскивают его по селу жандармы.
Он подумал о деде Григории. На него Парфентий надеялся. И на этот раз он был уверен, что преданный и честный старик, как никто другой, сможет укрыть его и помочь.
Собрав остаток сил, Парфентий добрался до хаты деда Григория. И когда тот открыл дверь, повалился к нему на руки, теряя сознание.
Дед Григорий отогрел Парфентия, перевязал ему рану и, когда чуть забрезжил рассвет, спрятал больного на чердаке бывшей колхозной кузницы. Он притащил туда все теплые вещи, которые были в доме, чтобы как можно теплее укутать раненого.
Шестеро суток дед Григорий ухаживал за больным. Тайком носил ему еду, питье, давал лекарство, которое с большим трудом удавалось доставать.
На седьмой день, когда жар спал и раненый почувствовал себя лучше, дед Григорий рассказал Парфентию обо всем, что произошло за эти дни в Крымке.
Видя, как тяжело принял Парфентий весть об аресте учителя и смерти комиссара «Партизанской искры» Мити Попика, дед Григорий умолчал об аресте отца, матери и сестренки. Не хотел старик увеличить и без того непомерно великие страдания юноши.
На следующий день Парфентий сказал деду Григорию, что хочет уйти в савранские леса к партизанам.
– Как-нибудь доберусь.
– Нет, Парфуша, еще рано, – возразил старик. – Слаб ты очень. Не дойдешь, по дороге где-нибудь загниешь. Нога у тебя припухла. Ты и сапог не наденешь. А без сапог по этакому снегу куда пойдешь? Путь неблизкий. Полежи недельку, справишься трошки и тогда можно пойти. Я понимаю, что тебе тут оставаться нельзя. А я постараюсь хлопчика Васю увидеть. Он тебя прямо куда следует приведет.
Одиночество на пыльном, закопченном чердаке кузницы усиливало душевные муки Парфентия. Но он согласился с доводами деда Григория и решил остаться еще на несколько дней.
Но спустя три дня после этого разговора утром Парфентий услышал на улице шум. Он заглянул в щелку. По улице бежали возбужденные люди. Среди шума он различил слова: «Хлопцев ведут», и в нем вспыхнуло неодолимое желание бежать туда, увидеть своих товарищей, быть ближе к ним в эту минуту.
Покинув свое убежище, Парфентий пробрался на окраину села. Ему удалось незамеченным забраться на чердак ближайшего сарая.
В небольшое отверстие, проделанное им на крыше, он видел все, что происходило.
Анушку закончил читать приговор и отъехал в сторону. Несколько минут царила тишина. И в этой жуткой тишине, раздирая на части сердце, долго и неумолчно звенело последнее слово приговора: «Расстрелять!»
Тяжелый ком подступил к горлу Парфентия. С особой силой почувствовал он сейчас горечь утраты, любовь и душевную близость к товарищам, гордость за их презрение к смерти и гнев к палачам.
Какое же право дано этим зверям отнимать жизнь людей только потому, что они не захотели им покориться? Кто дал это право румынскому жандарму Анушку?
Анушку сидел на лошади спиной к нему.
Парфентий вынул наган и прицелился.
Тишину расколол треск выстрела. Офицер запрокинулся навзничь и, сраженный насмерть, повис на стремени.
Цепь жандармов смешалась, расстроилась.
– За вас, товарищи! – крикнул Парфентий. Все стоящие узнали голос своего вожака и в ответ дружно, мощно загремело:
– За Родину!
– Смерть фашистам!
Группа жандармов бросилась к сараю. Но Парфентий спрыгнул с чердака и исчез.
Оставшиеся жандармы, потеряв начальника, стали, торопясь, стрелять по осужденным. Упавших добивали прикладами, с остервенением топтали сапогами.
И не от ярости они делали это. Другое чувство владело ими. Это было чувство страха за завтрашний день, готовивший им, убийцам, самую страшную из всех, бесславную собачью смерть.








