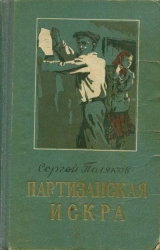
Текст книги "Партизанская искра"
Автор книги: Сергей Поляков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 29 страниц)
Глава 16
В ЗАСТЕНКЕ
Поздно вечером все арестованные крымские комсомольцы были доставлены в Первомайск.
Пятитонка остановилась перед зданием, где помещалась так называемая «Кривоозерская уездная префектура».
Из кузова машины повыпрыгивали конвоировавшие жандармы и окружили арестованных плотным кольцом. Был дан приказ всем комсомольцам высаживаться. Но после двадцати километров пути в открытой машине, на студеном ветру, юноши и девушки так закоченели, что не могли двигаться. Тогда жандармы начали как попало стаскивать комсомольцев и бросать на снег. Поднимать с земли слабых товарищей было запрещено.
Затем арестованных снова переписали, после чего префект распорядился поместить их в одну камеру заново построенной тюрьмы во дворе префектуры.
История этой тюрьмы, из которой не вернулись многие сотни советских людей, такова:
По занятии города Первомайска уездная префектура во главе с жандармским подполковником Модестом Изопеску разместилась в бывшем здании городской милиции.
До вступления румын в город в глубине просторного двора милиции стоял небольшой флигель, в котором находилось несколько камер для арестованных. Первое время румынские жандармские власти сажали туда схваченных ими «неблагонадежных» советских граждан. Но по мере того, как эта «неблагонадежность» охватывала все большие массы народа, принимая форму сопротивления оккупантам, форму открытой борьбы, этих камер жандармским властям оказалось мало. Арестованных становилось все больше и больше и некуда было их девать. Тогда префект приказал сломать старый флигель и на его месте построить новый. Префект сам консультировал строительство. Весной сорок второго года тюремный корпус был готов и стал называться «временной тюрьмой».
Жандармские власти считали ее временной, потому что надеялись осесть на захваченной территории и построить в городе постоянную вместительную тюрьму по образцу современных фашистских тюрем. Местное же население называло ее временной по другим соображениям. Первомайцы говорили:
– Придут наши, по камешку разнесут эту тюрьму.
– По ветру пустят, чтобы и кирпичика от нее не осталось, ни пылиночки.
Часто называли эту тюрьму попросту «кладбищем», так как видели и знали, что если кто попадал туда, то уж обратно не возвращался. И когда прохожие горожане видели сквозь решетчатые ворота, как во флигель в глубине двора уводили арестованных, они со скорбью говорили:
– Повели на кладбище…
То, что называлось временной тюрьмой, или «кладбищем», был небольшой, придавленный к земле каменный ящик, покрашенный в зловещую, грязно-бурую краску. Вдоль узенького коридорчика размещалось двадцать клетушек-камер, в каждой из которых с трудом могло поместиться восемь-десять человек. Низенькие камеры делились пополам зыбкими, из тонких неструганных досок нарами, доходящими почти до самых дверей. Свет в камере скупо проникал из крохотных оконец в полутемный коридор.
В одну из таких общих камер и были заключены комсомольцы.
Дежурный офицер по одному впускал арестованных, тщательно пересчитывая.
– Тридцать два, – сказал офицер, захлопнув узенькую, обитую жестью дверь камеры, и выразительно повертел кулаком перед носом часового.
– За этими смотри в оба. За каждого отвечаешь головой. Понятно?
Солдат вытянулся в струнку и, приставив к пилотке заскорузлую крестьянскую руку с плоскими черными ногтями, произнес:
– Понятно, домнул капитан.
В присутствии офицера ему, бедному, забитому солдату, привыкшему не думать, и не рассуждать, все казалось понятным. На то есть офицеры – так внушали ему с первого дня тяжкой солдатской службы.
Но оставшись один, он, несмотря на запрещение думать, все-таки стал думать о том, в чем же провинились эти мальчики и девочки и почему его начальство считает их большими преступниками. За все время службы здесь, при тюрьме, он много видел арестованных русских, которых бросали в камеры, потом водили на допрос и снова возвращали уже избитыми, измученными до неузнаваемости.
Офицеры всех заключенных называли бандитами. И солдат-привратник первое время верил и удивлялся, что в России так много развелось бандитов.
Однажды солдат, открыв, глазок в камеру, спросил одного пожилого человека, кто он такой и за что его посадили.
Заключенный ответил, что он простой труженик, а посадили его в тюрьму за то, что не захотел видеть на своей земле хозяевами чужеземных захватчиков.
За этими разговорами солдата застал тихо подкравшийся дежурный офицер и крепко избил его. С тех пop солдат стал относиться ко всем заключенным с сочувствием. Всякий раз, давая офицеру обещание быть с заключенными строгим и безжалостным, он тайно общался ними, часто помогал, тайком доставляя передачи, записки.
Сейчас, когда во дворе смолкли шаги дежурного офицера, солдат тихонько отодвинул глазок и прислушался. В камере вновь прибывших было тихо. Только еле слышно кто-то стонал.
– Эй! – позвал солдат.
Изнутри к окошечку приблизилось лицо.
– Что вы делали? – спросил привратник по-русски.
– Ничего не делали, – ответил голос.
– Почему турма, зачем камера?
– Ты у своих офицеров спроси, – отозвался тот же голос.
– Нет спроси офицера. Офицер много бить мне.
– Значит ваши офицеры не только нас, но и вас бьют?
Солдат промолчал, видимо, проглотив горькую пилюлю правды. Он глубоко и шумно вздохнул.
– Холодно? – сочувственно спросил солдат.
– Холодно, – ответил Андрей.
Солдат пожал плечами и пробормотал:
– Турма есть, камера есть. Я – нет камера. Я – русский гуляй и румунский гуляй домой.
Он снова шумно вздохнул и тихонько задвинул волчок.
– Что он сказал, Андрей? – спросила Поля.
– Говорит, что он не стал бы сажать нас в камеру, ему это не нужно, а нужно префекту и офицерам. А он отпустил бы нас домой, а сам бы к себе в Румынию уехал.
– Конечно, не все они звери. Бедным румынским крестьянам война не нужна, они не хотят воевать против нас.
– Вот и видно, что он сочувствует нам.
– А ты спроси его, Андрей, что с нами будут делать жандармы. Он, небось, все знает.
Андрей тихо постучал в дребезжащую фанерку волчка.
Дощечка отодвинулась. К окошку приблизилось темное, худощавое лицо солдата. От тусклого света маленькой керосиновой лампы в коридоре лицо солдата казалось покрытым зеленоватой бронзой.
– Тебя как зовут? – спросил Андрей.
– Василе.
– Василе? Вася! Как в России.
– А ты как зовут? – спросил в свою очередь солдат.
– Андрей.
– Андрей? – улыбается солдат. – Как в Романии.
– Скажи, Василий, что будет нам?
– Не понимай, – замотал головой солдат.
– Стрелять нас будут?
Солдат понял слово «стрелять». Он на минуту задумался, а потом, будто спохватившись, снова замотал головой.
– Нет стреляй. Турма есть. Много турма, – протяжно произнес он и закрыл глазок.
В камере несколько секунд стояла тишина.
– Не хочет нас огорчать, – заметила Поля.
Стали размещаться. Тех, кто был послабее, поместили на нарах. Кто мог еще держаться, сдвинулся поплотнее на бетонном полу, дышавшем смертельным холодом.
И снова в камере воцарилась тишина, зловещая, притаившаяся. Будто непомерная тяжесть навалилась на камеру ночь, еще ниже придавив потолок. Стало совсем темно. Казалось, что этот низкий и тесный бетонный гроб вместе с живыми людьми опустили глубоко в землю.
Потом несколько минут было слышно, как в коридоре тихо шаркали по полу шаги тюремного часового. Наконец шаги смолкли, и снова гробовая тишина сомкнулась над камерой, прочная и страшная. Она отделила заточенных от жизни, от солнца, от просторов родных степей, от дорогих сердцу людей. И из этого холода и мрака вставал светлый облик Родины, за которую каждый из них готов был без колебаний и страха принять любые муки.
Глава 17
СЛОВО КОМСОМОЛЬЦА
Комната, где учиняли допросы заключенным крымским подпольщикам, помещалась в самом глухом, отдаленном углу здания префектуры. Это была небольшая продолговатая каморка с бетонным полом, служившая когда-то кладовой. В целях звуконепроницаемости дверь этой камеры была обита мешковиной с толстым слоем пакли внутри. Единственное решетчатое окно с двойными рамами было засыпано опилками. Таким образом, пытки происходили только при свете электрической лампочки, висящей под потолком.
И все равно, когда над городом спускалась ночь, в ее тревожной тишине жители Первомайска с содроганием слушали леденящие душу крики истязуемых.
Сегодня идет допрос комсомольцев – партизан Крымки. На этом допросе присутствует сам уездный префект Изопеску. Он сидит в углу камеры за столиком перед раскрытой коробкой сигар и беспрестанно курит. Его широкое, порядком обрюзгшее лицо с выпуклыми стеклянными глазами выражает негодование. Префект недоволен тем, что этот следователь даром суетится. Подумать только, за неделю он не мог добиться от этих ребятишек толку, не мог вырвать какого-либо мало-мальски нужного признания. До сих пор в руках сигуранцы[20]20
Охранка, политическая полиция в монархический Румынии.
[Закрыть] оставался только один факт налицо – это сами арестованные. Но с кем связана была подпольная организация, кто руководил ею, где спрятано оружие, радиоприемник, в существовании которого жандармы не сомневались, – это оставалось тайной.
Вот уже битый час префект наблюдает, как следователь допрашивает одного из главарей «Партизанской искры» Михаила Кравца. И ни слова, ни единого звука не издает пытаемый. Несколько раз он терял сознание, столько же раз присутствующий врач подносил к лицу лежащего на полу Михаила флакон с нашатырным спиртом, чтобы привести в сознание. Но префект не услышал ни одного слова. Тогда, охваченный яростью, он вскочил с места и вышел из-за стола.
– Ты будешь говорить? – прошипел он.
Михаил молчал.
– Я спрашиваю! – крикнул он истерически. Молчание.
Префект изо всей силы ударил юношу по лицу. Но и тут он услышал в ответ только вырвавшийся сквозь зубы глухой стон.
Изопеску несколько секунд смотрел в прищуренные мальчишеские серые, непроницаемые глаза и понял, что власти его над этим измученным подростком нет никакой. Он тяжело бухнулся на стул.
– Уберите его! Что вы с ним возитесь! – раздраженно крикнул он.
Двое жандармов торопливо подхватили Михаила под руки и потащили к двери.
– Постойте! Приведите мне… – он заглянул в список, разложенный на столе, – Михаила Клименюка.
– Он сейчас без сознания, домнул субколонел, – ответил врач.
– Как? До сих пор?
– Да, домнул субколонел. Еще со вчерашнего дня, когда он при допросе грубил следователю…
– Это я без вас знаю! – грубо перебил Изопеску. – Вернуть сознание. Это очень важный преступник. По всем данным, он занимался связью с Москвой и знает, где запрятано радио.
– У него высокая температура, домнул субколонел. Да и к тому же он настолько обессилен, что не сможет отвечать, – пытался доказать врач.
– Не мне вас учить медицине, – оборвал префект. – Сознание этому преступнику должно быть возвращено теперь же. Остальное меня не интересует.
– Слушаюсь, – промямлил врач без какой-либо надежды в голосе.
– А сейчас приведите ко мне эту… эту… девчонку, – он снова заглянул в список, – Полина Попик.
Префект зажег забытую недокуренную сигару, несколько раз подряд пыхнул ею. Камера снова наполнилась синим, едким дымом.
Ввели Полю и грубо втолкнули на середину камеры.
– Осторожно. Я приказываю с арестованными обращаться хорошо, – с наигранной строгостью заметил префект. – Подойди ближе, девушка. Говорят, я истязаю арестованных. Это правда? Ты слышала об этом?
Поля молчала.
– Правда, я очень строг с теми, кто провинился и не хочет признать свою вину, и, наоборот, мягок с теми, кто признает ее и раскаивается. Я надеюсь, что с тобой у нас недоразумений не произойдет. Так ведь?
Префект говорил медленно, стараясь придать каждому своему слову внушительность и вескость.
Поля молчала. Она смотрела на тучного префекта, тяжело нависшего над столиком. Он слегка улыбался. Девушка не понимала, почему он улыбается, и думала, что это у него происходит от смущения перед ней. А может быть, от бессильной ярости? Поля знала цену этой улыбки палача, только что замучившего ее товарища. Она подумала, что, может быть, и Михаилу в начале, вот так же, как и ей, мучитель улыбался, рассчитывая притворной гримасой расположить к себе и вырвать признание. Поля не доверяла улыбке префекта. Она видела лишь ту развязку, которая неизбежно должна была последовать за всем этим «деликатным» предисловием. Она приготовилась отвечать так, как подсказывали ей чувства любви к Родине и верность святой клятве, данной год назад там, на серебряной поляне, под алым знаменем.
«Клянусь до последней минуты остаться твердой и непоколебимой и бороться до конца жизни», – повторила Поля про себя слова клятвы.
И эти слова придали ей бодрость духа и твердость.
– Ну, расскажи все по порядку, что же произошло у вас там, в Крымке? – стараясь сохранить улыбку, спросил префект.
– Ничего не произошло.
– А за что же вас арестовали? – изображая на лице недоумение, спросил префект.
– Я думаю, вам это известно, – ответила девушка.
– Не все. Правда, мне многое успели рассказать твои товарищи-партизаны, – он подчеркнул последнее слово.
Черные глаза Поли сузились. Вздрогнули в гневе тонкие ноздри.
Префект будто бы не заметил явного недоверия девушки к его словам и продолжал:
– Но я хочу услышать от тебя кое-что. Ты была одним из лидеров этой группы подпольщиков. Так ведь?
– Ни о какой группе я не знаю.
– Но я знаю.
– Считайте, как хотите, мне все равно.
– Но мне не все равно. Я должен знать, с кем мне приходится разговаривать.
– Задавайте вопросы, – сухо произнесла Поля.
– Не спеши, дойдем и до вопросов. У нас времени хватит. Я понимаю твое желание говорить со мной чистосердечно. Я старше каждого из вас в три раза и на ваши нехорошие поступки смотрю снисходительно, по-отцовски. Ваше дело – признаться во всем и раскаяться, а мое – выслушать и слегка наказать, а, может, даже и простить. Я уверен, что вы здесь не виноваты. Вас толкнули на это нехорошее дело старшие, а вы по молодости своей не поняли, какие скверные последствия могли от этого быть.
– Нас никто не толкал и ничего плохого мы не делали, – резко ответила девушка.
– А я знаю, что вас ввел в заблуждение ваш бывший учитель Моргуненко. Он и привел вас сюда в камеру. Некоторые из твоих товарищей вот здесь говорили мне, что они теперь ненавидят Моргуненко и раскаиваются в том, что слушали его.
При последних словах префекта Поля выпрямилась. Белым-бело стало ее красивое исхудавшее лицо. Черные полудуги бровей сомкнулись над переносьем.
– Неправда! – крикнула она. – Мы любили и любим нашего учителя, вы брешете!
– Спокойнее, ты не дома.
– Да, это брехня. Никто вам этого не говорил и не мог сказать!
– Мне лучше знать, что говорили мне здесь твои друзья. Они умнее тебя и понимают, к чему может привести такое упрямство.
– Я не верю, – решительно произнесла Поля.
– Может быть, ты станешь отрицать, что ваш любимый учитель был организатором и наставником банды молодых преступников, которым место в исправительном доме?
Это было уже слишком. Жандарм явно глумился над ней, над ее святым чувством. Стиснув кулаки так, что ногти впились в ладони, Поля крикнула:
– Вы держите нас в камере и мучаете, а за что? Вы называете нас бандитами, почему? Мы не врывались в чужой дом, не грабили, не убивали, как это делаете вы!
– Спокойнее, спокойнее, – теряя терпение, сказал префект. Улыбка исчезла с его расплывчатого побагровевшего лица. Студенистые выпуклые глаза смотрели на девушку злобно и совсем не «по-отцовски». Он приподнялся над столом и долго испытующе смотрел на стоящую перед ним хрупкую девочку, такую гордую и спокойную перед ним, – властным и страшным человеком. Его поражала эта необычайная твердость убеждений и дьявольская стойкость простых сельских юношей и девушек. Он чувствовал, что если сейчас потеряет терпение и выдержку, перейдет, как он делал это с предыдущими арестованными, к жесткой форме допроса, то ничего не добьется. Он решил пересилить себя и попытаться продолжать разговор в более ровном, спокойном тоне.
– Меня сейчас вы не интересуете, вас я могу распустить по домам. Мне нужно знать, кто руководил вами. Кто подстрекал вас на преступления.
– Я вам сказала, что никто нас не подстрекал и мы ничего плохого не делали.
Префект, сдерживая раздражение, заговорил еще мягче:
– Ты молодая, у тебя вся жизнь впереди. У тебя есть мать…
– Да. Еще отец и два брата офицера на фронте, – с гордостью добавила Поля.
– Отец и братья, небось, погибли или сдались в плен, – криво усмехнулся Изопеску. – Красная Армия не хочет воевать против нас.
– Кто вам сказал?
– Сама обстановка говорит.
– Нет. Вас обманывают, господин префект. Красная Армия наступает и скоро будет здесь.
Префект от этих слов вскочил, как ужаленный.
– Молчать! – крикнул он. – Подвести сюда. Руки на стол!
Двое жандармов держали руки Поли на столе. Префект несколько секунд пристально рассматривал тонкие пальцы со следами крови.
– Что это за кровь? – поморщился он.
– Перевязывала раны и ожоги товарищей.
– Ты знаешь, что такое жизнь?
– Да. Это самое дорогое, что есть у человека.
– Ну, а что такое смерть, ты тоже знаешь?
– Представляю.
– Видимо, плохо представляешь. А это, девушка, страшная штука. Это самое страшное для человека, – стараясь попасть в тон Поли, проговорил Изопеску.
– Нет, не самое страшное – возразила девушка.
– А что страшнее?
– Предательство, вот что.
Поля проговорила это так спокойно, что префект почувствовал себя в тупике. Оставалось одно – перейти к пыткам, как к последнему средству жандарма-карателя. Он решил пытать, пытать, пока не замучает жертву до смерти. Он взял из коробки новую сигару и долго раскуривал, пока на кончике ее не образовался большой пук огня.
– Будешь отвечать на вопросы? – сквозь зубы спросил Изопеску.
Теперь он уже не скрывал бурлившей в нем ярости, и по угрожающему тону Поля поняла, что наступила та минута, которой она ждала. Она не думала сейчас ни о пощаде, ни о том, чтобы отдалить эту минуту мучений. И совсем не страшен ей был палач, засучивающий рукава. Одно желание жгло сердце – скорее закончить этот не нужный разговор. Она гордо подняла голову, как подобает честным и смелым, и бросила в лицо жандарму:
– Я все сказала, забыла только сказать, что скоро, скоро придут мой отец и братья и объяснят вам, что такое смерть.
Щеки префекта затряслись, глаза выкатились из орбит. Скрюченные пальцы судорожно впились в сукно стола.
– Я хочу знать, кто участвовал в подрыве железной дороги.
– Не знаю.
Префект прижег пальцы девушки огнем сигары. Мучительная боль полоснула по всему телу, ударила в виски, затуманила глаза. Поля стиснула зубы.
– Кто руководил налетом на жандармский пост?
– Не скажу.
Огневая боль усиливалась. Перед глазами поплыли желтые круги.
– Кто вами руководил? – различала Поля в общем потоке слов отдельные слова и молчала. А огонь жег все новые и новые места рук, затем перекинулся на лицо, на обнаженную грудь, и с каждым прикосновением становилось все нестерпимее. Бесконечно долго, казалось, длилось это мучительное жжение. Потом боль стала тупее, усилилось головокружение, начало сохнуть во рту. Все вокруг становилось зыбким, колеблющимся. Поля почувствовала, что вот-вот лишится сознания. А она ведь еще не все сказала этому палачу. Тогда она собрала остаток сил и крикнула:
– Я не боюсь смерти! Я не боюсь вас! Слушайте, всей борьбой против вас руководит наша Коммунистическая партия!
– Заучила наизусть, – рычал префект.
– Нет, не заучила, а поняла сердцем с самого детства!
На мгновение префект остановился. Вытаращенные глаза его налились кровью, на шее вздулись синие жилы. Он с остервенением швырнул дымящуюся, расплющенную сигару на стол и бросился к двери.
– Подвести сюда!
Жандармы подтащили Полю и просунули пальцы ее рук между открытой дверью и притолокой.
– Говори! – сдавленным голосом прохрипел Изопеску и потянул дверь.
В камере стало тихо. И в этой жуткой тишине слабо вскрикнула девушка. Предметы потеряли свои очертания, все поплыло, закачалось вокруг, исчезли звуки и все погрузилось в беспросветную тьму. Поля потеряла сознание.
Префект с силой захлопнул тяжелую дверь и вернулся к столу. Он долго курил, окутывая себя сизыми облаками дыма. Присутствующие украдкой наблюдали, как растерянно блуждали по бумагам на столе расширенные зрачки остекленелых глаз.
У двери врач торопливо бинтовал раздробленные пальцы девушки. Словно окаменелые, стояли двое жандармов, ожидая следующего распоряжения.
– Арестованного Моргуненко привести ко мне в кабинет через полчаса, – уходя, бросил префект жандармам.








