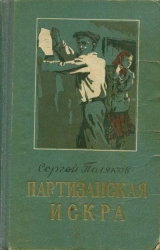
Текст книги "Партизанская искра"
Автор книги: Сергей Поляков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 29 страниц)
Глава 18
СЛОВО КОММУНИСТА
Кабинет Изопеску был тесен и низок. Казалось, выбирая себе крохотную комнату, префект задался целью казаться в ней крупнее и внушительнее, а огромное кресло с высокой резной спинкой как бы дополняло это мнимое величие уездного правителя. Настольная лампа под рефлекторным абажуром бросала только небольшой яркий кружок света на середину стола, оставляя все прочее в полумраке.
В ожидании Моргуненко префект пытался подавить в себе ярость и настроиться на более спокойный лад. Но это ему плохо удавалось. От мысли, что со следующим арестованным придется начинать все с начала, бросало в дрожь.
– А, чёрт, нервы, – буркнул он и, достав из кармана глиняную бутылку с ромом, прямо из горлышка отпил несколько глотков. Горячая волна пошла по жилам. Нервы будто успокоились, но мысли продолжали скакать вкривь и вкось. Он закурил сигару, в надежде окончательно успокоиться. Но и сигара, как на грех, показалась травой. Эта проклятая девчонка со своим упорством вымотала душу.
Моргуненко ввели. Префект отвернул от стола лампу, направив ослепительную воронку света на вошедшего. В дверях, в изодранной одежде, без шапки, стоял плотный, сильный человек с окладистой темнорусой бородой. На осунувшемся лице с припухшими веками лежали следы побоев.
«Видно, хорошо поработали над ним мои ребята, – с удовлетворением подумал Изопеску. – Посмотрим, что это за орех, который до сих пор не могут раскусить».
Префект молча указал на стул в двух шагах от стола. Но вошедший как будто не заметил этого жеста и продолжал стоять.
– Садитесь, товарищ Моргуненко, – с оттенком наигранной любезности предложил префект.
– Прошу развязать мне руки. Я не уголовный преступник, – потребовал учитель.
– Развяжите арестованному руки.
Когда жандармы освободили затекшие руки учителя и настороженно стали у двери, Владимир Степанович опустился на стул.
Несколько минут стояла тишина. Изопеску перебирал какие-то бумаги на столе, с преувеличенным вниманием разглядывая их. На самом деле он напряженно думал о том, как и с чего начать. Думал, но ничего придумать не мог. Из головы не выходили эта девчонка со своим упрямством и сознанием своей правоты и этот долговязый парень с узкими прищуренными глазами, в которых кроме ненависти ничего нельзя было увидеть. И, разумеется, после допроса комсомольцев ему представился допрос Моргуненко делом весьма трудным. Перед ним стоял матерый подпольщик-коммунист, его идейный враг. Уж этого-то вовсе никакими посулами не задобришь и никакими угрозами не запугаешь. Он с этими коммунистами сталкивался не раз и очень хорошо знает их. Жандармский подполковник отлично понимал, что правда на стороне его врага. На его же, префекта, стороне в данный момент была лишь власть – физическая, грубая физическая сила. Он, конечно, не преминет ею воспользоваться, как крайней мерой, но эта мера по отношению к таким людям, как Моргуненко, не оправдывала себя, а вела лишь к одному исходу – смерти.
«Трудно, чёрт возьми, – думал Изопеску, – куда труднее, чем строевому офицеру на фронте. Там знаешь, что перед тобой враг, которого нужно убивать. Вот и стреляй себе. А тут попробуй-ка!» – От этой мысли он даже вздохнул, но тут же спохватился и, подавив в себе эту пагубную склонность к размышлениям, начал с обычного вопроса:
– Фамилия?
– Моргуненко.
– Имя, отчество?
Моргуненко ответил.
– Профессия? До войны, конечно. Сейчас у вас другая специальность, – с оттенком иронии заметил префект, искоса взглянув на сидевшего.
– Я учитель истории.
– И, как видно, пользовались среди ваших питомцев большим авторитетом?
– Я могу только с гордостью подтвердить ваше предположение.
«Фу, дьявол, – подумал Изопеску, – однако, с чего же начать?» Он посмотрел в бумаги на столе и, наконец, зацепился.
– Скажите, как вам удалось воскреснуть из мертвых? – спросил он. – Ведь ваша жена сообщала нам, что вы погибли во время бомбежки еще в сорок первом году.
– Да, мы тогда потеряли друг друга. Как раз были сильные бомбардировки и обстрелы мирных колонн немцами. Ну, она и решила, что я вместе со многими другими погиб.
– А вы остались живы?
– Как видите.
– И вернулись обратно.
– Вынужден был вернуться, – поправил Моргуненко.
– В Крымку?
– Нет. В один из районов области, где меня не знают.
– В какой район?
– Это не столь важно.
– Но вы знали, что ваша семья находится в Крымке?
– Позже узнал.
– Почему вы боялись вернуться в Крымку к своей семье?
– По некоторым, очень веским соображениям.
– Именно?
– Это не подлежит огласке, да и ничего не даст вам.
– Все же мне, как представителю власти, не лишне было бы узнать, чем вы занимались в течение этих полутора лет.
– Если я скажу, что стремился расположить к себе румынские оккупационные власти, вы мне поверите?
Изопеску пристально посмотрел в лицо Моргуненко и понял, какой умный и непреклонный в своих убеждениях человек сидит перед ним. Он почувствовал, что окончательно потерял превосходство и власть над этим человеком, судьба которого сейчас зависела от него, Изопеску. Но отступать в его положении было нельзя. И он продолжал допрос.
– Вы знали о положении вашей семьи?
– Разумеется. Мне сообщили, что жандармы арестовали жену и старуху-мать и держали их в тюрьме как заложников за меня.
– И как же вы отнеслись к этому? – прищурив один глаз, спросил префект.
– Вы сами знаете, как должен относиться к вам человек, к которому в дом вошли чужие люди с намерением стать хозяевами, а настоящего хозяина, свободного человека, превратить в бесправного раба, в рабочий скот. Я считаю, что такой человек, не задумываясь, пойдет на любые жертвы, чтобы бороться и победить. Вот так думал и делал я. Так думают и делают миллионы советских людей, которым вы причинили зло. Советский человек, подчеркиваю, советский человек не выносит насилия над собой, поэтому он борется против вас и, несомненно, победит.
– Я боюсь, что из вашего пророчества ничего не выйдет, – префект криво усмехнулся. – Какими же средствами вы надеетесь победить Германию и ее союзников? Уж не с помощью ли Америки или Англии?
– Нет.
– Тогда на что же вы надеетесь?
– Только на свои силы. У нас их достаточно.
– Ваша армия выдохлась и дальше не в силах сопротивляться.
– А по-моему, положение на фронтах говорит другое. Немцы разгромлены под Сталинградом и отступают.
Префект приподнялся, нервно побарабанил по столу пальцами. Он заметно терял терпение. В его план вовсе не входило вести этот политический разговор. И он решил повернуть его круче.
– Послушайте, вы, фанатик, неужели вы не видите, что большевикам уже не вернуться к власти?
– Вы считаете? – иронически спросил Моргуненко.
– Не только я. Так думает каждый здравомыслящий человек. Сам ход событий показывает, что победит новый порядок в Европе под руководством Германии. Это сама история.
– Простите, вы тоже историк? – спросил Моргуненко.
– Нет. Я офицер румынской королевской жандармерии. Но я принимаю участие в создании этой новой истории.
– А вы знаете, что эта история совсем не новая?
Префект поднял брови.
– Да, да. Это очень старая история. Помните, ее пытались когда-то творить немецкие псы-рыцари, потом польская шляхта. Позже Наполеон. Теперь же, забыв все прошлые горькие уроки, эту «новую историю» пытается повторить Гитлер со своими подручными.
Префект постучал карандашом по столу.
– Прекратите пропаганду. Вы мне лучше скажите, как вы очутились в Крымке и именно в тот момент, когда конвой увозил оттуда арестованных подпольщиков.
– Накануне я узнал об аресте и хотел спасти неповинных юношей и девушек от зверской расправы.
– Вы считаете их неповинными?
– Разумеется.
– Потому что вы довели их до этого. – Изопеску повысил голос. – По вашему наущению они занимались преступлениями.
– Это не преступление. Молодые люди не хотели вам покориться, они привыкли к свободной жизни. У каждого из них было будущее, которое вы у них хотите отнять, превратив их в рабов. Вот они и борются против вас.
– И вы руководили этой борьбой?
– Я вам этого не говорил.
– Может быть, скажете? Учтите, что это единственная возможность получить свободу и сохранить жизнь.
Моргуненко едва заметно улыбнулся.
– Мы это сами знаем, – продолжал префект, – но кто вами руководил? Ведь не один же вы тут орудовали?
– О, это мы слишком далеко зайдем. Нам с вами пришлось бы потратить уйму времени, а у вас столько дел.
– А вы расскажите коротко, без философии.
Учитель пристально посмотрел на префекта.
– Неужели вы думаете, что я вам скажу о том, что для меня дороже жизни?
– Дороже жизни ничего не может быть, Моргуненко. Вы просто притворяетесь, – улыбнулся префект.
– Плохо вы нас знаете, а если и знаете…
– Вы лучше скажите мне, – перебил Изопеску, – руководство партизанщиной в Крымке шло отсюда? – он указал на карте зеленый массив савранских лесов.
– Да. И отсюда тоже, – подтвердил Моргуненко.
Изопеску прошелся несколько раз по тесному кабинету и остановился против учителя.
– Покажите место, где находится это осиное гнездо и жизнь вам и вашей семье будет гарантирована. Мы умеем благодарить людей, которые нам помогают.
– Но меня все равно убьют.
– Кто?
– Наши. За измену.
– Мы отправим вас в Румынию и там вы будете в безопасности.
Моргуненко недоверчиво глянул на префекта.
– Вы мне не верите?
Учитель пожал плечами.
– Клянусь офицерским мундиром.
– Слово офицера?
– Слово офицера, – ответил торжествующий Изопеску. – Ну? – с нетерпением бросил он.
Моргуненко молча кивнул головой, давая понять, что согласен.
Префект не верил себе, что так неожиданно повернулось дело. Он бросился к карте.
– Подойдите ближе, – позвал он, – и покажите на карте.
Моргуненко подошел.
– Показывайте, – торопил префект, держа наготове красный карандаш для отметок.
Владимир Степанович обвел рукой всю карту и, спокойно улыбнувшись, сказал:
– Но здесь, к сожалению, не все, господин префект. Это карта только Одесской области.
Лицо префекта Изопеску побагровело, вылезли из орбит оловянные глаза. Он шагнул к арестованному вплотную, держа руку на кобуре браунинга. Но ни выстрелить, ни ударить он был не в состоянии. Несокрушимая сила и спокойствие Моргуненко окончательно парализовали его. Он отошел к столу и сдавленным голосом прохрипел:
– Увести!
Глава 19
СВИДАНИЕ
Тюремный надзиратель Василиу, тот, которого заключенные в камере комсомольцы называли Василием, тайком передал Нине Давыдовне Клименюк записку от сына.
Миша писал:
«Дорогая мама!
Добейся свидания со мной. Я должен открыть тебе одну тайну. Добейся, милая мама, чего бы это ни стоило. Поклон тату.
Твой сын Михаил»
Неровные, скачущие буквы, нацарапанные на клочке румынской газеты слабой рукой, откровенно говорили матери, в каком тяжелом состоянии был Михаил.
Нина Давыдовна несколько раз перечитала записку, стараясь угадать, что таилось в этих косых расплывчатых строчках. Спазмы душили ей горло, лихорадочно блестели покрасневшие от непрерывных слез глаза.
Мать тут же решила попытаться выпросить разрешение увидеть сына. Преисполненная материнской отваги, она бросилась к парадной двери, но перепуганный часовой встретил ее штыком и приказал сейчас же убраться прочь.
Обессиленная напрасными попытками, она побрела домой в Катеринку, не чуя под собою ног. По дороге она опять перечитывала записку, потом прятала ее за пазуху около сердца, но тут же доставала вновь и сквозь пелену слез слагала из разрозненных, как ей казалось, букв слова, наполненные тревожным смыслом.
Дома, не помня как вошла в хату и не отвечая мужу на вопросы, потому что не в состоянии была отвечать, она, как подкошенная, повалилась на кровать.
Медленно тянется ночь. На сердце камнем лежит неуемная тревога. Перед глазами – измученный, с окровавленным лицом (такой, каким она видела его в последний раз в окне крымской жандармской камеры) стоит Миша. Потом удивительно как-то все меняется. Жуткое видение исчезает, и Миша представляется ей совсем маленьким. Будто она держит его на руках, а он, крепко обхватив ручонками её шею, приник губами к щеке. Она даже слышит его теплое дыхание и первое сказанное слово «мама». Далее мелькают мимолетные обрывки. Миша со школьной сумкой за плечами. Вот он смеется, показывая матери красный пионерский галстук… Первые трудодни сына… скарлатина… и слова доктора: «главное, не простудите». И вот он, большой и смелый, стоит перед палачами и говорит им громкие гневные слова. Лица палачей искажаются злобой и становятся похожими на страшные маски с оскаленными волчьими зубами. И это уже действительно не люди, а волки. Они набрасываются на Мишу и терзают его. Но она не отдаст им сына. Она бросается в разъяренную стаю волков и вырывает мальчика. Миша у нее на руках. Она укутывает его в. распахнутые полы жакета и, крепко прижав к груди, бежит, бежит… Волки преследуют ее, в их диком вое слышатся человеческие голоса, только злые и хриплые. И в самом деле, это люди, похожие на волков, – жандармы. Они бегут за ней, чтобы отнять Мишу. Тогда она напрягает все силы, что есть в ней, и бежит быстрее. Скоро дом. Еще минута, другая и они в безопасности. Она оборачивается, кричит что-то преследователям и, вбежав в хату, закрывает за собой дверь. В хате тихо, тепло. Мальчик ровно дышит. «Уснул», – решает мать и, успокоенная, погружается в сон.
Утром Нина Давыдовна поднялась чуть свет. Теперь она рассказала мужу о записке сына и о своем решении добиться свидания с Михаилом.
– Пойду. Может, удастся увидеть Мишу. И пошла.
Ежедневно рано утром мать отправлялась в Первомайск пешком. Там, до позднего вечера, коченея от холода, она простаивала у ворот префектуры. Но все ее старания были тщетны. Она пыталась подкупом подействовать на солдат, обычно падких на взятки. Но и это не помогало. Строгость, с какой содержались в тюрьме крымские комсомольцы, не давала даже и проблесков надежды на свидание. Префект Модест Изопеску издал приказ:
«Строжайше запрещаю свидания с заключенными преступниками из села Крымки, а также всяческие передачи.
Солдаты, замеченные в нарушении моего приказа, будут предаваться военно-полевому суду».
Понятно, что после такого приказа часовые боялись даже смотреть в сторону людей, толпящихся у здания префектуры.
На приеме у префекта матери было грубо отказано в просьбе о свидании с сыном. При этом Изопеску предупредил женщину, что в случае повторения подобных попыток она будет арестована и брошена в камеру как сообщница партизан.
И теперь, притулившись где-нибудь за углом дома на противоположной стороне улицы, женщина глаз не сводила с тюремных ворот в надежде хоть мельком увидеть Михаила, хоть каким-то чудом узнать, что за тайну он хочет сообщить ей. Она тревожилась, что не успеет повидаться с сыном. В эти дни повсюду ходили самые разноречивые слухи. Одни говорили, что всех крымских угонят в тираспольскую тюрьму, из которой, как все уже знали, никто не возвращался, другие утверждали, что следствие будет продолжаться здесь. Поясняли это тем, что префект не хочет упускать это выигрышное, обещающее ему повышение в чине, дело. Говорили, что уж больно жестоко пытают на допросах. Те, кому удалось видеть заключенных, рассказывали, что Мишу, так же как и других, не узнать, до того он избит и измучен.
И с каждым часом, с каждой минутой нарастала в сердце матери тревога. «Хоть бы одним глазком взглянуть на Мишу, как он там», – думала она.
Но проходили дни в муках, а увидеть сына не удавалось. В последние дни жандармы водили арестованных на допрос только по ночам. Делалось это для того, чтобы люди не могли слышать криков и стонов истязаемых. Эту меру предосторожности палачи ввели после того, как повсюду уже стало известно о разгроме гитлеровских армий под Сталинградом. И, естественно, что поражение немецких фашистов вселяло страх в румынских палачей и они день ото дня свирепели, вымещая свою бессильную ярость на тех, кто сейчас находился в застенках.
Но, несмотря на все строгости и репрессии, Нина Давыдовна с настойчивостью, присущей женщине-матери, неотступно следила за тюремными воротами. Солдаты уже приметили высокую, худощавую, с большими печальными глазами женщину. А тюремный надзиратель Василе, заметив ее на улице, пристально смотрел на нее.
В эти минуты ей казалось, что этот простой, с добрым лицом солдат сочувственно кивает ей головой, как бы желая что-то сказать.
Раз, как-то в сумерки, увидев ее на улице, он остановился и пристально посмотрел ей в глаза. Женщина замерла. Солдат, оглядевшись по сторонам и убедившись, что за ним никто не следит, поспешно приблизился.
– Ты чей есть мать? – тихо спросил он.
– Клименюка Михаила, – чуть слышно прошептала женщина, не понимая, зачем у нее спрашивают. Сердце застучало. Но это был не страх. Добрые темные глаза стоящего перед ней человека говорили о другом. И она громче повторила:
– Клименюка Михаила. Там он, – указала она на тюремные ворота.
– Я знай, – нетерпеливо перебил солдат. И снова огляделся вокруг.
– Домна, сегодня ночь будешь говорить на твой Михай Клименюк. Иди там, домна. – При этих словах он указал на дом на противоположной стороне улицы и едва заметно улыбнулся.
Нина Давыдовна кивнула головой и, сдерживаясь, чтобы не побежать и тем самым не выдать себя, перешла улицу.
Повинуясь скорее велению сердца, нежели словам солдата, она постучала в дверь маленького домика, на который указал солдат.
Ей открыла пожилая женщина, видимо, хозяйка дома и, против обыкновения не спросив, кто и зачем, провела в комнату. Топилась плита и было тепло.
Нина Давыдовна не знала, как объяснить хозяйке дома цель своего прихода, и стояла в смущении у порога.
– Вы, видно, иззябли? – участливо спросила женщина.
– Да. Я с утра на улице.
– Проходите и грейтесь.
– Спасибо.
– Сами вы откуда будете? – спросила хозяйка.
– Из Катеринки.
– Ах, вот что, – произнесла хозяйка с видом, что она догадалась, в чем дело. – Насчет свидания, наверное?
– Да. Сын у меня тут. Вот уже который день добиваюсь повидать его, да не могу. Очень уж строго.
– Боятся солдаты, их судят за это, – пояснила хозяйка.
– Но сегодня один солдат обещал мне устроить свидание с сыном.
– Какой солдат? – настороженно спросила хозяйка.
– Не знаю его. Худой такой, с черными усами.
– Этого знаю, – слегка улыбнулась женщина. – Он вас ко мне послал?
– Да.
– Хороший солдат. Он тут многим помогает. Я видела сама, как его бил офицер за то, что он тайком носил еду заключенным. А теперь вот ему пригрозили, что угонят на фронт. А он, видно, того и хочет. Говорит, что как только попадет на фронт, сейчас же перейдет к русским. Доброй души человек, его любят наши люди.
– Сам подошел ко мне и сказал, что сегодня ночью…
– Сегодня суббота, главный зверь в Одессу уехал. Вот поэтому сегодня тихо будет. Допросов нет. А то жутко по ночам. Очень мучают заключенных.
Сумерки сгущались. В комнате становилось темно. Хозяйка задернула занавеской нижнюю часть окна и зажгла керосиновую лампу.
Нина Давыдовна села на стул около жаркой плиты и только теперь огляделась.
Стены небольшой комнаты были совсем голы, и только множество торчавших гвоздиков свидетельствовало об их прежнем убранстве.
– Все подобрали, – вздохнула хозяйка. – И картины, и полотенца, все поснимали, даже календарем не побрезговали.
– У нас в селах тоже… ни ковра, ни рушника на стенах не увидишь, – пожаловалась Нина Давыдовна.
– Вот все, что осталось, – показала хозяйка на простенок, где над старыми квадратными ходиками висела увеличенная фотография худощавого подростка, похожего на хозяйку, и круглолицей девочки, с большими, светлыми косами, спадавшими на грудь. – Это сын и дочка.
– Они с вами сейчас? – спросила Нина Давыдовна. Пожилая женщина не ответила. Она молча достала из ящика стола небольшую карточку и подала гостье.
С карточки смотрели тот же подросток, похожий на мать, и девушка. Только здесь они были в военной форме и заметно возмужавшие.
– На фронте, – догадалась Нина Давыдовна.
– Сеня командир, а Катя окончила школу медсестер. С первых дней ушли на фронт и вот два года ни весточки.
– Ах, дети, дети, – как бы про себя промолвила Нина Давыдовна, – вырастишь их и не заметишь, как разлетятся они.
– У вас один сын?
– Нет. Старший тоже на фронте, командир. И тоже ни слуху, ни духу.
Разговор смолк. Но какое-то необъяснимое взаимное понимание было в этом молчании. Двух этих женщин, совсем незнакомых друг другу, роднило в эту минуту одно – их общее материнское горе, смешанное с чувством материнской гордости за детей своих.
– Вы измучились, прилягте на диван, отдохните, – предложила хозяйка.
– Спасибо, мне так хорошо, – ответила Нина Давыдовна, с тревогой прислушиваясь к малейшим звукам за окном.
– Да вы не волнуйтесь, – успокаивала хозяйка, – он постучит, когда надо. Ему не впервой, – и, помолчав, добавила: – ведь вот и среди них есть хорошие люди, понимают нашу беду.
В окно тихо постучали. Хозяйка открыла дверь. Вошел худощавый солдат с черными усами. Это был Василе.
– Домна, – кивнул он на дверь, подав женщине знак следовать за собой.
– Желаю вам повидать сына, – шепнула на прощанье хозяйка. Нина Давыдовна признательно пожала ей руку. В эту минуту она хотела сказать в ответ что-то хорошее этой доброй женщине, но не нашла слов и поспешила за вышедшим на улицу солдатом.
Над городом, тяжело придавив землю, простерлась хмурая, беззвездная ночь. Такие ночи обычно бывают перед началом весны, когда потемневшее небо опускается низко, угрожая разразиться снегопадом. Воздух сырой и пронизывающий забирался под одежду, вызывая неприятный озноб.
Василе несколько секунд прислушивался к тишине и, махнув рукой, быстро пошел.
Женщина поспешила за ним. Они пересекли улицу, затем на цыпочках прошли полутемный коридор префектуры и очутились во дворе. В глубине, у тюремного флигеля, стоял часовой. Василе пошептал ему что-то, и женщину впустили в узенький тюремный коридорчик, с рядом низких, обитых жестью дверей. Над столиком на стене тускло горела керосиновая лампа, отбрасывая на потолок желтый сетчатый кружок света.
В одной из камер слышался слабый стон, поминутно заглушаемый чьим-то надрывным кашлем.
Василе прикрутил фитиль и проводил женщину в дальний неосвещенный конец коридора.
– Тут стой, домна, – тихо сказал он и ушел. Сдавив руками грудь, как бы сдерживая трепещущее, готовое вырваться сердце, Нина Давыдовна слушала, как после томительной долгой тишины звякнула щеколда, будто охрипший цепной пес, зарычала железная дверь и по бетону коридора зашаркали приближающиеся шаги. Солдат подвел к матери Мишу Клименюка.
– Тихо, домна, очень тихо, – предупредительно сказал он и удалился.
Мать обняла слабое, обмякшее, будто без костей тело сына, судорожно прижала к себе и стала целовать его щеки, пылающий жаром лоб, глаза, волосы, ощущая на губах терпкий, солоноватый привкус запекшейся крови.
– Мишенька, сыночек мой родненький! Что же вы наделали, погубили себя. Ничего я не знала, скрывал от матери, – шептала она.
– Не обижайся, мама. Так нужно было. Не только ты, ни одна мать не знала. Никто не должен был знать об этом. Это, мама, великая тайна.
– Как же они узнали, сынок?
– Брижатый предал нас. Поверили мы ему, приняли…
– Как же так? – сокрушенно шептала мать.
– Учились вместе. Комсомольцем он был. И вот, видишь… ошиблись, – Миша замолчал и плотнее прильнул к матери.
Мать, едва касаясь, провела рукой по пылающему лбу сына.
– Горячий ты…
– А мне все кажется, будто кто-то ледяными руками гладит по спине, по плечам… и все старается схватить за горло. Не знаю… не скажу…
Мать быстро распахнула ватник и, полами обхватив сына, крепко прижала к груди его голову, чтобы не крикнул в полубреду.
– Это я, Мишенька, твоя мама. Успокойся, я с тобой, сыночек, – страстно шептала она над самым ухом сына.
Чудодейственное материнское тепло и нежные слова ласки постепенно вернули Мише сознание.
– Мама?
– Я, родненький.
– Хорошо. А я думал, опять они…
Мать, помолчав, спросила:
– Мучают они вас?
– Ничего, мама. А как хлопцы держатся! Мы им на допросах ни слова не сказали. Они видят, что мы сильнее их, потому и злятся. А мы все спокойны. Правда на нашей стороне.
Миша оживился. Он как-то тверже стал на ноги. Казалось, к нему вернулась его прежняя сила и упругость.
– Нам один солдат говорил, что Красная Армия гонит фашистов. Потому фашисты и злятся. Они это от страха. Скоро им конец.
– Но вам-то, сынок, тяжело.
– Борьба, мама. Без этого не может быть. Мы все знали, что может быть тяжело и может… погибнем. Но мы с радостью умрем за Родину… Она не забудет нас. А ты, мама, не печалься. Вернется с фронта Ваня, расскажи ему обо мне. Все расскажи. Он гордиться будет, что у него такой брат. И тебе и тату не будет стыдно за сына.
Миша смолк на секунду, затем, как бы спохватившись, порывисто притянул к себе голову матери и живо зашептал:
– Мама, беги сейчас в Катеринку. Там у нас в погребе, в углу под картошкой, зарыт радиоприемник. Скажи тату, чтобы он скорее достал его и запрятал подальше. Мы ничего не скажем жандармам. Но бывает, мама, вдруг среди нас окажется слабый, не выдержит пыток и выдаст. Ведь смерть, она все-таки страшная… и если эти звери узнают, что у меня приемник, то и тебе, и тату конец. Понимаешь, мама?
По коридору снова зашаркали шаги. Женщина вздрогнула. Эти знакомые уже шаги казались ей сейчас новыми, наполненными каким-то зловещим смыслом, потому что с этими шагами близилась разлука с сыном. Мать ясно понимала, что эта разлука-навсегда. Она больше не увидит Мишу. Она еще крепче прижала сына к груди, будто решившись не отдавать его.
Василе подошел и остановился. Он также понимал, что это последнее свидание матери с сыном, поэтому не решался вторжением своим нарушить трагическую минуту разлуки. Солдат чувствовал себя виноватым в том, что сейчас происходило на его глазах. Он в смущении отступил назад и отвернулся. И тяжко, тяжко стало на душе этого простого румынского солдата, крестьянина, отца троих детей, человека, на которого против его воли надели форму жандарма и заставили мучить людей, преступление которых состояло в том, что они боролись за свою свободу и счастье.
А разве он, бедный крестьянин, не хочет быть счастливым? Там, у себя на родине? И сколько таких же, как он, бедных людей в Румынии живут в нужде и бесправии! Так почему же все эти обездоленные не могут устроить счастье у себя в стране? И почему бедные румыны пришли сюда, на чужую землю, и отнимают, счастье, которое эти люди сами себе добыли своими натруженными руками?
– Василе! – оборвал его размышления строгий окрик часового.
Василе встрепенулся. «Ах да, он должен сказать матери, что…» и он промолвил тихо:
– Домна, иди домой, – но поняв, что женщина не слышит его, громче повторил: – Домой надо, иди.
Мать простилась с сыном. И какая титаническая сила потребовалась ей в эту минуту, чтобы сдержать себя, не упасть без чувств на холодный бетон пола. Она не помнила, как солдат осторожно разжал ее руки, обнимавшие сына, взял у нее Михаила, не слышала, как звякнула щеколда, прорычала зловещая дверь. Ей казалось, что она долго-долго оставалась одна в этом темном, страшном коридоре.
Постепенно она пришла в себя. В голове стоял шум, но вокруг было тихо. Потом в тишину вошел тот же слышанный ею слабый стон, заглушаемый надрывным кашлем. Затем шаги по бетонному полу и несмелый голос Василе:
– Сто марок, домна.
Нина Давыдовна протянула деньги.
– Домна, я нет марки. Солдат нада марки, – виновато проговорил он, указав в сторону входа, где стоя, часовой.
– Спасибо тебе, товарищ, – тихо промолвила женщина и протянула руку.
– Пожалуйста, пожалуйста, – растерянно проговорил он, как-то скорбно улыбнувшись, и украдкой пожал ей руку. – Ты сказал мне товарищ? Хорошо… очень хорошо. Я понимай мать. Русски мать, румынски мать… я понимай твой Михай, я все понимай, домна.








