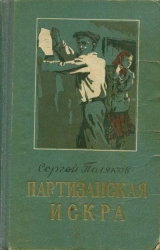
Текст книги "Партизанская искра"
Автор книги: Сергей Поляков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц)
Глава 9
ВОЗВРАЩЕНИЕ
В непроглядную августовскую ночь у садовой калитки крымской школы остановились две женщины, молодая и пожилая. С ними была маленькая девочка, робко жавшаяся то к одной, то к другой.
Женщины долго стояли, чутко прислушиваясь.
Кругом царила такая тишина, будто все было погружено в тяжелое раздумье.
– Что делать, мама? – шопотом спросила одна другую.
– Не знаю, Шура, – горестно вздохнув, ответила мать, – нужно пойти.
– Страшно.
– Выбирать нам нечего. Куда мы теперь! Молодая шагнула к калитке, но отшатнулась.
– Иди же, – настойчиво прошептала мать.
– Боюсь я, а вдруг…
– Экая ты. Пусти, я сама пойду, – с сердцем произнесла пожилая и, отстранив молодую, исчезла в темноте двора.
– Мама, мы опять дома? – тихо спросила девочка.
– Дома, – неуверенно ответила молодая женщина.
– А тато тоже будет дома?
– Тише, Леночка, сейчас ночь и громко говорить нельзя чужие дяди услышат.
Девочка смолкла. За последние дни она наряду со взрослыми испытала много горя Она видела что чужие дяди, о которых сейчас говорила мать, убивали людей.
И теперь, когда ей снова напомнили о них, она вся ежась в комочек, прильнула к матери и терпеливо ждала.
Через некоторое время пожилая женщина вернулась.
– В школе ни души. Я все замки ощупала. Квартира наша тоже на замке. Ключ на месте, – она облегченно вздохнула и добавила: – значит, Володя был здесь.
С минуту обе женщины молчали. Каждая из них думала, где теперь их Володя, и знает ли о том, что они – вернулись?
– Пойдем, Шура, хоть ночь переночуем, а там… будь что будет.
Они вошли в темную квартиру, не зажигая света, отыскали кое-что из оставшихся старых вещей, чтобы постелиться, и как подкошенные повалились на пол.
Сон не шел. Горькие, тягостные думы о завтрашнем дне не давали сомкнуть усталые глаза. Крепко и безмятежно спала Леночка, для которой «завтра» еще не существовало.
Утром чуть свет к ним вошли трое людей. Один из них был крымский печник дед Илья Паламарчук, остальные двое – незнакомые. Все трое в замешательстве остановились у порога.
– Да тут, оказывается, живут люди, – удивленно протянул забрызганный белилами молодой парень с ведерком в руке.
Дед Илья нерешительно поздоровался.
– Как же быть, Александра Ильинична? – спросил он.
– А что такое, Илья Севастьянович?
– Да вот… приказано начать тут ремонт, – нерешительно объяснил печник, оглядывая потолок и стены комнаты. Его смущало присутствие здесь семьи Владимира Степановича Моргуненко, которого уважало все село И он сам, Илья Паламарчук.
– Для кого же эта квартира? – спросила Александра Ильинична.
– Говорят, для агронома.
– Какого агронома?
– Да этого… Николенко, – дед Илья не назвал его по имени и отчеству, вопреки заведенным сельским правилам.
– Зачем ему понадобилась эта квартира? У него свой хороший дом здесь.
– Не знаю, Александра Ильинична, так было приказано.
– А кто приказал?
– Начальник румынский.
Александра Ильинична хорошо знала агронома Николенко. Он так же, как и они, несколько лет работал в Крымке. Нередко заходил он к ним на чашку чая и был в числе товарищей Владимира Степановича. И вот теперь вдруг для Николенко отделывается эта квартира. Что бы это значило?
– Что же, нам уходить надо? – спросила Моргуненко.
– Да нет… я не знаю, как тут быть… я ведь думал, что нет никого, я бы… вы уж извиняйте, Александра Ильинична. Я пойду, скажу, что, мол, там люди.
Дед Илья был так смущен и растерян, что, уходя, забыл свой завтрак, завернутый в белую тряпицу.
– Вот так-то, Андрей Игнатьевич. Семью друга на улицу, а сам… Квартира понравилась…
– Погоди, мама, – перебила Александра Ильинична, – что раньше времени говорить. Ничего еще неизвестно. Они знают, что мы уехали из Крымки и квартира осталась пустой. Только непонятно мне, почему Николенко? Неужели… Не может быть, чтобы Андрей…
Вскоре пришел сам агроном Николенко. Он неловко, сухо поздоровался.
– Вернулись? – удивленно спросил он, будто не знал.
– Вернулись, – ответила Александра Ильинична. Она не знала, что говорить и как вести себя в присутствии этого человека.
– А где Владимир?
– Мы расстались в дороге. Были бомбежки, обстрелы, и Володя, видимо, погиб.
Николенко недоверчиво покосился на женщину.
– А по-моему, его видели здесь ночью перед самым приходом румынских частей. – Николенко махнул рукой. – Ну, то его дело. Каждый по-своему с ума сходит, – закончил он и плюхнулся на стул, широко расставив колени.
– Я к вам по одному неприятному делу. Александра Ильинична заметила, что он за восемь лет знакомства в первый раз сказал ей «вы».
– Трудно сейчас рассчитывать на какое-то приятное дело.
– Видишь ли… видите ли, – поправился он, – они хотят занять школу под огородническую ферму. А эта квартира отведена мне, как агроному фермы.
– Ах, вот что! Поздравляю с высоким назначением.
Агроном встал, прошелся на середину комнаты.
– Напрасно ты так говоришь, Шура, мы люди подневольные.
– Кто это мы?
– Мы с вами. Все, кто остался тут. Мы теперь вынуждены делать то, что нам прикажут.
– Это зависит от совести.
– Совесть тут не причем. В конце концов, везде люди живут, и при любой власти можно работать. Вот Владимир ушел, бросил вас тут одних. Вот где нет совести. Вам тут трудно будет, очень трудно.
– А разве другим людям будет легко?
– Если будут честно работать и не вредить, то будет хорошо.
– Это работать на них вы считаете работать честно.
– Почему на них? На себя.
– Нет, Андрей Игнатьевич, это против себя. Так я это все понимаю.
– А-а-ааа, все это бредни Владимира. Социализм, коммунизм! Чепуха! Твой муж плохо сделал, что бросил семью. Вам не поверят, что Моргуненко, как мальчик, заблудился и потерял взрослых.
– Это их дело, верить или нет.
– Мне-то все равно. Я только хотел вас предостеречь. Я вам зла не желаю.
Александра Ильинична молчала. Она с предельной ясностью поняла, что между ней и этим человеком пролегла пропасть. Не было сомнений, что агроном Николенко продал свою честь, совесть, пошел по другой, враждебной народу, а стало быть и Владимиру и ей, дороге. И разговор с Николенко был ненужным и отвратительным. Она отошла к окну и стала для вида перебирать старые школьные тетради.
– До свидания. Постарайся сегодня освободить квартиру. Завтра с утра придут рабочие, – услышала она за спиной голос агронома и его грузные удаляющиеся шаги.
Александра Ильинична продолжала стоять у окна. По небу медленно плыли белые, нежные облака. Легкий ветерок ласково перебирал перламутровые листья тополей. Велико было горе женщины, тяжелые думы одолевали её. Что станет с ними завтра? Куда пойдут они, выброшенные на улицу? И когда подумала, что Володя ушел для борьбы за неё, за мать, за дочь, ей стало легче. Ведь одно, самое основное, было ясно и непреложно, что на их с Володей стороне оставалась всепобеждающая правда.
Тем временем, четверо сельчан, по приказу жандармерии, освобождали школьные комнаты. Они выносили парты и доски и складывали их во дворе. Кто-то из окна спустил большой глобус. Вслед за глобусом из окна физического кабинета один за другим упали на землю еще какие-то предметы. И вдруг из окна, наклонившись вперед, будто готовый прыгнуть, показался человеческий скелет.
– Разве можно так неосторожно? – зазвенел девичий голос.
В темноте оконного пролета замер белый скелет. Его пустые глазницы, казалось, глядели удивленно. Все, кто работал сейчас в школе, услышали этот голос.
В распахнутой настежь садовой калитке стояла девушка в белой батистовой блузке, заправленной в серую клетчатую юбку. Она стояла вся подавшись вперед, словно вот-вот готовая взлететь.
Скелет покачнулся и опустился обратно.
Девушка стремительно пересекла школьный двор и подошла к вороху учебных приборов у окна.
– Ах, дядьки, дядьки! Сколько лет мы собирали все это, старались для нашей школы, для ребят, а вы…
Невысокая, стройная, с тонкой талией, она на первый взгляд казалась хрупкой девочкой. Но в ловких, энергичных её движениях угадывалась сила.
– Ведь у вас у всех есть дети. Вот у дядька Михаила – двое, у вас, дядько Кондрат, аж четверо, а у деда Трофима внук в Киеве студент. Вы забыли, дедушка Трофим, что он тоже в нашей крымской школе учился, и вот по этим же самым приборам.
– Да мы что же… мы ж не хотели… нам тоже жалко… да вот приказали жандармы….
– Жандармы? Я понимаю, не сами вы. Все же можно осторожнее как-нибудь.
Белое лицо девушки, слегка тронутое загаром, рдело от волнения, черные смоляные полудуги бровей выпрямились, сомкнулись над переносицей. Она подняла с земли тяжелый прибор и бережно поставила в сторону.
– Ну вот, хотя бы вот так. – Она взяла из груды другой предмет и также аккуратно поставила у стены.
– Знаете, я вас попрошу, выносите через дверь и вот сюда складывайте, а я побегу подыщу место, куда спрятать. Хорошо?
Девушка увидела глобус и подняла его.
– Вот на этом шаре вся наша земля. Вот это Америка, здесь Африка, тут Азия, вот, зеленая, Австралия. А это – Европа. А вот здесь, от самого севера и аж до сих пор, а здесь от Польши до Тихого океана, – тут девушка перешла почти на шопот, – наш Советский Союз – самая великая, самая красивая и самая дорогая страна на всем свете.
Она замолчала и стояла чуть улыбаясь одними черными, как антрацит, глазами. И люди, слушавшие её, тоже улыбались. Видимо, слова девушки, сказанные так просто и задушевно, проникли в сердце. Неловко стало людям, несмотря на то, что их принудили это делать. А девушка уже совсем мягко, почтительно, как подобает говорить со старшими, сказала:
– Я скоро приду, а вы выносите, складывайте вот сюда, в сторонку, только, пожалуйста, поосторожнее.
Она приветливо улыбнулась, заговорщицки кивнула головой и пошла к калитке.
Проводив отеческим взглядом удаляющуюся гибкую, проворную девушку, дед Трофим сокрушенно промолвил:
– А в самом деле, некрасиво у нас получилось.
– Да, – протянул Кондрат, – молодец дивчинка.
– Чья она такая? – спросил дед Трофим.
– Наша, крымская, – не без гордости ответил дед Кондрат, – Ефима Попика дочка, Поля.
– Ефима Попика? Это того, за школой? Вот, вот. Хорошая дивчина.
– У вас в Катеринке, небось, нет таких, – подтрунил Кондрат.
Дед Трофим покосился на него и строго приказал:
– Давайте выносить и аккуратно складывать.
Вскоре вернулась Поля вместе с учительницей Екатериной Федоровной.
Пользуясь промежутками, когда на дворе не было ни румын, ни агронома Николенко, они вдвоем украдкой до позднего вечера таскали к учительнице приборы и муляжи и прятали их.
– Спасибо вам большое, Екатерина Федоровна, вы хорошо сделали, и многие вам спасибо скажут.
Прощаясь с учительницей, девушка задумчиво проговорила:
– А завтра знаете, какой день?
– Вторник?
– Да нет, я не об этом.
– Не знаю, о чем ты.
– Забыли? Завтра же первое сентября, начало занятий в школе.
– Забыла, – призналась учительница, – в голове сейчас все перепуталось.
– Знаете, что я думаю? Пройдет время, и снова откроется наша школа, и дети будут заниматься опять по этим приборам. Как вы думаете, Екатерина Федоровна, ведь будут?
– Я уверена, – ответила учительница и ласково погладила по голове ученицу. – Чудесная ты девушка, Поля. Прямая, ясная и честная. Только мечтательная немного, как пушкинская Татьяна. Ты ведь всегда была такая, правда?
– Может быть, – зарделась девушка и, чтобы скрыть смущение, спросила:
– Екатерина Федоровна, а если вас румыны заставят учить детей на их лад, станете?
– Думаю, что нет.
– Вот и я, если бы была учительницей, ни за что не стала. А если бы заставили, то учила так, как вы учили нас.
Глава 10
ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ
На следующий день Александру Ильиничну Моргуненко вызвали в жандармерию.
Она шла в полной уверенности, что объяснение с начальником будет не из приятных. Неспроста ее требуют именно после резкого разговора с агрономом.
Она старалась сосредоточиться. Необходимо было предстать перед румынским жандармским офицером спокойной и уверенной в каждом своем слове. Александра Ильинична перебирала возможные вопросы жандарма, больше всего останавливалась на одном: «где ваш муж?» и обдумывала ответ.
На цементной площадке у входной двери жандармерии стоял часовой. Зевая и переминаясь с ноги на ногу, он лениво смерил женщину взглядом и спросил:
– Что надо?
– К начальнику, – ответила Моргуненко.
Жандарм посмотрел на женщину, затем на солнце, явно недоумевая, почему так рано являются к его начальнику, и ушел доложить.
Просторный зал сельского клуба был разделен перегородками на несколько комнат. От входной двери до задней противоположной стены здания тянулся узкий коридор с двумя дверьми по обеим сторонам. Дверь вправо, куда ушел часовой, вела в приемную начальника, влево в кухню, где готовился стол офицеру и его писарю адъютанту Петре. Прямо в конце коридора виднелась в полутьме узкая дверь в кладовую, превращенную теперь в камеру для арестованных.
Вскоре часовой вернулся и впустил женщину в приёмную, обстановка которой состояла из трех некрашенных табуреток и плаката на стене. Плакат изображал румынского солдата, с улыбкой пожимающего руку старику-украинцу.
Из приемной в кабинет вела дверь, обитая паклей и серым солдатским одеялом.
Жандарм несмело открыл дверь и впустил женщину.
В дальнем углу кабинета, за столом, между двумя бронзовыми тяжелого литья подсвечниками, сидел начальник жандармского поста локотенент Анушку.
Он оторвался от бумаг и, слегка побарабанив пальцами по настольному стеклу, взглянул на женщину.
– Садитесь, – сдвинув черные подвижные брови, предложил он.
Моргуненко опустилась на табурет. Анушку некоторое время шарил глазами по бумажкам на столе, будто разыскивая что-то, и вдруг неожиданно пропел себе под нос:
Выходила на берег Катуша…
– Моргуненко?
– Да, – ответила женщина.
Анушку пристально посмотрел на нее и не то спросил, не то утвердительно сказал:
– Вы не регистрировались вместе со всеми.
– Нет.
– Почему, домна?
– Меня не было в Крымке.
Офицер поиграл бровями.
– А где же вы были? Если это не секрет, – явно насмешливо спросил он.
– В дороге.
– Какой дороге?
«Притворяется, что не знает», – подумала женщина и ответила:
– Я хотела уехать на восток.
– Ну и что же?
– У меня ребенок, старуха мать. В глубоком тылу, я думала, будет спокойнее.
– А почему не уехали? Раздумали?
– Нет. Нас вернули немцы.
– Где?
– На Днепре.
– Гм, – промычал Анушку, – но ваши сельские давно вернулись, почему вы так задержались?
– На обратном пути заболела мать и мы не могли идти, пока она не поправилась…
– Вы вдвоем с матерью уезжали?
– Нет.
– Точнее.
– Я, муж, маленькая дочь и мать мужа.
– И все вернулись?
– Кроме мужа.
Офицер откинулся на спинку и удивленно посмотрел на женщину.
– Куда же вы девали вашего мужа?
– Мы потеряли его.
Анушку громко, развязно рассмеялся.
– Можно подумать, что ваш муж, такой крупный, как мне известно, мужчина, превратился в булавку и выпал из вашей блузки.
Александра Ильинична как бы не заметила циничной шутки жандарма.
– Были бомбежки, обстрелы с воздуха и муж… видимо, вместе с другими погиб. – Моргуненко сказала это, будто жалуясь на действия немцев, но тут же упрекнула себя в слабости. Она подумала, что сидящий перед ней жандарм все равно не разделит ее возмущения.
Офицер узким прищуром глаз окинул сидящую, глянул в серые глаза женщины.
– Вы говорите не то, что знаете, домна Моргуненко.
– Больше я ничего не знаю, – ответила она, а про себя подумала: «Так я и скажу тебе, держи карман шире».
– Скажите проще, что ваш муж-коммунист не захотел вернуться и бросил вас. И что за мораль у этих коммунистов? Бросить семью и трусливо бежать? Не понимаю, – развел он картинно руками и снова стал рассматривать бумажки на столе.
В ожидании дальнейших вопросов Александра Ильинична глядела в окно. Там, за окном, зеленела молодая роща. Еле заметно трепетали от легкого движения воздуха широкие лапчатые листья кленов, мелкие кружевные – акаций. Меж тонких стволов деревьев виднелся склон возвышенности, по которому раскинулись хаты села Катерники, а выше над узорчатыми вершинами деревьев простиралось небо, голубое и безоблачное.
– Чем занимался ваш муж здесь, в Крымке? – прервал её размышления начальник жандармерии.
– Он учил детей истории.
– Он, кажется, был и директором школы?
– Был.
– Вот видите, а вы чуть не скрыли.
– Я думаю, вы сами знаете об этом.
– Это вас не касается. Раз спрашиваю, нужно отвечать, – раздраженно сказал локотенент, скривив пунцовый рот, отчего черная полоска усиков неприятно скользнула в сторону, – а вы чем занимались?
– Я тоже учительница. Мой предмет – литература и Родной язык.
– Благородное занятие. Что же вы теперь думаете делать с такой хорошей профессией?
– Не знаю.
– Надо что-то думать, домна Моргуненко. Вам теперь с нами придется жить. И долго.
Учительница промолчала.
– Школа будет вновь открыта, начальная, конечно. Вы с мужем могли бы работать, – офицер произнес это тоном неоспоримой искренности, но женщина не поверила в эту искренность. Она понимала, что все это не что иное, как попытки расположить к себе, вызвать на откровенность. Но Анушку вдруг переменил тон разговора и сухо спросил:
– Вы из школы выбрались?
– Нас выгнали.
Офицер развел руками.
– Что делать. Там теперь будут жить люди, которые имеют отношение к нашей ферме. Будете работать с нами, и о вас позаботимся. Вы где теперь находитесь?
– У Григория Клименко.
– Там и оставайтесь. А сейчас вам придется сдать все ваши документы. Такой порядок.
Александра Ильинична протянула свой паспорт.
– Положите на стол и подпишитесь. – Он протянул бумажку.
– Что это?
– Вот здесь нужно расписаться, больше ничего.
– Я должна знать, в чем расписываюсь.
– В том, что с сегодняшнего дня вы ни на час, даже ни на минуту не отлучитесь из Крымки без моего разрешения, а также и у себя не будете собирать народ. За нарушение моего приказа будете отвечать по закону военного времени.
Анушку все это говорил хотя и внешне спокойно, но сухим, резким тоном. От вежливости и игривости в его разговоре не осталось и следа.
– Я надеялся, что домна будет со мной откровенна, но этого не вижу.
Женщина пожала плечами. Анушку поймал это движение.
– Мы знаем о вашем муже больше, чем вы предполагаете, домна Моргуненко. Советую вам хорошо подумать. У вас семья. Надеюсь, вы меня поняли? – многозначительно закончил он и в заключение буркнул:
– Можете идти.
Моргуненко вышла из кабинета. В приемной ее задержал Романенко.
– Ну что? – спросил он.
Женщина не ответила. Семен недовольно покосился.
– Хуже делаешь и себе, и другим.
Учительница будто и не слышала этих слов полицая.
Не удостоив его взглядом, она вышла на улицу.
Романенко, уязвленный пренебрежением к нему учительницы, вышел следом за ней на площадку и, обращаясь к часовому, громко, чтобы услышала она, кинул вдогонку:
– Муж у неё коммунист.
– Плохо коммунист, – равнодушно резюмировал жандарм, – коммунист – турма.
– Вот, вот, – поддакнул Семён и еще громче крикнул: – или петля! – показал он на свое горло и засмеялся.
Жандарм посмотрел на полицейского. Даже он был удивлен, почему этот урод смеется, когда речь идет о тюрьме и петле? Да еще о петле для своего соотечественника?
– Семен! – позвал Анушку. Романенко бросился на зов начальника.
– Кто этот Григорий Клименко? – спросил Анушку.
– Старик один, господин локотенент.
– Надо говорить домнул, – поправил Анушку.
– Виноват, домнул локотенент, не привык еще, стараюсь…
– Стараешься, – снисходительно улыбнулся начальник, как улыбаются дворовой собаке, проявившей рабскую преданность хозяину. – Хорошо, – офицер нахмурился, дав понять, что ждет ответа.
– Григорий Клименко здешний житель, кузнецом работал тут в колхозе. Старик, ему за семьдесят, живет один.
– Не коммунист?
– Нет, домнул.
Анушку погрозил пальцем и внушительно предупредил:
– Смотри, Семен, за стариком и за учительницей.
Романенко поклонился. Он был доволен, что офицер сошелся с ним хорошо, но вдвойне доволен, что судьбы ненавистных ему людей вверены ему. Уж он постарается теперь.
Моргуненко медленно шла по улице. Мысль, что начальнику жандармерии известно о муже, удручала её. Правда, если бы Анушку был уверен, что Владимир скрывается, он бы не так с нею разговаривал. Советует подумать. Прохвост! Я и без твоего совета знаю, что мне думать и как поступать. Эта последняя мысль вернула её к семье. Что ждет каждого из них завтра? За мужа она была почти спокойна, у него хоть и трудная, опасная, но верная, наполненная ясным и глубоким смыслом жизнь. Гораздо сложнее им, оставшимся здесь. Александра Ильинична понимала, что её, беззащитную женщину, жену скрывающегося коммуниста, здесь будут постоянно тревожить, притеснять. Она была убеждена, что Анушку не поверил её сообщению о гибели мужа.
«Ничего, нужно терпеть, не на весь же век это лихо», мысленно заключила она и пошла быстрее. Она шла туда, на край села, где ждет её не дождется маленькая девочка. Должно быть, расплющив носик о стекло, смотрит она в окошко и в который раз спрашивает бабушку: «Скоро придет мама?», и бабушка тихо говорит в ответ: «Скоро, Леночка», а сама с тревогой думает: «Когда же, в самом деле, вернется Шура и какие недобрые вести принесет с собой?»
Подходя к дому, Александра Ильинична услышала глухой гул. Она остановилась и прислушалась. Звуки доносились из хаты.
Подойдя совсем близко, она убедилась, что это гудели детские голоса, но звучали не обычно по-ребячьи, со смехом и криками, а сдержанно и несмело.
– Странно, откуда у Григория Свиридовича с утра столько ребятишек? – в недоумении подумала она и, легонько приоткрыв дверь, заглянула в хату.
Удивительная картина предстала перед ней. На лавках, вдоль стен, на табуретках посреди хаты и прямо на кровати сидели празднично одетые и причесанные сельские ребятишки, девочки с аккуратно заплетенными косами. И почти у всех букеты цветов в руках.
Это было так неожиданно, что учительница растерялась и не знала, что подумать. С приходом оккупантов на селе стало уныло, дети под влиянием старших были замкнуты и подавлены, и не замечалось, чтобы сельские ребятишки собирались, как раньше, на игры. А тут вдруг такое.
Моргуненко тихонько вошла. Собравшиеся, заметив её в дверях, встали, как это бывало в классе, и поздоровались.
– Здравствуйте, – ответила она. И только теперь догадалась, что сегодня первое сентября, начало занятий. Ей стало неловко, что она, учительница, забыла об этом большом и радостном дне.
– В гости до нас пришли, Александра Ильинична, принимайте, – сообщил дед Григорий. Он был в приподнятом настроении.
– В гости? – переспросила Моргуненко, и такое хорошее чувство охватило её. Душевная тяжесть, с которой она пришла из жандармерии, спала. Она оглядела своих учеников, которых знала чуть ли не с колыбели. А они стояли перед ней с букетами в руках небольшой пестрой стайкой, различные по возрасту, ученики разных классов. Невзирая на запрет, они собрались здесь, в их мыслях не укладывалось, что можно в такой день сидеть дома. Им хотелось, чтобы что-то напоминало класс, где в чуткой тишине слышится голос учителя. Их глаза словно говорили: «Нас здесь немного, но мы сегодня представляем всю школу. Ведь и те, что не смогли придти сюда, так же, как и мы, тоскуют по школе. Её отняли у нас враги, запретили учиться, но думать о ней они запретить не могут. Ведь не могут, правда?»
– Что же вы стоите? Садитесь! – спохватилась учительница, и ребятишки оживленно, но без шума и споров, стали рассаживаться. Мест не хватало, и каждый старался усесться поскромнее, бочком.
– Что, тесно? – забеспокоился дед Григорий. – Это мы сейчас поправим.
Григорий Свиридович вышел и тут же вернулся с двумя почерневшими досками. Он положил их концами на табуретки. Получились две длинные скамейки.
– Это еще не все, погодите, – проговорил он, подтаскивая стол к двери и покрывая его чистой скатертью. – А цветы давайте сюда. Для них у нас и вазы найдутся. – он принес два молочных кувшина с водой, опустил в них цветы и водрузил на столе.
– Вот теперь правильно, как в классе, – довольно улыбался он.
Все это так близко напоминало школьную обстановку, что дети невольно внутренне собрались, будто в самом деле приготовились слушать урок.
– Вы поговорите с ними, а я тут на одну минутку, по хозяйству, – полушопотом сказал он и удалился.
Александра Ильинична почувствовала смущение. Все это было так неожиданно и в то же время радостно, что не находились слова, чтобы хоть как-нибудь начать разговор. Она было хотела рассказать им о тех ужасных днях, которые пережила за две недели тяжелого пути до Днепра и обратно, но тут же раздумала. «Зачем отравлять детям настроение в такой день, им самим еще придется испытать много горя и мучений, пока здесь оккупанты».
Моргуненко решила просто побеседовать с ребятишками и предложила:
– Вы спрашивайте, что вас интересует, а я буду отвечать.
И первый вопрос, который она услышала, был о том, что, видимо, больше всего волновало школьников.
– Мы совсем не будем учиться?
– И школы у нас не будет?
– Нет, нельзя, чтобы дети не учились. Это временно.
Лица детей засветились надеждой. Они привыкли верить учителям, и слова, сказанные здесь, они также считали непреложными.
Беседа становилась все более непринужденной. Ребята засыпали учительницу вопросами. Она с готовностью отвечала, и в ней самой с каждой минутой крепла уверенность в том, что скоро они станут свободными, скоро откроется школа и все то мрачное, что окружает людей сейчас, рассеется.
Дети незаметно перешли на обыденные вопросы. В хате царили оживление и смех.
В самый разгар веселья вошел дед Григорий. В руках у него была большая глиняная миска, доверху наполненная кусками сот с тягучим янтарным медом.
– Раз пришли гости, надо угощать, как полагается, – весело заявил он, ставя миску на стол.
– Как же у вас сохранилось, Григорий Свиридович?
– Практика, – хитро подмигнул он. – Я ульи хворостом закидал. Пчелки находят свою хату, они умные. Кушайте, дорогие гости. Сегодня праздник ваш школьный, хоть учиться вам пока и не приходится. Но такое время настанет, детки, и все вернется.








