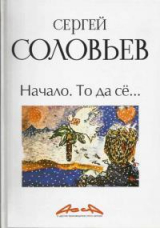
Текст книги "Начало. То да сё…"
Автор книги: Сергей Соловьёв
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
Вот эта памятная работа над «Ивановым»(подробнее о ней позже), наверное, и излечила меня, позволила освободиться от гнета подражательства. Кстати, Михаилу Ильичу я как-то честно рассказал все по поводу своего мнения об Антониони, и он, не обижаясь, этот спор охотно продолжил. У нас по-прежнему сохранились самые хорошие человеческие отношения, но они – это продолжалось и позже – почему-то всегда были внутренне полемичны. Скажем, после показа по телевизору «Убийства на улице Данте» я сказал Ромму: «Какая хорошая картина!» – что он воспринял почти как личное оскорбление, поскольку картину эту, как я понял, не то что не любил – просто люто ненавидел. А мне вот никогда не нравились любимые им «Девять дней одного года». А «Убийство на улице Данте» запомнилось до мельчайших интонаций Плятта, Штрауха – безукоризненные актерские работы. Какое точное, деликатное, я бы даже сказал, старинное ощущение жанра! И все же свою лучшую, безупречную с точки зрения художественной, человеческой, гражданской, самую лирическую из своих картин – «Обыкновенный фашизм» – Ромм снял под конец жизни. Как хорошо, полно, многогранно и убедительно может запечатлеть кино душевный облик человека!
Чем больше времени проходит, тем очевиднее противоречивость фигуры Ромма. Трудно найти оправдание тому безоглядному вранью, которому несть числа в его ленинских фильмах. Сегодня шкала ценностей заметно пересматривается. Даже «конформист» Дзиган, никогда у кинематографистов-прогрессистов уважением не пользовавшийся, выглядит в каком-то отношении почтеннее моего учителя. Во всяком случае его «Мы из Кронштадта» своей художественной ценности не теряет и даже время как бы приумножает ее. Даже «Падение Берлина» Чиаурели выглядит сегодня довольно забавным, почти художественным явлением, может быть, в силу своего простодушия и нескрываемого, почти хулиганского мифологизма…
В пору хрущевской оттепели отречение Ромма от себя прошлого выглядело жестом тоже достаточно декларативным и в чем-то даже декоративным. Теперь-то нам понятнее, в чем ему надо было каяться и из-за чего переживать. Но это был человек такого покоряющего артистизма, такой осеннености божьим крылом, какие даются только редчайшим избранникам (я уже говорил, что таким же был Смоктуновский). Ну, не может быть сознательно дурным человек столь блистательного таланта, столь удивительного обаяния!
Не забуду первую лекцию, после которой у меня болели все шейные позвонки: он все время расхаживал по аудитории, а у меня не было сил оторвать от него глаз. Тем более что рассказывал он о вещах, мне очень знакомых и близких – о Мейерхольде, о постановке «Дамы с камелиями». Рассказчик Ромм был гениальный!
Волшебный, надмирный холодок гениального артистизма все время вился в аудитории. Роммовская педагогика, на самом деле, при всей своей внешней элементарности, была, по существу, сложнейшего внутреннего устройства. По сути дела он ничему не учил нас, он просто качал в аудиторию некий всеобщий озон творчества и тем создавал атмосферу, в которой могло что-то художественное произрастать. Ромм не излагал нам какие-то важные правильные мысли, не учил методике, не рассказывал, как катить тележку и куда переводить фокус. Он просто, я повторю, искусно впрыскивал в атмосферу озон своего таланта, и только благодаря этому, этой атмосфере, смогли в ней произрасти и созреть Андрей Тарковский, Василий Шукшин и другие довольно многие диковинные, иногда даже изысканные и всегда непохожие друг на друга цветы.

Михаил Ильич Ромм
Когда Ромм выступил в ВТО со своей знаменитой речью об антисемитизме, она сразу же приобрела широкое хождение в списках. Я тоже ее читал и проникся ее пафосом, ощущением позорности этой нашей национальной беды. Но естественно, беспокоило и то, что будет теперь с Роммом. Все были встревожены: что будет? Что будет? Но он продолжал ходить к нам на занятия и качать в атмосферу озон. Мы показывали ему этюды, среди них мой – о Дон Жуане, Ромм весело смеялся, в глазах всего института мы были любимчиками фортуны (еще бы, учиться у такого мастера!), и тут в «Вечерней Москве» появилась статья председателя вгиковского профкома Иосифяна, суть которой примерно сводилась к следующему.
Дескать, ВГИК часто ругают за нетвердость идейных убеждений, которые он воспитывает в своих студентах, и, действительно, подобные факты имеют место, да и как может быть иначе, если в институте, к примеру, преподает такой педагог, как Ромм, известный своими идейными шатаниями и публично высказываемыми порочными взглядами.
Ромм пришел к нам, спросил, читал ли кто-нибудь газету. Оказалось, никто не читал – впрочем, газета вышла только накануне вечером. Ромм прочитал нам статью, спросил, знаем ли мы её автора (оказалось, никто не знал), сказал, что сейчас пойдет к Грошеву и оставит у него заявление об уходе из института и не заберет его, покуда перед ним не извинятся. На вгиковском счету Ромма к тому времени были выпуски, давшие самые славные имена советского кино: за курсом Чухрая следовал курс Тарковского и Шукшина, за ним – курс Кончаловского и Андрея Смирнова, за ним – наш. Он, конечно, мог надеяться, что директор института не расстанется с ним просто так.
От Грошева Ромм вернулся в хорошем настроении, сказал, что Грошев заверил его, что все это недоразумение и что он, конечно же, был не в курсе дела, но сейчас вызовет Иосифяна и очень строго с ним поговорит.
Спустя две недели Михаил Ильич снова пришел к нам на занятия, поинтересовался, не заглядывал ли Грошев, несколько удивился тому, что не заглядывал, послал кого-то из нас узнать, в институте ли он. Грошев был в институте. В перерыве Ромм пошел к нему. Вернулся назад буквально через минуту, весь белый. Грошев его не принял, передал через секретаршу его заявление с резолюцией: «Просьбу удовлетворить».
Ромм понял, что его на наших глазах выгнали из ВГИКа.
Мы кипели, бурлили, кричали, что сейчас напишем в ЦК, в Политбюро, лично Микояну, но обида, которую он испытал, была такой силы, что он не мог допустить, чтобы она выплеснулась хоть куда-то за пределы мастерской. Думаю, что этот день был самым черным в жизни Михаила Ильича и именно с этого дня началась труднейшая полоса в его жизни, когда за каждое слово, за каждый шаг, каждый поступок уже приходилось бороться. Прежде от него словно исходил дух великого баловня судьбы, с этого дня судьба баловать перестала.
Из всех работ Ромма больше всего мне нравится первая – немая «Пышка». Иногда мне кажется, что весь он заключен между полюсами двух главных своих лент – «Пышки», последней немой картины советского кино, и блистательно говорящего фильма-монолога «Обыкновенный фашизм». Между двумя этими вершинами было много разного – хорошего, дурного и очень дурного, но все-таки жизнь его в искусстве по большому счету состоялась. Бунин сказал как-то, что в рассказе важно написать первый абзац и последний абзац, а в середину уже можно «пихать все что угодно», середина – развитие. Вот так же, мне кажется, и у Ромма – блистательный первый и поразительный последний абзацы, а в середине – непростое развитие.
Еще, наверное, Ромм представлял собой редчайший тип режиссера-актера, режиссера, способного к беспрерывному внутреннему перевоплощению. Ромм менялся в единении со временем, в которое работал: никогда не халтурил, не изменял себе, но преображался. К последним своим работам пришел с ясной головой, открытым сердцем, во всеоружии мастерства. И в этих последних работах тоже преобразился, тоже выразил время, и, как видно, время это все-таки было не из худших, если могло породить такую могучую картину, как «Обыкновенный фашизм».
ТРИ БАЙКИ О РАЙЗМАНЕ
Байка первая
Молодой режиссер W и молодой сценарист S, а также и Ю. Я. Райзман (ему тогда было лет под восемьдесят) стоят втроем на главной мосфильмовской площади, молчат, ждут машину, каждый думает о своем. И вдруг Райзман, глядя куда-то за горизонт, задумчиво произносит:
– Мальчики! Никогда в жизни не носите эти так называемые плавки.
Мэтр поднимает руку, артистично шевелит в воздухе длинными музыкальными пальцами:
– Яички должны быть свободными…

Юлий Яковлевич Райзман
Байка вторая
Ю. Я. Райзман спрашивает у молодого режиссера X (разговор происходит после окончания его первой большой кинематографической работы):
– В вашей картине снималась чудесная артистка U. Я надеюсь, у вас сложились какие-то отношения?..
– Вы знаете, были такие трудности, так тяжело шла картина, с таким напряжением…
– Понимаю. Но у вас же снималась и другая актриса, прелестное существо, она произвела на меня очень хорошее впечатление. Может быть, у вас хоть с ней как-нибудь, что-нибудь сложилось?..
– Да нет. Знаете, так тяжело шла картина, столько производственных сложностей…
– А-а-а… Но у вас там же свою первую роль сыграла совершенно очаровательная дебютантка, прелестнейшее лицо. А с ней у вас что?..
– Знаете, столько производственных трудностей, так тяжело все давалось…
Райзман поворачивается к стоящему рядом аксакалу, великолепному писателю и кинодраматургу Евгению Иосифовичу Габриловичу, своему старому соратнику, коллеге, другу:
– Женя, согласитесь, в конце концов, то, что он нам тут рассказывает, это по крайней мере просто непрофессионально!..
Байка третья
Драматург Гребнев рассказал Райзману, что прочел в журнале воспоминания Окуневской, где она честит всех подряд.
– Толенька, а меня она там не упоминает?
– Нет. Но стольких она там раздевает с ног до головы! Караганова превратила вообще черт знает во что…
– Толенька, вы точно помните, что меня она там не упоминает?
– Да нет, Юлий Яковлевич. Но там многим досталось. Я даже удивляюсь: столько лет прошло, а такая сила ненависти…
– Но вы точно знаете, что про меня она там ничего не пишет?
– Что с вами? Что вы так волнуетесь? Ничего она про вас там не пишет. А что ей про вас писать?..
– Да был, знаете, неприятный момент…
– Какой, если не секрет?
– Да нет, уже не секрет. Я же снимал ее в «Последней ночи». И случилось то, что раньше или позже обыкновенно случается между режиссером и героиней. Грубо говоря, однажды я уже раздел ее, разделся сам, и… представляете?., ничего у нас… не получилось… Пришлось постыдно одевать женщину, одеваться самому – в самом деле это было ужасно…
Гребнев, опешив:
– Юлий Яковлевич! Вы же были так молоды! О вас легенды ходят как о невероятном сексуальном гиганте!
– Не в этом дело, Толенька!..
– А в чем же? Простите мою настойчивость, но мне теперь уже просто интересно знать… То, что вы рассказали, просто обескураживает…
– Вас это вовсе не должно обескураживать, Толенька. Все дело в том, что все произошло уже после съемочного периода…
– Ну и что?
– Видите ли, после того как актриса мной полностью отснята, у меня как-то автоматически теряется к ней всякий интерес…
РИТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ РЕЖИССЕРА ОБ АКТРИСАХ
Следует ли режиссерам влюбляться в своих героинь и следует ли героиням доверяться чувствам своих режиссеров?
По поводу этого существеннейшего вопроса главнейшей кинематографической профессии, столь прямодушно и откровенно вынесенного в название главы, и в мире, и в любезном нашем отечестве уже существует обширная исследовательская и мемуарная антинаучная литература. Выводы ее противоречивы, основной тон писаний – желтый. Слывет и крепнет широкая сплетенно-народная молва, постепенно складываясь в интернациональную фольклорную сагу, суть которой вкратце такова: «Режиссеры снимают только своих жен. В крайнем случае, беззастенчиво спят со своими актрисами». Получается что-то вроде всемирного тайного жидомасонского режиссерского заговора.
В сказанном есть, конечно, некоторая правда, разумеется, помноженная на злодейскую ложь, хотя, впрочем, как и в любой сплетне: дыма без огня не бывает, но уж если начнет дымить…
Вопрос же на самом же деле это тонкий, деликатный, требующий разговора обходительного. Не стану темнить, отвечу сразу и по существу. Лично мне, к примеру, профессионально известно, что режиссеру непременно приходится в том или ином виде влюбляться в своих героинь, вне зависимости от собственного желания или нежелания. Формы этой влюбленности бывают причудливыми, разнообразными, всегда нетривиальными, иногда вполне даже придурочными или, по меньшей мере, не совсем умственно полноценными. Окружающим, скажем, как на ладони видно, что патрон их просто-напросто спятил, рехнулся, сошел с ума, а патрону, увы, одновременно кажется, что наконец-то в безжалостной лотерее жизни выпало сшибить на дурака заветный миллион пудов долгожданного халявного счастья… Все это часто мучительно, как бы и никому не нужно, выматывает и без того усталую, обалдевшую от разнообразных интриг, непременно сопровождающих любые съемки, растрепанную, расхристанную душу…
Хорошо все это или плохо? Не знаю, не знаю… «Обстоятельства суть наши деспоты», – говаривал некогда умница Нащокин, в очередной раз выкинув ни в какие ворота не лезущее жизненное коленце. «С любовью жить не сладко, а без нее нельзя…» – с особенно нежной грустью вторил ему и мне Булат Шалвович Окуджава в гусарском романсе, написанном к «Станционному смотрителю» и безжалостно выкинутом из картины милейшим совслужащим Генеральным директором «Мосфильма» Николаем Трофимовичем Сизовым, о чем, впрочем, позже.
А дальше – как на духу. В реальной своей жизни я был женат трижды, и каждый раз женитьба моя проистекала из особого рода сладостного профессионального идиотизма, то есть из влюбленностей, напрямую связанных с призрачным искусством теней. Теперь, когда зола еще жарка и красна и головешки порой все еще, как безумные, вспыхивают ни с того ни с сего длинным обжигающим пламенем, все-таки можно уже сказать по зрелому и спокойному размышлению, что о всех трех своих женах могу вспомнить я только хорошее или даже очень хорошее. Ну а если вдруг всплывает в памяти что-то и не совсем, а иногда, прямо скажем, что-то среднее или вдруг даже (из песни ведь слова не выкинешь, правда?..) и просто какая-то непотребная дрянь, то и она со временем все равно обязательно преобразуется в нечто приличное и вполне достойное… И единственная мудрость, оставшаяся со мной в итоге всех этих запутаннейших историй и жизненных передряг, банальна, как посиневшее от душевного холода колено навсегда покинутой женщины: «все, что ни делается, все к лучшему». О, конечно же, да, да, да! Истинно так!..
Михаил Ильич Ромм набрал наш вгиковский курс 1962 года почти сплошь из одних мужиков – мужиков внушительных, мордатых, битых жизнью, с желваками, с сизыми от давнего бритья, частью уже склеротическими щеками. Причина тому – упоминавшийся уже здесь диковинный указ Хрущева, незадолго до того изданный: принимать в творческие вузы людей не просто с жизненным опытом, исчислявшимся двумя годами трудового стажа, как в вузы обычные, но желательно, чтобы и сам этот стаж связан был с жизненным опытом необычным, небанальным. Тогдашним ректоратом, да и самой абитурой это было понято своеобразно, даже буквально, и потому мне, шестнадцатилетнему розовощекому отроку из Ленинграда, поначалу страшновато было оказаться в сумеречных вгиковских коридорах среди мрачной мужицкой толпы с полууголовным отливом сурового криминального дна необъятной советской Родины. Опыт такого рода, но без судимостей, плюс дедовская суровость пройденной действительной военной службы котировались в среде первых отделов высших учебных заведений 62-го года довольно высоко…
Среди принятых в нашу мастерскую были люди и впрямь с уникальным опытом. Пришел поступать Феликс Глямшин, командир «Ил-18». В те годы «Аэрофлот» только прокладывал первые международные авиалинии, только-только формировался отряд одетых в белые костюмы Мимино, которых так замечательно изобразил в своем фильме Данелия. Феликс был одним из них – высоким, красивым, умелым, удачливым, веселым и беззаботным, хотя и был к тому времени уже очень взрослым человеком, не только женатым, но в момент поступления имевшим двух совсем не грудных ребятишек.

Наш курс. Слева Феликс Глямшин, в центре наверху Митя Крупко, рядом с ним Динара Асанова, внизу я
На предварительный конкурс во ВГИК он послал основанный на подлинном случае рассказ. Дело в нем происходило во времена, когда Феликс, еще молодым человеком, летал в пустыне на маленьком двухместном самолете, чуть ли не на «ПО-2». По ходу одного из таких полетов над трассой прокладываемого трубопровода у беременной женщины, сидевшей на сиденье пассажира, начались роды. Феликсу пришлось, продолжая вести самолет, одновременно эти роды принимать. История, согласитесь, вполне уникальная и вроде бы свидетельствовавшая даже и о некоей странной правоте интеллектуальных забобонов Хрущева: вот такие люди, мужественные, технически образованные, интеллигентные, и должны, казалось бы, учиться творческим профессиям с тем, чтобы потом об этой диковинной, но реальной жизни всем с экрана и рассказать.
На режиссерской кафедре работу Феликса прочитали, сказали: «Вот это да! Это парень!» Никому не пришло в голову, что, принимая его во ВГИК, все берут на себя неимоверную ответственность: у человека двое детей, замечательная, и хлебная и романтическая, профессия, прекрасная перспектива, а с приемом во ВГИК – резкий слом в таинственную и нищую неизвестность.
Феликс пришел на первое собеседование ко Льву Владимировичу Кулешову. Его спросили, кто такой Моцарт и кому посвящен его «Реквием» – Феликс замялся. По части Моцарта дело у него обстояло сложновато. Добрейший Лев Владимирович без сожалений махнул на Моцарта рукой: «Это все ерунда. Расскажите-ка лучше нам, голубчик, как там у вас в самолете женщина рожала». Тут уже Феликс был на коне, вернее на аэроплане, комиссия пришла в полнейший восторг. Затем последовала письменная работа, перед которой, как я знаю от самого Феликса, к нему подошел Евгений Николаевич Фосс и сказал: «Знаете, не мудрите особенно. Напишите еще раз, с подробностями, как у вас в самолете женщина рожала».
Все работы писались анонимно, под условными девизами, но самому тупому экзаменатору было ясно, что автор именно этой работы – Глямшин. Он получил вторую пятерку, наверное опять заслуженную, все в работе было чистой правдой. Наступил третий тур, оставалось нас уже совсем немного. Собеседование вел сам Михаил Ильич, экзаменатор он был серьезный. Главный тест, которым он обычно проверял абитуриентов, требовал ответа на какой-нибудь кинематографический вопрос из Толстого: ну, чем, к примеру, кинематографична сцена Шенграбена в «Войне и мире»? Одни просто пугались, другие силились вспомнить эту сцену, кто-то книгу читал давно или не читал даже вовсе, что Михаила Ильича огорчало. Он ждал от нас основательных культурных познаний и прежде всего – по части русской литературы.
Посмотрев на Феликса, Михаил Ильич уже набрал воздух в легкие, чтобы задать вопрос то ли про «кинематографичность Шенграбена», то ли про смысл прощания Андрея и Наташи, но Кулешов ласково опередил его: «Михаил Ильич, это все хорошо, но в данном случае не это главное. У него в двухместном самолете женщина в полете рожала».
– Это как? – поразился Ромм, всегда остро и живо откликавшийся на все любопытное в человеческой жизни. И Феликсу в который раз пришлось рассказывать. Ромм в восторге покрутил головой: «Потрясающе!» Глямшина приняли.
Судьба его сложилась трагически. Ничего потом, кроме истории про рожавшую женщину, сочинить он уже не мог. Человек он был замечательно хороший, но совсем не художник. Самостоятельных художественных идей у него не было, да и чужие он с трудом понимал. Работал ночным водителем троллейбуса, с превеликим трудом кормил семью, все время хотел что-то придумать для кино, для сцены, но в голову ничего не шло. После института Феликс ушел работать на телевидение. Последний раз я его встретил лет через десять после диплома, выглядел он ободренным, дела, кажется, начинали налаживаться: доверили снять фильм про Татьяну Шмыгу. Певица она в своем жанре и вправду заметная, но непонятно было, почему именно Феликс должен был про нее снимать и какое отношение имеет его действительно уникальный и столь горький опыт жизни к искусству оперетты. А вскоре после этого фильма Феликс скоропостижно умер. Мы не могли понять – такой внешне и внутренне здоровый человек. Врачи объясняли – сердце. Наверное, были и объективные причины, но, думаю, его сердце было немало истрепано внезапной необходимостью существовать в совершенно чуждой ему среде.
Всегда и с большой любовью я вспоминаю всех моих товарищей по мастерской. Если бы с нами училось лишь одно такое чудо, как Динара Асанова, принятая по направлению из Киргизии, несмотря на общеобразовательные двойки, это уже был бы замечательный курс. Но еще учились у нас и очень талантливый Витя Титов, и Боря Халзанов, и Володя Акимов, и Давид Кочарян, и Митя Крупко, просто задуманный от природы как гений. Учился, вернее упорнейше не учился с нами, и Зарик Хухим, фамилию которого не мог выговорить ни один педагог. То его назвали Хуссейн, то Хаким, то Кукин – как угодно, но почему-то только не Хухим. Кто-то из педагогов, глядя в журнал, даже спросил: «А тут у вас в конце стоят римские цифры, это что?» Это был Зарик Хухим.
Жизненный опыт Зарика состоял главным образом в бессчетном количестве раз, которые он до нас поступал во ВГИК. Когда на лекциях по истории кино вспоминалось имя чуть ли не любого послевоенного режиссера, Чухрая, скажем, Тарковского или кого-то еще, Зарик оживлялся: «А, Гришка (Андрюшка)! Знаю. Я с ним поступал». После десяти или пятнадцати заходов наконец поступив, Зарик, видимо, внутренне решил, что главное дело его жизни свершилось и профессиональная карьера, на этом как бы закончившись, состоялась. Жаль. Человек он и одаренный, и славный, и очень верный товарищ, но с режиссурой у него вот как-то до последнего дня его жизни складывалось не очень.
Другой мой прелестный товарищ и сокурсник X уже тогда был весь седой и израненный. Сейчас он вообще «как лунь», а тогда был просто благородно сед, носил галифе, хромовые сапоги, хемингуэевский свитер с полосой на груди, ходил с огромным желтым портфелем, набитым книгами, ко всему прочему на поясе у него еще висел нож. Веяло от него мужеством рано ставшего взрослым подростка военной поры, возведенным в абсолют. Каждое наше утро в общежитии начиналось с того, что он, проверяя крепость своего мужского достоинства, вешал на указанное достоинство этот самый туго набитый толстенными учебниками по марксизму-ленинизму, объемистый желтый портфель. Судя по неизменно успешному, блистательному результату, достоинство могло выдержать и значительно большее…
Володя Акимов и Зарик Хухим познакомили меня с Володей Высоцким. Близко с Высоцким дружен я никогда не был, но встречи наши всегда были исключительно добрыми и смешными. При встречах Володя часто предлагал: «Давай что-нибудь сделаем вместе!» Я бодро отвечал: «Давай!» – но никогда всерьез к этому не относился. В моем сознании жил великий аристократ бардовского искусства – Булат Шалвович Окуджава, Володя же рядом с ним казался мне как бы симпатичнейшей дворняжкой. Испытывая, как и все, к нему огромную человеческую симпатию, я в то же время ощущал и чувство некоего, ни на чем не основанного, покровительственного превосходства. Лишь только он начинал рассказывать о чем-то, как я уже не мог сдержать улыбки. «Да подожди ты, – злился он, – я ж серьезную вещь тебе рассказываю…»

Володя Высоцкий
В одну из последних наших встреч Володя предложил: «Давай сделаем такой фильм: Одесса. Дот. Вокруг лежат убитые, человек восемь. Остался последний пулеметчик, в кровавой разорванной тельняшке. Это я. Немцы наступают, я из дота отстреливаюсь. Они хотят меня взять, а у меня пулемет, патроны, убитые товарищи и гитара. Я то отстреливаюсь, то гитару беру, песню спою и снова… отстреливаюсь…»
Я засмеялся, представив себе картину Дейнеки про растерзанного краснофлотца Володю со связкой гранат и гитарой в углу. На всякий случай.
Только потом, когда Володя умер, когда его канонизировали, и я, внутренне совершенно согласившись с такой благородной, справедливой, правильной канонизацией, уже по-новому начав его перечитывать, запоздало подумал: «Каким же нешуточным идиотом я был! Это какую замечательную картину можно было бы сделать! Какую на самом деле серьезную вещь он мне предлагал!» Много было снобистского идиотизма и эстетских глупостей в жизни, это одно из самых обидных: приятельствуя с Володей, я так и не снял с ним картины, хотя бы вот этой, про матроса, которую, захоти я, конечно же, он бы мне незамедлительно пробил.
Но все мы сильны задним умом. Тогда же не только я, многие вот так, не очень всерьез, воспринимали Высоцкого. Ну, не все, естественно. Были и по-настоящему умные, прозорливые люди, понимающие, кто чего на самом деле стоит. Ну хотя бы – светлой памяти Андрей Донатович Синявский, преподававший в школе-студии МХАТ, когда там Володя учился. Он первый сказал Высоцкому: «Учти, что ты – большой поэт. Сколько бы тебя ни унижали и ни мололи про тебя всякой ерунды, пожалуйста, не забывай об этом».
Все, связанное с Володей, нежно и трогательно теперь, по прошествии времени, почти до святочной пасторали – быть может, потому, что самые близкие, хоть и недолгие, отношения были у нас в ранней юности.
…Воскресное утро. Общежитие. Я просыпаюсь от того, что над ухом у меня раздается мелодичное «длинь-длинь». Длинькают, как я, открыв глаза, вижу, две бутылки водки, которыми Володя легонько побрякивает над моей головой.
– Пойдем! Вставай. Такой день у нас будет! Возьмем закусочки, заедем к Зарику, посидим, попоем.
– Володь, ты что – спятил? Восемь утра…
– Да. Восемь утра. Но я уже совершил чудовищное преступление. Мне Людка (тогда его женой была красавица и умница Люда Абрамова) дала Аркашке (это его старший сын) на велосипед. А я решил, что еще месяцок он без велосипеда вполне прилично проживет…
Он все-таки поднял нас с Володей Акимовым, мы поехали к Зарику, по дороге завернули в «Арагви», там с удивительной хозяйственностью Высоцкий на велосипедные деньги набрал в маленькие майонезные баночки закусочки – одну и другую, и третью, и пятую, и десятую. Потом купили пяток лимончиков и устроили не какое-то там унылое, заштатное пьянство в заплеванной и забытой Богом подворотне, а глубоко эстетическое выпивание, с накрытым белоснежной скатертью столом, разложенными по тарелочкам арагвийскими трофеями. И пили мы вовсе не из желания выпить, да и было-то всего, может быть, две бутылки на четверых, а происходило все это потому, что были молоды, было воскресенье, ясная погода, хорошее настроение и вся жизнь впереди. И Володя пел просто из удовольствия под это настроение и под эту закуску в этой компании петь, хоть как-то и с кем-то растрачивать переполнявшее его.
Позднее так мы уже не встречались, Володя натыкался на мое тупое непонимание того, чего ему от души хотелось, я – на таинственную, глубоко мне чуждую его светскую жизнь.
Как раз начался его публичный и шумный роман с Мариной Влади, покатили, шурша шинами, томные иномарки и все прочее сопутствующее. Помню, мы встретились в Пицунде, Володя приехал на голубом «мерседесе», шикарный, роскошный, загорелый, крепкий, мускулистый, пышущий здоровьем и удачей, в голубой американской рубахе, с красавицей Мариной.
– Володь, как же шикарно ты выглядишь! Какой ты… ёлки-моталки, здоровый!..
– Нужно следить за собой, старик! Не позволять себе неправильного образа жизни. Не позволять себе разваливаться по частям. И ты зря пузо распустил. А я вот, спасибо Марине, веду теперь вполне уравновешенный и довольно разумный образ жизни.
Потом я приходил на «Гамлета», слабовольно втягивая «распущенное пузо», заходил к нему на минуточку за кулисы – просто поцеловать и обнять (Гамлет, конечно, он был совершенно особенный, поражал). Видел фотографии Валеры Плотникова, на которых Высоцкий снова представал изумительной красоты, мужественности, силы суперменом, спортивного духа «удачник и поэт». «Вот ведь чудеса выделывает Володька! – завистливо соображал я себе при этом. – Все говорят – черный пьяница, а Марина, видимо, его держит так, что проживет еще сто лет в прямом смысле припеваючи…»
И вдруг Высоцкий умер. Внезапность свалившегося известия просто сломила меня. Многие, оказывается, те, кто знал его ближе и лучше, чем я, приняли случившееся иначе: ждали этого как неминуемой развязки, а я никак не мог поверить свершившемуся.
Кстати, только со смертью Володи я понял, в чем настоящий высокий дар Любимова как режиссера. Никто так трогательно, так искренне и так сильно не умел помянуть ушедших настоящих людей. Похороны Высоцкого вместе со всей Москвой гениально поставил Любимов, он давал указания, кому что делать, когда, кому и куда идти, где играть скорбной музыке, где бить в литавры, а где вступать и самому Володе, в последний раз срывая над Москвой голос – постановка эта была, без сомнения, действительно гениальной.
Я всегда старательно обхожу на Ваганьковском кладбище некое поганое идолище, якобы изображающее Володю, этого паскудного советского Прометея, рвущегося из цепей рабства коммунистической партократии к высоким идеалам всечеловеческой гармонии. Подобное установили и на могиле Андрея Тарковского в Париже – манерный девичий крест с выбитой на нем несомненной пошлятиной: «Человеку, видевшему ангела». Как же беззащитны мертвые, как безнаказанно и бессовестно над ними можно издеваться! Если бы Володя мог хоть на мгновение увидеть, что из него сотворили на Ваганьковском, или Андрей хоть на минуту поднялся бы посмотреть на толпу посторонних, чужих и по большей части просто ненавистных ему людей, пришедших открывать его надгробие! Толпа «чужих и нелюбимых» безжалостно рвет их, мертвых, на части…

Владимир Высоцкий и Марина Влади
Но это отступление. Возвращаюсь к веселым и беззаботным вгиковским временам, к дружочку Володе Акимову. Как-то я спросил у него:
– Откуда у тебя такие изящные и такие убедительные уголовные манеры?
– Понимаешь, мы с Высоцким учились в одной школе, в одном классе. Окна класса выходили на Бутырскую тюрьму, и все школьные годы на нас смотрели с вышки два вертухая и железное пулеметное дуло…
Уголовные темы и лексикон Володиных песен, думаю, именно отсюда. Как я в своей школе все время чувствовал дыхание винных паров из-под пола, так и Акимов с Высоцким чувствовали спертый воздух уголовно-политической советско-сталинской тюряги. Мне нередко приходилось слышать вопрос: «Ты, случаем, не знаешь, сколько Высоцкий отмотал? Десятку? Двадцатку?» Свидетельствую: отмотал он меньше – года четыре или лет пять, те самые, когда под надзором вертухаев тоскливо сидел в классе, грызя гранит школьных наук.








