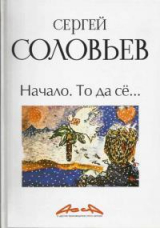
Текст книги "Начало. То да сё…"
Автор книги: Сергей Соловьёв
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
– Сергей Александрович, пора бы в партию! Учтите, что для творческих работников это совсем не просто. Мы специально для вас выбивали квоту. Подумайте хорошенько!
– Не могу! – трагически шептал я в ответ и пускал в ход давно заготовленную мульку, долгие годы себя оправдывавшую: – Люди мои картины не смотрят!
– Как так?
– Снимаю я картины. К ним хорошо относится начальство, их отмечают на фестивалях, хлопают на премьерах в Доме кино. А простой народ их не смотрит. Вот пока не сделаю картину, которая будет иметь настоящий, всенародный успех, об этом серьезнейшем поступке даже и думать стыдно. Сниму такую картину – сам к вам приду, – убежденно говорил я, твердо зная, что в ближайшее время ну никак не исхитриться мне такую замечательную картину сделать.
К счастью или к несчастью, но все замаячившие призраки славы как-то постепенно рассосались, и я опять оказался перед необходимостью с помощью Арнштама и Кремнева решать собственную судьбу. Отношения мои с Катей к тому времени дали основательнейшую трещину. Желая как-то склеить разбитую посуду, вернуть уплывшие времена, я подумал первым делом о восстановлении «Иванова» – уже в экранном варианте. И Кремнев, почесав затылок, и Арнштам, раздумчиво гладя рукой благородную лысину, сказали:
– Старик, нереально! Никто и слушать не станет о картине, в центральной сцене которой герой кричит: «Замолчи, жидовка!»
Я и сам понимал, что для ханжеских ушей тех начальников ни жидов, ни жидовок упоминать ни под каким видом невозможно было, а потому и саму постановку «Иванова» ни под каким видом не пропихнуть.
В институтские времена нам преподавали особую дисциплину, именовавшуюся «Культура речи кинорежиссера». Вела ее милейшая Лариса Павловна Сахарова. Мы находили для нее какие-то литературные произведения, заучивали из них куски, а она объясняла нам, как их «культурно» читать. Как-то, получив задание «культурно» прочитать очередной стишок, я принес ей Багрицкого, где были такие дивные строки:
Еврейские павлины на обивке.
Еврейские скисающие сливки.
Костыль отца и матери чепец —
Все бормотало мне: «Подлец! Подлец!»
И дальше продолжалось все подобное, кончавшееся:
Но как, скажи, поверит в мир текучий
Еврейское неверие мое?
Лариса Павловна выслушала все это, выпучив глаза. Потом долго на меня смотрела, смаргивая, после чего и произнесла поистине великую фразу:
– Соловьев! Но это же не наша с вами тематика!
«Наше с вами» было любимым ее речевым «культурным» оборотом. «Любое слово, – вдохновенно объясняла она, – это наше с вами здание. Согласные в нем – это те наши с вами кирпичики, из которых наши с вами гласные как птички вылетают из окон к людям».
Так вот, Арнштам и Кремнев, повздыхав, подтвердили, что «Иванов» – «не наша с вами тематика». А с тем была похоронена и последняя попытка что-либо возвратить из былого с Катей. Поезд ушел. Тогда я уже прекрасно понимал величие и горькую правоту шпаликовских строк:
По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.
Даже если пепелище
Кажется вполне,
Не найти того, что ищем,
Ни тебе, ни мне.
Давно было ясно, что возврат к прежнему невозможен, да и не нужен – тем не менее последнюю судорожную попытку я предпринял. Судьба моих хлопот не разделила.
Получив отказ по «Иванову», я подумал, а что, если попробовать протолкнуть «Дядю Ваню»? Вроде как первые мои фильмики были приличной чеховской заявкой, все согласились, что этого автора я понимаю – так что мое желание снять «Дядю Ваню» внешне выглядело достаточно разумно. Но «Дядю Ваню», как выяснилось, уже застолбил Кончаловский. Я предложил «Вишневый сад», написал развернутую экспликацию, мы послали ее в Госкино, где она легла на стол к Баскакову – другу Бориса Григорьевича Кремнева. Баскаков долго сопел, не в силах вспомнить, кто такой Соловьев и почему он должен снимать Чехова. Кремнев позвонил ему, в ответ услышал: «Боря, ну что вы там, на „Мосфильме“, дурака валяете! Кому нужен сейчас „Вишневый сад“! Думайте же хоть немножко о людях, которые ходят в кино! Вот я недавно был в Париже (напоминаю, дело происходило в 1968 году, во Франции только отгремела молодежная революция. – С. С.) и видел – на Елисейских Полях в театре идет „Егор Булычов и другие“. Народ валом валит! Понимаю, если бы вы предложили „Булычова“! Ну, конечно же мы пошли бы вам навстречу».
Кремнев пересказал мне этот разговор, пересыпая его огорченными, ласковыми и почти застенчивыми матюгами:
– Да хрена он в Чехове понимает! Ну, блин, может, посмотришь эту мандень горьковскую? Как я припоминаю, она будто и не такая и страшная, как о ней говорят.
– Да я, Борис Григорьевич, не очень этого Горького понимаю.
– Ну, надо же думать, твою душу в погреб, о том, что дальше делать, не сидеть же тебе и ждать… Ничего ты тут не дождешься!
Странный все-таки автор – Алексей Максимович Горький. Как казался он мне безвкусным дуболомом тогда, по молодости, таким по сей день, к моей искренней горечи, и остался!
Но прочитать не читанного никогда «Булычова» в одиночку, самостоятельно, все-таки было лучше, чем снимать «Последнюю жертву» с Тарковским или «Малую Землю» с Леонидом Ильичем.
Хорошо бы обхитрить судьбу, подумал я про себя. Дай-ка сниму Горького так, как снимал бы Чехова! А на саму историю Булычова посмотрю, как если бы написал ее не Алексей Максимович, а Лев Николаевич, создатель «Смерти Ивана Ильича».
Свою идею я облек примерно в такую заковыристую формулу: «Нужно сделать картину, где смерть Ивана Ильича описывает не Толстой, а Чехов».
С такой странной идеей – сделать Горького так, чтобы Горьким там и не пахло, – я подошел к экранизации.
Пьеса «Егор Булычов и другие» была написана в 1936 году, сыграна – в 1937-м, говорят, представление шло под непрерывный победный хохот зрительного зала. Видимо, такое уж было тогда время: казалось, истина в последней инстанции найдена, всем ясно, кто хорош, а кто плох, кто на «той улице живет», кто – «на этой».
Меня интересовало иное. Про то, что поп Павлин демагог, а Достигаев пытается чего-то достигнуть, а рыжая Шурка пока что к революции еще не примкнула, но, конечно же, примкнет – про все это можно было прочесть в любой хрестоматии. Стоило ли городить огород, чтобы ее, хрестоматию эту, а не пьесу экранизировать – тогда, в начале 70-х? Хотелось непредвзято отнестись к любому из персонажей, не деля их априорно на положительных и отрицательных. К каждому хотелось подойти со всей мерой серьезности, попытаться понять непростую подлинность его душевной жизни.
Конечно, не дом и не обстоятельства творили его. Он сам сотворил их – и дом, и обстоятельства.
Наверное, и все другие персонажи этой трагической фантасмагории – частица его души, ее проекция вовне. И вот теперь, умирая в корчах и судорогах, он в преддверии личной смерти (за ней, конечно, и смерть целого класса, но ужасает именно его личная смерть) обретает право судить самого себя, требовать ответа, зачем дана была ему жизнь и как он распорядился ею. Интересовала не обличительная, не публицистическая сторона, к тому времени уже превращенная в общее место, а попытка исследовать мир души одного человека. Чтобы уже потом понять смысл того суда, который сотворила история, вобравшая в себя, как и сам Булычов, множество кривд, неустройств и смятений – теперь за ними неизбежно следовал тяжкий расчет. Если попытаться формулировать главное, к чему привели эти поиски, то это размышление о судьбе талантливого, одаренного, волевого человека в России, о трагедии деланья без понимания «зачем»?
Мучительно долго – семь месяцев – писался сценарий: дело оказалось тяжелым донельзя. Причем не из-за сложности переложения пьесы для экрана (как подобного рода проблемы решать, почти сразу стало ясно) – мне просто никак не удавалось понять, кто кем кому доводится. Кто Достигаев? Кто кому шурин? Кто свояк? Кто Петлин? Кто в кого стреляет? Какого медведя кому дали? Все эти отфонарности, которыми Горький щедро пересыпал свои творения, доводили меня почти до маразма. Я даже расчертил себе специальную схему – родственных связей – и повесил ее перед собой на стенке. Если бы не эта схема, в пьесе бы мне никогда не разобраться – из текста ничего не понять. Этот мог быть мужем, а мог – и свояком, а тот – и шурином, и зятем, и вообще – кем угодно. После того как эта премудрость одолелась, работа пошла более или менее сносно, и сценарий наконец удалось закончить.
ГЕНА
Хорошо, когда волшебное возникает из будничных обстоятельств и слагаемые его просты… Г. Ф. Шпаликов
Полдень, солнце, год, по-моему, шестьдесят третий. Они шли по длинному тротуару напротив ВГИКа. За тротуаром высилась ограда, за оградой росли деревья, окутанные нежно-зелеными облаками молодой листвы. Когда задувал ветер, листва шелестела. Казалось, других звуков слышно не было. Вдоль ограды неторопливо шли двое, один руками чертил в воздухе бесплотные фигуры, другой будто бы разглядывал их в голубоватом дрожащем воздухе весны. Оба улыбались, а по другую сторону улицы мы, вгиковские студенты, пооткрывав рты, провожали их восхищенными взглядами. Оба были знамениты, оба несправедливо всенародно обруганы, отчего, впрочем, их слава ощущалась еще сильнее. Одного звали Марлен Хуциев, другого – Геннадий Шпаликов. Шпаликов только что закончил сценарный факультет ВГИКа, защитился фильмом «Я шагаю по Москве», уже будучи одним из авторов сценария «Заставы Ильича» («Мне двадцать лет»).
Тогда я увидел Гену впервые.
Потом, в каком-то из поздних разговоров, я, как смог, описал Хуциеву это солнечное, счастливое видение давних лет.
– Куда вы шли?
– В столовую гостиницы «Турист», – не задумываясь, ответил Хуциев безо всяких возвышенностей.
– Но почему вы уверены, что именно в тот раз, когда я вас видел, вы шли в эту столовую? – обиделся я на сухую прозу хуциевского ответа.
– А мы каждый день с ним туда ходили… Харчо, бефстроганов, сто грамм…
На меня надвигается
По реке битый лед.
На реке навигация,
По реке – пароход.
Пароход белый-беленький.
Дым над красной трубой…
Ну, что тут, спрашивается, в этих простых, почти бессмысленных строчках, которые мы пропели, пробормотали, просвистели почти все свои молодые дни? Отчего я помню их и сейчас, больше чем через сорок лет с того ослепительного дня, когда, засунув руки в карманы, сияя белозубой улыбкой физкультурника и баловня судьбы, прошел передо мной впервые их автор? Отчего в горле при этом воспоминании всегда встает комок, как знак какой-то полузабытой не то радости, не то беды?
По несчастью или к счастью.
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.
Даже если пепелище
Кажется вполне,
Не найти того, что ищем,
Ни тебе, ни мне.
Мы, в общем-то, не только не были с Геной друзьями, но даже обстоятельства складывались так, что мы могли бы стать недругами. Но временами жизнь перекручивала наши судьбы так, что связующее нас становилось едва ли не сильнее и ближе, чем дружба. Познакомились мы вскоре после моего поступления во ВГИК. Курсе на третьем я осмелился позвонить ему. Волновался до заикания в трубку, просил написать для меня сценарий. «Я вряд ли смогу, ч-ч-чудовищно п-популярен и оттого з-з-звер-ски занят…» Неужели он передразнивает мое заикание? Но ходу назад уже нет, а от унижений любовь, как известно, только крепнет. Я пытаюсь настаивать на встрече.
– Ну, х-хорошо, уговорили. В семь у П-Пушкина…

Гена Шпаликов сначала
Уточнять не надо, сомнений нет, со знаменитым Шпаликовым мы встречаемся «по делу» ровно в семь синего осеннего вечера у волшебного бронзового изваяния; к семи уже стемнеет, вокруг поэта зажгутся неярким золотистым светом старинные фонари.
Здесь когда-то Пушкин жил,
Пушкин с Вяземским дружил,
Горевал, лежал в постели,
Говорил, что он простыл.
– П-предлагаю зайти в ВТО и р-распить бутылочку х-х-холод-ненького «Цинандали»…
С этого Гениного предложения началось наше многолетнее общение. Слава богу, он не дразнился. Просто время от времени слегка заикался от природы.
На нем светлый китайский плащ, вокруг шеи намотан сине-голубой вязаный шарф. Я впервые в жизни попадаю в бестолковое актерское празднество вечернего ресторана ВТО. И там, среди шума и люстрового блистания фальшивых огней на ослепительно белой, хрустящей скатерти, мы с Г. Ф. Шпаликовым распиваем бутылочку ледяного «Цинандали», восхитительный вкус которого, как мне кажется, и до сих пор у меня на губах. С тех пор я выпил немало другого «Цинандали», бывало и холодного, и все больше со славными, хорошими людьми, но тот вкус больше не повторялся. То был вкус вина и еще – обожания заслуженной удачи. Допив бутылку, Г. Ф. расплатился и тут же царственно отказался сотрудничать со мной. Я скис, что, вероятно, отразилось на моей физиономии. Наверное, ему стало меня жалко.
– А давай двинем в цирк? – предложил он.
У Центрального рынка Шпаликов покупает букет синих астр. К моему изумлению, нас пускают со служебного входа. Резко пахнет конской мочой, потом деревянный запах опилок, тюремный свет электрических ламп в решетчатых намордниках. Он идет, будто хорошо зная куда, синий шарф болтается в такт шагам. Выныриваем возле арены, садимся. Представление давно в разгаре, движется к концу.
– Сейчас, – шепчет Гена, – сейчас оно самое и начнется…
Барабан бьет дробь, вспыхивает свет, я вижу, как под куполом на трапеции бесстрашно крутится невесомая девочка, летает над нами, как шагаловский ангел.
– Ну?! – в восторге не то восклицает, не то спрашивает Гена.
«Неужели влюблен?» – соображаю я. Влюблен – не влюблен, до сих пор не знаю, кто такая эта гимнастка. Да и какая разница? Не исключаю, что вообще он сам себе этот роман ненадолго выдумал – такое Гена обожал… В цирке, как вы понимаете, я бывал и до этого и потом, но ничего подобного во впечатлениях моих не повторилось (впрочем, вру, то же знакомое чувство нахлынуло на меня, когда много лет спустя я увидел гениальный «цирковой цикл» художника Фонвизина). А тогда, повиснув на лонже, гимнастка медленно спустилась с небес («а музыка играет так весело!»), Гена перелез через бортик и на арене вручил ей свой синий букет, прилюдно поцеловав в щеку. Белые полы плаща плескались в свете прожекторов. Публика кричала «Браво!».
Сон? Нет. Все так и было. Такие, представьте себе, были тогда времена!
Как блеск звезды,
Как дым костра
Вошла ты в русский стих беспечно,
Шутя, играя и навечно,
О легкость, мудрости сестра.
Потом времена стали меняться. Перемены происходили втихаря, так, что сначала никто ничего и не понял. На смену былой Гениной «бессмыслице» явились новые «смыслы», стали зачитываться разумной «Литературной», появился тухлый термин «проблемное искусство». Открыли политический Театр на Таганке, с гениальным Володей Высоцким, но также и с «тонкими намеками на толстые обстоятельства»; на спектакли, сходя с ума от счастья «приобщения», ломился народ. Тут же позакрывали и уложили на полку какие-то фильмы.
И хотя одно вроде бы гармонично уравновешивало другое, но улетучивалось что-то третье, наверное, самое важное. Стало труднее дышать. Нам-то еще ничего, мы были так молоды, только начинали, и потому довольно естественно применялись, как к норме, к кислородной ограниченности вздоха. А зрелые «шестидесятники» вдруг будто постарели разом, хотя и продолжали кликать друг друга по именам: Белла, Марлен, Булат… Шпаликовские друзья, они выжили. Не только выжили, конечно, – многие прожили с честью, а многие живы и сегодня, по-прежнему помогая, как могут, жить и выжить всем нам: и чистая исповедь Ахмадулиной, и сосредоточенная совестливость Хуциева, и ясность, благородство одухотворенности Окуджавы не наша роскошь – наш хлеб, спасавший в самые голодные времена. А Гена вот не смог, не одолел, не выдержал, а может быть, и не захотел не выдерживать и не одолевать…
Много лет подряд, четвертого, по-моему, ноября, в ресторане Дома кино накрывают стол для поминок. Приходят уже довольно пожилые и довольно немногие люди (с каждым годом число их все меньше), промерзшие и совсем невеселые, садятся за стол, но через какое-то время раздается сначала первый смешок, потом другой, третий, вскоре начинается чудовищный хохот, и еще через какое-то время часть поминающих уже бьется в хохоте истерическом – ничего, что многие в темных галстуках и костюмах. Это ежегодные наши по Гене поминки, а смех, конечно, не от тупости и не от душевной черствости. Смех – от воспоминаний про Гену. Гена это бы одобрил. Вообще, когда ему что-нибудь почему-то нравилось, он определял это единственным словом – «смешно!». Так мы и привыкли, что Гена – это очень весело. Но время бежит, и все больше мы понимаем, что на самом-то деле Гена – это еще и очень серьезно. На этих безразмерных поминках мы порассказали друг другу сотни веселых историй про Гену или с Гениным участием. Ясно, что рано или поздно эти истории закончатся, а вот история Гены, наверное, на самом деле еще только начинается… Во всяком случае, роль Гены в истории русской отечественной культуры, выражаясь академически, еще не нашла, я уверен, адекватного отражения.
Вот, к примеру, одна типично Генина история. В промозглую, чудовищную осень чинно сидим мы с ним в Доме кино на каком-то пленуме. По какой причине сидим, к тому же оба, как стекло, трезвые, я уже и не припомню. Видимо, какая-то странная, но и весомая, по-своему, причина этому все же была. Во всяком случае, все четыре часа заседаний мы тупо отсидели в третьем ряду, рядышком, в пьяные кулуары упорно не выходя. Грустная же речь кинематографического руководства в тот день шла о том, что страшно много стало в нашем кино необъяснимых явлений пессимизма.
Первым про это тихим, грустным голосом заговорил Лев Александрович Кулиджанов, наш тогдашний председатель, ненастырно бормоча, что, мол, так вот мы и доведем народ «до ручки», если не сменим все-таки свою унылую шарманку: мол, абсолютно исчезли с экрана добрая улыбка, душевное здоровье и вообще какая-либо жизнеутверждающая нота. (Эх, Лев Александрович, Лев Александрович, а что же сказали бы вы по этому поводу сейчас, когда, оглянувшись на то время, видим мы братское единение народов в сладостном и улыбчивом человеческом раю!) А потом вышел и Караганов, лично ответственный за идеологию, а соответственно, и за исчезновение улыбок и за трясину социалистического пессимизма. Народу, сказал он, надоел этот страшный мрак нашего критического кинематографа, его дикий ужас, и нужно нам, социально ответственным кинематографистам, обязательно и немедленно дать народу что-то светлое, высокое, поэтичное, вызывающее внезапный рост крыльев за спиною и последующее их взмахивание. И что если добром мы это не сделаем, то кинематографическим руководством будут приняты к нам соответствующие меры, и даже есть уже проект этих строгих мер – проект столь тяжелый и непопулярный, что даже не хочется его пока обнародовать…
Каждый из нас лениво обдумывал свое место в этом непопулярном проекте, вздыхал и слушал дальше. Трое-четверо обреченно вызвались выйти на трибуну и не очень убедительно рассказали, как буквально с завтрашнего дня они начнут высветлять свою палитру. Потом внезапно и с большой, даже неестественной скоростью всё свернулось, и мы с Геной, повторяю, в абсолютной трезвости вышли на темную Васильевскую улицу. И никто перед этим, это я помню точно, не дал нам взаймы, чтобы выпить, хотя мы, тоже как сейчас помню, пытались одолжить у коллег хоть немножко, но в тот день безуспешно.
А на улице капал дождь, пузырились лужи, наши ботинки хлюпали – снаружи и внутри. Кондиций они были сомнительных. И опять-таки никак не вспомню, почему мы с Геной не воспользовались общественным транспортом, а тупо и неизвестно куда шли под дождем. Неужели и это из-за того, что не было денег даже на автобус? Но это вряд ли. Могли бы проехать и на халяву, если бы того захотели. Так или иначе, но мы передвигались по Садовому кольцу от гостиницы «Пекин» по направлению к Смоленской площади, к историческому Бородинскому мосту. Брели молча. На перегоне от Восстания к Смоленке Гена, хотя его никто и ни о чем не спрашивал, неожиданно начал сам.
– На самом деле они, конечно, правы. И Лева, и Караган, – вдруг объявил Гена. – Все это не жизнь. Это пессимизм. Вот так вот, в рваных ботинках, трезвым, идти сейчас под октябрьским дождем и не верить в то, что с тобой вот-вот, желательно сегодняшним вечером, случится что-то радостное… Людям действительно нужна надежда. Давай вот хоть мы с тобой, как молодые одаренные кинематографисты, на удивление всем возьмем и сделаем что-то доброе, хорошее, веселое, светлое… Отчего весь наш многонациональный кинематограф перевернется и обратится к нам живой, человечной, оптимистической стороной…
Машины, время от времени тормозя перед светофорами, то и дело обдают нас каким-то жидким дерьмом. Мы утираемся, сохраняя достоинство, удерживаем себя от грязного мата в адрес нерадивых шоферов, идем дальше, по-прежнему неизвестно куда.
– Давай, – говорю. – Давай, Гена, именно так вот и сделаем. Давай совершенно неожиданно для всех, пусть это будет, так сказать, сюрпризом, учудим что-нибудь на экране именно про социализм, но с веселым и приветливым человеческим лицом. Без всякого пессимизма. Я всегда за это. Гена. Ты же знаешь. Мне уже вот так, под завязку, надоела всякая паскудная чернуха.
И мы с новой энергией начинаем обсуждать так внезапно свернувшийся пленум и те ценные идеи, которые все-таки успели сообщить нам наши старшие товарищи. Гена исключительно мастерски включил меня в чувство абсолютного и неожиданного душевного единения с докладчиками.
– Не надо так нам жить, не надо, – бормотал Гена, сосредоточенно глядя себе под ноги. – Другое что-то есть в этой жизни…
И мы, обдумывая этот нехитрый тезис, прибавили ходу и довольно споро прошли, наверное, еще с километр.
– Вот мы с тобой постоянно все что-то придумываем, но все какое-то тяжелое, оскверняющее душу, нет в этом никакой позитивной нравственной идеи, – продолжает мыслить вслух Гена. – А я вот, прошу тебя слушать внимательно, сейчас вспомнил кое-что и сам себе удивился. И это, я думаю, именно то, что нам с тобой сейчас нужно! И Леве Кулиджанову нужно! И Карагану! Это действительно просто сказка! И что самое потрясающее, – невыдуманная сказка! Сказка-быль! И я сам в ней участвовал. Но мы этого давай поначалу педалировать не будем. Пусть это буду как бы и не я, а наш общий лирический герой, который, к-конечно же, во многом будет со мной связан, но не более того. А история действительно такая, какие ты любишь – такая тургеневская, нежная, п-прозрачная, вся на природе и к тому же, очень м-музыкальная.
– Ёлки-моталки! – буквально вскрикиваю я от внезапно переполнивших грудь надежд. – Если у тебя такая история есть, то какого ж хрена ты про нее столько времени молчишь? Что-то бессмысленно высасываем с тобою из пальца! – продолжаю я. – Так давай же, Гена, мы быстренько эту твою историю материализуем. Заявку можем даже сегодня сочинить. На той неделе, глядишь, аванс получим…
– Я ж тебе и говорю, что К-Караганов что-то шевельнул во мне подлинное, настоящее. Что-то в душе, собака, знаешь, всплыло хорошее, чистое. А главное, это все реальность, а реального света радости не заменишь никакой в-выдумкой! Дело же происходило под Москвой, в Малаховке. По какой причине я туда попал, сейчас точно уж и не вспомню. Но, хорошо помню, вдруг обнаруживаю себя в чудесном таком месте, тургеневская, понимаешь ли, дача, жимолость, сирень. Стою – с-сумерки летние, на мне светлая рубаха, парусиновые штаны, матерчатые белые туфли на босу ногу. Сирень шелестит прямо в уши, прямо в нос своим цветением так и шибает, шмели жужжат, тишина, шорохи в листве, золотое солнце садится, рябые, движущиеся, ажурные тени. Из этих дивных кустов в белых штанах я с любовью выглядываю наружу. И вижу перед собой чудесный двухэтажный дом. Даже трехэтажный. Нижний этаж там слегка подвальный, но есть. А так на вид два этажа. И сверху, со второго, хочешь верь, хочешь не верь, доносится до меня в сиреневые кусты музыка, нежнейший такой фортепьянный Шопен. Может, прелюдия, может, мазурка – не помню уж точно, но трепетный такой Шопен, лучшей поры, прозрачный, как шелест листьев. Вот я стою и чуть не плачу от того, как все прекрасно и возвышенно. И я посреди всего этого. Думаю, кто же это может играть? В закатный час? И в этом рассуждении вхожу в дом и знакомлюсь с его обитателями. С той минуты, не поверишь, они стали частью моей жизни, а я – своеобразной частью их судьбы. Оказалось, дом этот построил пожарник.
– Кто?
– Пожарник! Один из начальников, руководителей местной пожарной охраны. Я бывал потом у него на работе, сам видел красные машины с сигнализацией, до блеска натертый столб, по которому пожарники по тревоге сверху соскальзывают. Тут и там начищенные до блеска медные колокола. И он всем этим командует. И дом себе сам построил, практически без посторонней помощи. Был тот пожарник к тому же вдовец. Жил, нужно сказать, довольно трудно: с одной стороны, его жизнь была полна постоянной опасности, пусть хотя бы и чисто теоретической, с другой стороны – все время человеческая неустроенность, одиночество, знаешь, как у Антониони, такая некоммуникабельность, невозможность обрести надежный контакт с миром.
И вот в связи с этими душевными переживаниями, тут уже чисто антониониевский аспект наступает – пожарник-вдовец в подвале стал гнать самогон. И с этой целью соорудил там очень большой и производительный самогонный аппарат. Сам аппарат был очень красив, даже чисто внешне, в нем, ты знаешь, были как бы черты космического корабля. Я видел его в действии – это напоминало старт ракеты, когда уже идет отсчет, жидкость клокочет в трубах и весь снаряд блестит, готовый сорваться ввысь, но что-то еще удерживает его на земле. Зрелище невероятное!
Практически ничем другим пожарник не занимался: пойдет посмотрит, все ли в пожарке в порядке, потом шмыг в подвал – и гонит там самогон. Сначала он его в кружки разливал, в кастрюли, потом думает: «Так не годится! Нужно же не просто гнать, а настаивать самогон на чем-то». Достал большие пятилитровые бутыли с притертой пробкой и стал гнать в них. Соорудил в подвале большие стеллажи и все бутыли на них составил: нагонит бутыль, а в нее или черной смородины, или рябины, или тмина. Все настойки разные, все по особому ранжиру по полкам расставлены: посмотреть – ну, просто сокровищница, в Эрмитаже такой нет! А аппарат, как космический корабль, все время гудит: «У-у-у!» Так вот и шла жизнь пожарника. Ни женщин, ни друзей. Только труд и некоммуникабельность, чисто антониониевская проблематика.
Скажу тебе честно, в первый раз попал я туда нетрезвый, увидел сначала этот подвал, это пламя, эти склянки по стенам – ну, чистое ощущение лаборатории профессора Доуэля, ракеты с Гагариным и родного духа подмосковной забегаловки. Хозяин налил мне стакан-другой, а дальше уже чуть помню, наверное, оттащил он меня на первый этаж и уложил спать. С утра просыпаюсь в комнате – золотые лучи солнца и чудные, чарующие звуки Шопена. Откуда, думаю, Шопен? Неужели мне снится? Может, это просто душа требует или похмелье такое странное? Головой трясу, гоню прочь наваждение – нет, не проходит. Шопен, и все! Встаю как был, в трусах, босой, начинаю соображать: откуда звуки? Наконец улавливаю – сверху. Тихо поднимаюсь на второй этаж по лесенке, смотрю – мезонин, маленькая светелка и рояль посередине стоит. За роялем – дивная тургеневская девушка в чем-то прозрачном, воздушном, голубом. Девушка играет. Думаю: ну, не может этого быть! Не бывает такого счастья! Трясу головой, опять, думаю, наваждение – нет, сидит! Рояль, Шопен, золотые лучи солнца, красота необыкновенная! Присматриваюсь ближе… а она – без ног. Без обеих.
– Как без ног?!
– Без ног. Инвалид. То ли у нее в детстве чего-то было, то ли несчастный случай какой в зрелости, но к этому моменту ног у нее уже нет. Думаю: «Где пожарник?» А она посмотрела на меня пронзительными синими глазами и говорит, как ни в чем не бывало, будто давно меня знает:
«Не волнуйтесь, папы нет, он на работе».
Я к ней подошел, стою перед ней, онемев от волнения, в одних трусах, молча на нее смотрю, тут она повторяет:
«Я говорю правду: папы нет. Не волнуйтесь и не бойтесь, он уехал в пожарную часть».
И тут у меня – ну, конечно, не у меня, а у нашего лирического героя – такая дикая страсть пробудилась, такой прекрасный порыв любви…
– Прямо вот так? В трусах, босым, с похмелья?
– Да! Да! Да!
– Так она же без ног!
– Да! Без ног! Без ног-то без ног, но должен тебе сказать, что это был вполне нормальный, очень даже впечатляющий любовный акт!
– Без ног?
– Да! И должен тебе еще сказать, что она во время всего этого ухитрялась продолжать играть Шопена.
– Ну-у!
– Что ну? Что может быть возвышенней и прекрасней в человеческой судьбе! Этой любовной сцены я никогда в жизни не позабуду!
– И это всё?
– Какое всё? Дальше такое началось! Такого не придумаешь! Я осел в этом доме. Вечерами пожарник меня водит в подвал. Аппарат все работает, хороший аппарат, производительный. Мы свеженького попробуем, а ночью я сплю и он спит, он с утра на службе, а я – наверх. Шопен, любовь, и как бы я чувствую, что нашел свой дом, себя, судьбу.
– Очень идиллическая история.
– Какая идиллическая! Это драма!
– А что такое?
– Хочешь верь, хочешь не верь, но однажды в доме начался пожар.
– Как?!
– Совершенно неожиданно. Я спал, было утро, чувствую – угораю. Горим! Дым! Я пробкой вылетаю на улицу: дом горит, а сверху – звуки Шопена.
– А что ж ты, блин, любимую девушку не спасаешь?!
– Как же! Первое, о чем подумал: сейчас побегу и вытащу ее. Она же без ног, сама не может. Но еще думаю, чего же она дым унюхать не может? Нельзя же не почувствовать, что дом горит. Почему шопениться продолжает? Такие вот противоречивые мысли у меня, то есть у нашего лирического героя. Думаю, вытащу ее сейчас на руках через огонь, а как я ее вытащу, если уже на первом этаже все полыхает? И только я туда рванулся, как началось…
– Что?
– Страшные взрывы.
– Какие взрывы?
– Страшнющие. Военные. Как на фронте.
– А взрывы-то откуда?
– Откуда! От верблюда! Внизу бутыли стало рвать. И я понимаю, что сейчас весь дом рванет, потому что, не исключено, сам аппарат остался в рабочем режиме. А если аппарат рванет, то, думаю, я сам без ног и безо всего остального в этот момент свою жизнь кончу. Я застыл, дом пылает, в подвале рвут бутыли со страшным грохотом, дым коромыслом. Сквозь дым – Шопен. И вдруг колокола… Подъезжают пожарные машины, выскакивает отец весь в слезах и слышит звуки Шопена…








