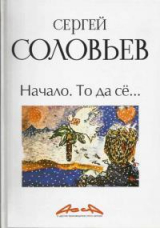
Текст книги "Начало. То да сё…"
Автор книги: Сергей Соловьёв
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
Конечно, соображал себе я, вероятно, в занятиях искусством есть разные пути. Тот, которым соблазнял меня Лева, – путь классический, известный по хрестоматийным примерам, извилистый и тяжелый путь к горным вершинам, – пахать у Матвея Григорьевича, мести полы в той самой «вешалке», с которой «начинается театр», сходить с ума от счастья, что тебе наконец доверили произнести: «Кушать подано…»

Школа. Концерт. Морочу голову публике, что сейчас исполню им «Поэму экстаза» Скрябина
Тем более что и нам с Левой после «отстоя и фильтрации» тоже наконец доверили «высокую честь» быть осветителями: Лева стоял в левой кулисе, я – в правой. Меняли желтый фильтр на красный, стараясь как можно более художественно осветить происходившее на сцене действо (играли Светлова – «Двадцать лет спустя»). Я видел, как Лева преданно теряет за этим занятием дар речи, впадая в некое сладостное самоуничтожение, в некое одуряющее счастье бессловесного статиста, готового десятилетиями ждать подарка судьбы – выйти наконец на сцену вместо внезапно заболевшего премьера.
Гораздо более, нужно честно сознаться, меня все-таки привлекал авантюрный, «поэмо-экстазовский» путь. Обстоятельства потворствовали моим тайным размышлениям, я к тому времени, волей случая, начал систематически «подхалтуривать» в еженедельной передаче только-только оперяющегося телевидения. Режиссер этой передачи, Алексей Александрович Рессер, обратил на меня свое рассеянное внимание во Дворце пионеров, вследствие чего каждое воскресенье я стал появляться на первых, от того особенно чтимых, телеэкранах в белой рубашке с красным галстуком. Опять же слегка выкатив глаза и взметнув над головой пионерский салют, я ежевоскресно звонко выкрикивал: «Здравствуйте, ребята! Начинаем передачу „Юный пионер“», вслед за чем с той же жизнеутверждающей непринужденностью бодро вел журнал до конца.
Алексей Александрович Рессер был очень хороший, честный и чистый, как слеза младенца, человек. Это он мне впоследствии дал единственную необходимую рекомендацию во ВГИК. Наверное, вообще главным моим везением и счастьем в жизни было то, что в моменты кризисов и надломов судьба вот так вот, каким-то беспечным дуриком, выводила меня на исключительных, просто замечательных по своим человеческим качествам людей.
Конечно, журнал еще более прибавил мне сомнительной славы. Но про себя-то я с самого начала, конечно, знал, что «Юный пионер» – это халтура, и к своей тогдашней телевизионной деятельности никогда по-иному не относился. Однако именно в этой халтуре и обнаружил меня Игорь Петрович Владимиров, работавший тогда в БДТ у Георгия Александровича Товстоногова очередным режиссером, а обнаружив, пригласил играть на сцене прославленного театра.
Вся эта диковинная карьерная кутерьма временно завершилась тем, что теперь уже я обнаружил себя за кулисами. Мне дали большую роль в «Далях неоглядных», пьесе сочинения Николая Вирты, и поначалу раз пять в месяц я играл на этой, без сомнения, великой сцене вместе с выдающимся Полицеймако, тогда же за кулисами познакомился с Евгением Лебедевым, чуть позже – с Сергеем Юрским, Владиславом Стржельчиком, Кириллом Лавровым. Репетиции вели Игорь Петрович Владимиров и Роза Абрамовна Сирота. Потом в их работу включился и «сам», как его называли в театре, – Георгий Александрович Товстоногов, придавая сделанному до него завершенность и блеск.
Шел 1955 год, это было еще только начало стремительного взлета БДТ. Взлет я переживал вместе с театром. И что необычайно отличало этот превосходный дом от «халтур на телевидении» – здесь я впервые увидел и ощутил радость нормальной, неистеричной театральной атмосферы, нормальной профессиональной работы чрезвычайно одаренных и удачливых людей. Я провел в БДТ два или даже три года. Не могу сказать, что так уж проникся к подмосткам тем самым «трепетным» отношением, но уважение и любовь к этому роду человеческого труда у меня возникли. Я видел честное, серьезное, рабочее отношение к своему уникальному ремеслу. Там я понял, что это значит – «служить в театре». Мне даже выдали удостоверение, где значилось, что Соловьев Сережа является артистом Большого драматического театра имени Горького.
Два раза в месяц мне платили деньги, пусть небольшие, но я знал, что получаю их за работу, а не за халтуру или за трепет. Мне передавали на каждый месяц мое рабочее расписание, где были точно обозначены дни спектаклей с моей занятостью, и с учетом этих дней я уже планировал все свои остальные, на глазах становившиеся все более и более взрослыми дела.
А в театре все тогда еще были так молоды! О, что творилось за кулисами, какой блеск и восторг артистизма, ума, юной силы – просто невероятно! Я иногда гримировался с великими этими актерами в общей гримерной, в ожидании выхода они травили друг другу байки… Потом, много лет спустя, однажды, я с такими физическими чувственными подробностями вдруг вспомнил это ощущение глядящей на тебя черной бездны с прозолотью колоссального зала, в котором лишь мерцают, отражая свет, поверхности чьих-то очков да навстречу тебе идет могучее электризующее дыхание глядящих на тебя людей. Было это в Малом театре, когда Таня Друбич, играющая Соню в чеховском «Дяде Ване», впервые вышла на эту легендарную сцену.
Три года подряд продолжалось это счастливое хождение к Товстоногову. Мало-помалу я начинал ощущать себя вполне театральным человеком. Но вот тут-то и ахнуло мое первое кинематографическое потрясение – фильм «Летят журавли». Потрясением эта картина была не только для меня – для целого поколения. Андрей Кончаловский, Глеб Панфилов, Василий Шукшин, Алексей Герман – все когда-то говорили о том же: встреча с этим фильмом стала поворотным моментом в судьбе. Я и до сих пор в счастливом плену гениальной магии этой картины: однажды опаздывал на какую-то важную встречу и вдруг услышал по телевизору бой кремлевских курантов – узнал сразу эти особые, невозможно знакомые удары – начало «Журавлей». Думал, ну погляжу минутку – ведь уже, может, раз в двадцатый смотрел – минутку посмотрю и пойду. А никуда уйти так и не смог – простоял перед телевизором в пальто и шапке до самого конца.
Можно, допустим, эту картину выучить наизусть по кадрам, можно теоретически разобрать, как снята каждая сцена, но все-таки как это объяснить, этот сердечный спазм, который с неумолимостью смены времен года возникает со зрителем в тот момент, когда духовой оркестр начинает играть «Прощание славянки» и Вероника (в который раз!) швыряет в толпу печенье, а они идут, уходят – и это уже навсегда!..
Мне не было, точно, не было еще и четырнадцати лет – откуда в столь нежном возрасте печаль о счастье или несчастье какой-то там чужой взрослой женщины; но помню со всей отчетливостью, как лично мне отчего-то необходимо было счастье этой самой неведомой Вероники. Конечно, я понимал уже, что сколько бы раз еще и еще ни смотрел картину, Борис с фронта не вернется, как не выплывет из реки Чапаев. Но сила сострадания к героине была такова, что как-то я даже с изумлением поймал себя на том, что перипетии судьбы этой столь невероятно сыгранной Татьяной Самойловой женщины вызывают во мне никак не меньшее сочувствие, чем, скажем, судьба моей собственной матери. Что это? Отчего? Ведь ее, Вероники, верно, никогда и в жизни-то не было!

Татьяна Самойлова в фильме «Летят журавли»
И почти сразу еще одно поразившее удивление: по телевизору показали документальные кадры – как снималась смерть Бориса. Видел, как волоком тащили через какую-то немыслимую лужу и грязь в кепке и ватнике оператора Урусевского, а он снимал, и как укладывали в воду знакомого мне актера Баталова, но он в этот раз был как бы совсем не Баталов и совсем мне не знаком, он был Борисом и через несколько мгновений должен был погибнуть, а Урусевского тащили с камерой к этой погибели через лужу, и он ее снимал: значит, все прежде виденное на экране в кинотеатре было рукотворно, придумано, воссоздано людьми? Значит, есть такая особая, другая реальность – кино, где может родиться такое вот чудо навек запечатленной душевной жизни каждого отдельного человека.
Уже позже, взрослым, я прочитал у Бунина о впечатлении, когда-то произведенном на писателя первым посещением писчебумажной лавки: ему казалось, что сам запах бумаги рождал ощущение праздника, счастья. Наверное, вот таким же поразившим воображение праздником были для меня эти документальные кадры, вдруг сделавшие чарующим и дикое словообразование «Конвас-автомат» и манящим чудо рождения на глазах новой реальности, способной стать такой же, а может быть, даже и более волнующей, чем сама жизнь. Впрочем, это было так, но и не совсем так.
Я, допустим, к тому времени уже много раз видел Смоктуновского, несколько раз мы даже зарплату вместе в кассе БДТ получали. Слава его была неправдоподобной. Когда он шел по Невскому – Невский вставал. И все потому, что у Товстоногова он сыграл князя Мышкина. И вдруг вокруг говорят, что он уходит из театра, чтобы сниматься у Калатозова, в «Неотправленном письме». В театре – скандал, за кулисами нервные разговоры: «Кеша рехнулся, уезжает куда-то в тайгу на два года, будет жить в вагончике-бытовке и с этой целью бросает у нас „Идиота“, Гога назад его никогда не возьмет…» А чуть позже я вижу за кулисами живого Смоктуновского и завидую ему дикой завистью: он будет сниматься в новом фильме авторов «Журавлей»…
Ни с того ни с сего, безо всякой к тому подготовки, из чистого авантюрного воздуха вот так вот заканчивающегося отрочества, я взял и организовал в школе киностудию не меньше как имени Сергея Михайловича Эйзенштейна. Помню, на алгебре вырвал из тетради листок в клетку и в правом верхнем углу написал: «Директору киностудии „Ленфильм“ товарищу Киселеву от директора киностудии имени Сергея Эйзенштейна 290-й средней школы Сергея Соловьева. Заявление. Прошу выделить для съемок фильма то-то, то-то и то-то. С.С.». И ничего при этом не было. Никакой киностудии не было. Но настоящий ужас начался тогда, когда бедный Киселев, сам не понимая, что происходит, все это мне выделил, выдал и разрешил вывести за пределы студии. Куда я скажу. И тут я уже обнаружил себя в кабине ленфильмовского грузовика с материальным пропуском в руках, а в кузове – туча дорогостоящей профессиональной аппаратуры… Наверное, все-таки от Бога есть у меня талант фантастического карьериста – номенклатурного партийного работника. Директриса школы, пораженная образованием из воздуха школьной киностудии имени Сергея Эйзенштейна, видимо, учуяла это мое истинное дарование, вызвала меня к себе и обещала вместе со мной подписывать все эти мои безумные студийные бумаги, но за это я два года должен был быть жутким школьным начальником – председателем учкома.
– У нас развален коллектив. У тебя замечательные организаторские способности, – сказал она. – Я чувствую в тебе лидера, который может удержать школу от разложения…
Я не знал о таких своих замечательных способностях, но чутьем понимал, о чем идет речь. Шел уже 58-й год, уже прошли стиляги, коки, узкие ботинки, прогремел молодежный фестиваль, на нас двинулись пластинки на рентгеновских «ребрах» с живым и хулиганским рок-н-роллом, вот-вот должен был грянуть Элвис Пресли, не за горами – «битлы», и все это с мощным напором хлынуло в жизнь, в юные умы.
Студия в тот момент мне была дороже всего, я согласился «идти в вертухаи» и действительно два года был этим самым председателем этого самого учкома. Мы проводили какие-то там «положенные» вечера и устраивали прочие «юношеские» мероприятия, но все это было лишь расплатой за получение необходимой директрисиной подписи под завершающей строкой моих подметных писем к Киселеву, которые я по-прежнему упрямо нес на «Ленфильм»: «Сохранность и возврат материальных ценностей гарантируем». Под эти письма мы возили туда-сюда со студии на съемку и обратно имущество просто грузовиками. Других таких сумасшедших тогда в природе не существовало, мы были первые.
Одновременно я продолжал учиться не то в седьмом, не то в восьмом классе, причем для этой поры употребление слова «учился» – уже чисто абстрактная фигура речи. По-моему, я даже не знал, какие предметы мы проходим.
Леву мне тоже удалось ненадолго совратить, опутать кинематографом. Потом, очень скоро, в чем-то серьезно разочаровавшись, он покинул меня и все мои кинематографические авантюры, вернувшись в ТЮТ.
В это время я уже познакомился на «Ленфильме» с серьезными, профессиональными операторами, с хорошими взрослыми актерами. Безумный и доверчивый Киселев выделил в производственном секторе студии нам свою отдельную комнату, с правой стороны от которой располагалась группа фильма «Дама с собачкой» Хейфица, а с левой – только-только начинающаяся «Шинель», дебют режиссера Алексея Баталова, где нередко (больше было негде) ночевал приезжавший из Москвы Ролан Быков, про которого ходили слухи, что он – Гений. На двери нашей комнаты красовалась табличка «Сергей Соловьев». В самой же комнате вился немыслимый дымище – все курили, что казалось семиклассникам признаком особой приобщенности к взрослому миру творчества. Ленфильмовские службы послушно работали на нас. Так, к примеру, мы свободно пользовались для своих нужд картотекой актерского отдела. Вот в этой-то картотеке я и натолкнулся случайно на симпатичного отрока в тюбетейке, который мне показался подходящим для исполнения какой-то там неясной роли. Я вызвал его.

В качестве урока по фотографии я запечатлел Валерия Плотникова
Мальчик пришел. Без тюбетейки. Рассеянно и незаинтересованно минут десять послушал наши разговоры, которые мы вели, дымя сигаретами, потом, никому ничего не говоря, подошел к столу, взял пепельницу и молча выкинул ее с балкона куда-то в кусты студийного сада.
– Ты чего, больной? – обалдели мы.
– Искусством в дыму не занимаются…
Это был Валерий Плотников, будущий превосходный фотограф.
Тогда он учился в ленинградской СХШ при Академии художеств, где товарищем и одноклассником его, мне кажется, был Миша Шемякин. Их вместе в то лето, по-моему, выгнали из школы за «несогласие с художественными постулатами Академии».
В тот вечер мы с Валерием прошли пешком от студии до Малой Садовой, где он жил с мамой. Накрапывал дождик, асфальт блестел, начиналась осень, мы прошли через мокрый Кировский мост, еще не освещенная тогда в сумерках за Невой таилась Петропавловка. Впервые в жизни на том мосту я услышал слова «импрессионисты», Матисс, Дерен, Филонов…
С того вечера как-то стала скукоживаться и потихоньку исчезать из моей жизни кинематографическая и партийно-правительственная учкомовская самодеятельность. Все мои прежние занятия одно за другим как-то сами по себе оборвались, словно их и не было.
Благодаря Валерию я впервые оказался в Эрмитаже. Он привел меня туда и спросил: «Покажи, что тебе нравится из живописи». Я пожал плечами: «В общем, все…» Мы прошли по музею. Шли довольно быстро, как будто зная, куда идем. У одной картинки почему-то остановились. «Очень красиво», – сказал Валерий, поглядев на картинку. И повторил еще раз: «Очень». Я разглядел табличку: «Гейнсборо. Дама в голубом». Потом картинку: действительно было довольно красиво, но почему именно эта дама и именно «в голубом»? Тем не менее вопроса вслух я задавать не стал. Пошли дальше. Свернув из парадных залов, вдруг оказались на какой-то деревянной лестнице. На стенках у лестницы висели две диковинные и, на мой взгляд, вполне уродливые картинки. На больших, можно сказать, на очень больших холстах кривлялись красные, плохо нарисованные человечки. Кто-то дул в дудку, кто-то плясал без ничего. Плясали вокруг какой-то зеленой поверхности, не ясно, что именно изображающей. За ними было намазано синим небо. Валерий встал на лестнице, остановился и я. «Смотри, – сказал Валерий, – вот это уже не просто красиво. Вот это уже гениальная живопись». – «Брось, – сразу засомневался я, – чего в ней такого гениального?» – «А тебе на самом-то деле хоть что-нибудь по-настоящему из живописи нравится?» – «Да, – честно отвечал я, – „Бурлаки на Волге“». – «Еще что-нибудь?» – «Ну, я же тебе говорю – „Бурлаки“». – «Ясно», – сказал Валерий, и я понял, что всему конец, чего-то я такого не догоняю, чего не догоню уже никогда. Нужно было двигаться куда-то дальше, но Валерий никуда не шел, разглядывал картинки над лестницей. Я украдкой разглядывал Валерия: «Все-таки не может быть, чтобы он меня дурил, ну не похоже, даже по лицу не похоже, чтобы он меня дурил, но картинки-то дрянь», – я опять начинал с пристрастием разглядывать картинки. Мы стояли на лестнице, мешали двигаться людям. Нас толкали, но Валерий неумолимо пялился на картинки. «Значит, так, – решил в отчаянии я. – Если он меня не дурит, а он меня не дурит, значит, и дурить меня незачем, значит, и безо всякого дурения я и есть сам по себе просто настоящий обыкновенный дурень. Но ведь я все-таки не совсем же дурак? Поэтому сейчас ни о чем мы спорить с ним не будем, я тупо попялюсь на эту стену, сколько он захочет, потом мы уйдем вместе, и уже один я буду ходить на эту проклятую лестницу, пока эти проклятые картинки и вправду мне не понравятся». И я, действительно, года два с упорством дегенерата ходил на эту лестницу и стоял, и смотрел, и ждал. И наконец настал момент, когда я достоялся, досмотрелся, дождался. Мне вдруг как пелену сняли с глаз. Эти два великих матиссовских эрмитажных откровения – «Земной шар» и «Музыканты» – как бы вернулись во мне откуда-то из глубины собственной подкорки, преображенные: и синь, и красота поз, и зелень подлунного мира…
Одно цепляло другое, ясно было – пока не поздно, необходимо учиться. В юношеском читальном зале Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина я выписал томик недавно вышедшего эйзенштейновского «Избранного». Заглянул в оглавление, зацепился за самое чудное название: «ПРКФВ». Боже, что же это значит? Из статьи позже выяснилось: ПРКФВ обозначает аббревиатуру собственного имени Прокофьева, им самим придуманную. Прокофьева структурно раздражали гласные. Согласные были остовом мира, в том числе и музыкального. Мама моя, что же все это должно обозначать? Ну что плохого в гласных? И что такое структура? Первая же строчка этой статьи Эйзенштейна, которую я прочитал, и до сих пор гвоздями прибита к моей памяти: «Мнемоника бывает самая разнообразная, очень часто – просто ассоциативная», – эти слова я тупо перечитал раз пятнадцать и понял, что опять мне конец: я вообще ничего не понимаю, ничего не знаю – о чем речь, я вообще никогда не слышал этих слов, я вообще просто не могу понять, что эти слова обозначают. Шарики в моей голове окончательно закатывались за ролики. Очень хотелось плакать. Вместо этого я пошел листать словари. Я открыл словарь на этом слове и прочитал: «Мнемоника – способы запоминания». Поразительно! Оказывается, есть такие простые способы понять непонятное! Далее в статье про мнемонику перечислялись многие способы запоминания, что само по себе было интересно, а уже в конце: «Примеры ассоциативной мнемоники». Ну конечно же, речь у Эйзенштейна просто шла о способе запоминания посредством ассоциаций. И ничего тут страшного нет! И эта первая преодоленная мною в жизни абсолютно непонятная фраза вмиг превратила меня в любителя серьезного чтения. Я стал одним из усерднейших посетителей Салтыковки. В этом процессе разнообразного чтения я спонтанно вдруг натолкнулся на писательскую фигуру, которая с четырнадцати до восемнадцати, по-моему, лет практически безраздельно занимала все мое читательское воображение.
Это был Александр Александрович Блок и все, что с ним связано. Каким-то очень естественным, но и очень таинственным образом реальный Ленинград, в котором я жил и который к тому времени уже начал понемногу узнавать и любить особенно, фантасмагорически стал путаться у меня в сознании с блоковским Петербургом. Я заболел Блоком. По тем временам это была довольно опасная болезнь. Имя Блока употреблялось редко и неохотно: «Пил, распутничал, потом взял и написал „Двенадцать“». Новых книг – ни самого Блока, ни о нем – почти что не было. Тогда, по-моему, вышла одна из первых – «Александр Блок. Город мой», под редакцией Орлова. Я измусолил эту книгу до дыр. Самое невероятное, чем одарила меня эта книга, – это внезапное понимание того, что литература и жизнь – одно и то же. Вернее, даже по-другому: когда получается, что литература – отдельно, а жизнь – отдельно, то это и фальшивая литература, и фальшивая жизнь. Когда они одно и то же – это и есть то, что в человеческой истории называется словом «культура». Открытия совершались мной тогда невероятные. Одно из стихотворений Блока, скажем, было подписано: «Часовня на Крестовском острове». Я взял и сел на 46-й автобус и доехал до остановки «Крестовский остров». Вылез. Походил. Вижу – мама моя! – часовня. Вот тогда-то они у меня окончательно и съехались: стихи и та жизнь, откуда они.

Александр Александрович Блок
Захотелось прорваться в спецхран – своими глазами прочитать «В начале века» Белого, «Между двух революций» Георгия Иванова… Стал открываться огромный круг имен, навсегда связанных с Петербургом, и все, что я узнавал, становилось реальностью, иногда более реальной, чем любая другая реальность.
Тогда же, и опять-таки в связи с Блоком, вынырнула и въехала в сознание другая магическая фигура, вскоре занявшая в моей жизни столь же значительное место – Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Имя это в то время было пострашнее блоковского, тысячекратно запретное. Заготовив какие-то липовые бумаги, где значилось, что литература необходима мне для подготовки к вечеру «Обличение реакционных идей символизма» или чего-то подобного в этом же роде, я все же исхитрился прорваться в спецхран, где получил доступ к драгоценным выпускам «Золотого руна», «Аполлона», мейерхольдовского «Журнала Доктора Дапертутто». Многоопытные библиотекари смотрели на меня с удивлением, круг моих интересов не имел ничего общего не только с интересами моих сверстников, но и со взрослыми читателями. Может быть, еще с десяток человек в Ленинграде интересовались в те времена тем же, что я. В формулярах книг, получаемых мною, иногда стояли редкие росписи, увидев которые рядом со своими закорюками, у меня начинала кружиться голова – Ахматова, Эйхенбаум, Шкловский. Понемногу, не мытьем, так катаньем, мне удалось переместиться из юношеского зала в Большой, на площади Александрийского театра, из спецхрана – в залы для специальной научной работы, где вокруг меня, восьмиклассника, сидели убеленные сединами мужи в камилавках. Потихоньку я подружился с библиотекарями, стали пускать меня в Зал эстампов, где доставали мне бесценную и напрочь запрещенную литературу по мировой живописи. Там я впервые увидел Сутина, Ларионова, Модильяни, Шагала…

Всеволод Эмильевич Мейерхольд
В русской живописи мы с Валерием помешались на Врубеле. Множество часов мы провели во врубелевском зале Русского музея. Старинный том Яремича «Михаил Врубель», который где-то достал Валерий, был бесценным нашим общим имуществом. Я заинтересовался историей врубелевских «Демонов», что стало одним из дополнительных стимулов к новому необыкновенному увлечению: хождению по книжным магазинам, в основном по магазинам антикварных, старых книг. Наверное, для тогдашних букинистов я тоже выглядел как явление вполне аномальное – во всяком случае, через какое-то недолгое количество времени они все прекрасно меня знали, стали оставлять мне книги, которые в те времена им вообще строжайше было запрещено принимать к продаже. Помню, как Нина Ивановна из «Академкниги» завела меня в подсобную комнатку и показала шесть томиков Гумилева.
– Нет, это, конечно, не вам. Даже и не думайте ни о чем таком. Просто здесь, в каптерке, полистайте. Я уже созвонилась с Симоновым, он специально приедет из Москвы за этими книжками. А вот это можете приобрести – волковский академический двухтомник «Мейерхольд». Но он дорогой, двенадцать пятьдесят…
По тем временам это была очень серьезная сумма.
В это время Хрущев издал мрачный указ, чтобы в творческие вузы принимали только «людей с жизненным опытом», и установил для приобретения этого опыта точный срок, как в тюрьме – трудовой стаж в два года. Чтобы заиметь этот самый «стаж», а заодно и какие-то деньги на необходимые книги, я ушел из школы, поступил в вечернюю и пошел работать. Незабвенный Алексей Александрович Рессер устроил меня на телевидение. Меня взяли рабочим в редакцию обмена, где в обязанности мои входило возить на вокзал или в аэропорт и отправлять по накладным невероятное множество тяжелейших коробок с кинопленкой. Никаких других способов коммуникации между разными телевизионными студиями тогда не существовало. Каждое утро к неотопляемой жуткой сторожке, стоящей на пустыре, подгоняли грузовик, и я в одиночку кидал в его кузов яуфы с упакованной уже мной в них пленкой. Бесконечное оформление каких-то накладных, чековые книжки, по которым я платил за груз, обрывки проволоки, на которые я насаживал пачкающиеся черные блямбы пломб. Мама все время боялась, что меня посадят, потому что в моем распоряжении была чековая книжка, где я расписывался за немыслимые суммы. В это время я чуть было не возненавидел навсегда кинематограф – два года он представлялся мне только в виде бесконечных коробок, коробок, коробок, которые я таскал, комплектовал, сопровождал бумагой о комплектности, которую надо было завизировать, заверять печатью, яуфы надо было запломбировать, погрузить на машину, везти на отправку. На этом безумном таскании я чуть было окончательно не подорвал все свое здоровье, только-только так удачно восстановленное Артеком.

Михаил Александрович Врубель
Но одновременно к семнадцати годам дома у меня собралась роскошная библиотека. К примеру, я собрал все мейерхольдовские «Журналы Доктора Дапертутто», начиная с двенадцатого года и кончая последним выпуском в феврале семнадцатого. Это было чудом из чудес, полный «Дапертутто» вроде бы был только в Бахрушинском музее. Тогда же я стал покупать авторов ОПОЯЗа – Эйхенбаума, Шкловского, Тынянова. Я не просто собирал, я все это читал. Причем читал так, чтобы не оставить ни строки непонятой.
Я собрал редчайшие издания: у меня были посмертные рукописные сборники стихов Хлебникова – один своей рукой переписал Маяковский, другой – Пастернак, третий – Сельвинский. Этим раритетам сейчас цены нет, их выставляют и продают за бешеные деньги на аукционах «Сотби».
Поступив во ВГИК, я привез в Москву папку с четырьмя бутербродами и двумя парами носков и чемодан лучших, самых любимых моих книг. Весь этот чемодан был за один год пропит с Катей Васильевой и Эдиком Володарским. Весь чемодан! Такой силы был шок от перемены культуры ленинградской на культуру московскую.
Спустил книги я бездарно, за бесценок. Мы приходили в букинистический магазин, расположенный на втором этаже «Метрополя», в размышлении немедленно достать денег «на бутылку», букинист брал в руки Пастернака издания 1937 года, смотрел номинал и нагло говорил: «Три рубля пятнадцать копеек». Как я их всех ненавидел! Они не понимали, что я знаю настоящую цену каждой из этих книг (в том числе и в денежном выражении) лучше их всех. Я знал, что стоит эта книга впятеро больше, но от отчаяния говорил: «Вали! Давай!» Все было пропито. Весь чемодан. И даже сам чемодан куда-то бесследно исчез.
С какой горечью всю жизнь я вспоминаю благороднейших ленинградских букинистов! Уже учась во ВГИКе, я приехал к маме в Ленинград, зашел в букинистический магазин, вижу – нет Нины Ивановны, нет Алика (это был ее ученик, парень старше меня, может быть, лет на десять).
Спрашиваю: «Где Нина Ивановна? Где Алик?» В ответ: «Тсс!.. Тише!.. Алика посадили. За спекуляцию!» Я был потрясен, словно потерял близкого, родного мне человека.
В 1987 году я шел по Бродвею и вдруг увидел человека со страшно знакомым мне лицом. Конечно же, я его знаю! Откуда я его знаю?.. Это же Алик! Я остановил его, мы поговорили. Он отсидел срок, теперь вот здесь.
– Чем ты занимаешься?
– Да тем же самым.
Он пригласил меня к себе домой, я попал в квартиру, доверху набитую петербургскими книгами…
А тогда, еще задолго до поступления во ВГИК, мое увлечение книгами становилось все более и более серьезным. Я открывал для себя Пастернака, Мандельштама, импрессионистов, постимпрессионистов, мастеров Раннего Возрождения… Появились и первые книги по кино. Самой первой из них стали «Размышления о киноискусстве» Рене Клера (мы купили ее на пару с Валерой Плотниковым, скинувшись по тридцать пять копеек), потом появилось гэдээровское издание «60 лет кино», сохранившееся у меня и по сей день, потом книги Кулешова…
Летом 1960 года Валера Плотников устроился в пионерский лагерь вожатым: он был из малообеспеченной семьи, ему надо было зарабатывать деньги. Я поехал навестить его в этот самый лагерь, располагавшийся в Зеленогорске.
Мы побродили по лагерю, в сумерках, уже после отбоя, погоняли мяч на огромном пустом футбольном поле, он проводил меня до платформы. В вагоне электрички было пусто, я тогда стоял в тамбуре, смотрел сквозь незастекленное окно (стекла почему-то вынимали на лето для вентиляции) на белую ночь, на повисший туман и тонкий серп народившегося месяца, на густую, душную врубелевскую сирень, проплывавшую мимо меня. От нее в пустую дыру окон движущейся электрички все-таки доходил одуряющий аромат. Мне было уже шестнадцать. В этот момент я почувствовал: все, детство кончилось. Взрослая жизнь уже началась.
ЭКЗАМЕНЫ
В жизни каждого есть события или даты, определяющие всю жизнь. Одну из них я уже называл – встреча с фильмом «Летят журавли». Ну а другой такой решающей для моей личной судьбы датой был 1962 год, когда Михаил Ильич Ромм взял меня учиться к себе в режиссерскую мастерскую. Если бы тогда этого не случилось, кто знает, как бы все оно дальше произошло.
Как раз в это время появилось указание Хрущева принимать в вузы людей с «жизненным опытом», после которого шансы мои на поступление стали практически нулевыми. Правда, трудовой стаж у меня был: я работал на Ленинградском телевидении подсобным рабочим.
Телевидение тогда снимало фильм о Григории Михайловиче Козинцеве, человеке и режиссере, как мне кажется, масштаба огромного – «СВД» и «Новый Вавилон» до сих пор остаются великими кинематографическими шедеврами, а оператор Андрей Николаевич Москвин, их снявший, как и еще многие замечательные картины, – и на сегодня был и остается одним из подлинных гениев отечественного кинематографа.








