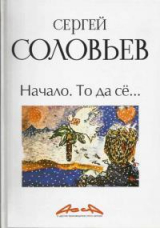
Текст книги "Начало. То да сё…"
Автор книги: Сергей Соловьёв
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
– Отец слышит?
– Да, отец. И он мне кричит: «Какого же хера ты тут стоишь? Она ж без ног!» А я говорю: «А что я могу сделать?» И тут как рвануло в последний раз, уже окончательно, это разлетелся на куски центральный аппарат (я как в воду смотрел: он был в рабочем режиме), и тут же замер на полуслове последний шопеновский звук. И только в воздухе пролетело над нами что-то голубое, прозрачное, и все унесло ветром…
– И дальше что?
– Что дальше? Все. Больше я там никогда не был.
На этом месте я, обессилев, упал в лужу. Гена медленно опустился в лужу рядом. Мы оба плакали, растирая кулаками по щекам грязные слезы. Дальше он от хохота уже не мог рассказывать, я не смог слушать, но и в последующем, как только нам становилось совсем хреново, мы много-много раз возвращались к теме пожарника. Это и в самом деле превратилось в любимую нашу тему, можно сказать, в лирико-драматическую мечту.
– Слушай, а может быть, все-таки сделать фильм про пожарника? – время от времени с надеждой повторяли мы друг другу.
Думаю, это на самом деле замечательный сюжет, и, может быть, следующее поколение, которое идет за нами и которое, верю, если и не будет лучше нас, то хотя бы – не хуже, пусть оно наконец придет и попробует совладать с этим великолепным артистическим сюжетом.
Гена был по-настоящему веселый человек. С годами выясняется, что он был и исключительно умный. Это несмотря на то, что считали его скорее придурковатым, нежели сильно интеллектуальным. А придурковатость Генина исходила от его не просто хорошего, но, думаю, даже от безупречного вкуса. И вот при всей его так называемой придурковатости Гена вдруг начинал отстаивать некоторые даже отвлеченные интеллектуальности. Вдруг, например, начинал пугать или Алика Бойма, или Княжинского, когда Финна, когда Мишу Ромадина:
– Ребята, берегитесь, вас погубит Запад…
Гена, уж извините меня за столь определенное и даже, в некотором смысле, безвкусное выражение, всегда был патриотом. Он как-то чувственно – нюхом, слухом, пупом, ладонями – понимал, что такое Россия, Родина. Понимал это и любил. Прекрасно знал, к примеру, что такое война 1812 года, что такое, скажем, были молодые русские генералы в ту войну. Он очень серьезно, трогательно и целомудренно ко всему этому относился.
Умен был Гена хотя бы только потому, что терпеть не мог ничего мозгляческого, так называемого интеллектуального. Его всегда коробила натужная авторская серьезность: «А какую, собственно, мысль мы хотим донести до зрителя своим художественным произведением?» Да никакую…
Всей своей жизнью и всеми своими стихами Гена упрямо доказывал, что никакой иной мысли, кроме мысли о «прекрасности жизни» в искусстве, не было и нет. Все остальные мысли на любой вкус изложены в умных книжках, напечатаны в газетах. Гена же, как мне кажется, был гений замысла без смысла. Замысла как жизненного озарения.
Погибал Гена медленно. Вместе со временем шестидесятых, духом, энергией и воплощением которых был он сам. Грузнело его время, грузнел Гена, плохо работали почки, иногда жаловался на сердце, отек. Приятели-циркачи ездили в зарубежные гастроли, везли оттуда фирменные шмотки, приторговывали, строили кооперативы. «У Пушкина» толкались фарцовщики, в ресторане ВТО «Цинандали» давали теплым, скатерти поснимали, разговоры переменились: «ставка, халтура, инфаркт»… Гена пил водку, дома не уживался, бродил сначала по друзьям, потом просто по городу: с похмелья обожал читать расклеенные по стендам газеты. Прочитывал любые, от строки до строки. Еще писал стихи, которые становились лучше и лучше с каждым днем. Сочинял их в основном в почтовых отделениях: почти все стихи этих лет написаны казенной почтовой «вставочкой» на зеленоватых оборотах телеграфных бланков. На этих же бланках он иногда писал письма на студию или друзьям. Письма в основном были про жилье и про деньги.
Сначала все мы помогали, как могли. Потом помогать стали меньше. Судить никого не стану – знаю, в быту Гена был невыносимым, иногда даже страшным. Ходил он теперь в кожаной куртке, белый плащ то ли потерял, то ли продал, шарф остался. Сценарные договора внезапно кончились. Точнее, даже не так: договор иногда все-таки заключали, но обе «юридические стороны» знали – фильма не будет. И не потому, разумеется, что Шпаликов не сможет написать заказанного сценария, а потому, что чем лучше и сердечнее он его напишет, тем меньше он будет нужен студии. Получалось, подкармливали его авансами. Такие вот метаморфозы творились с временами.
Лень платформ и деревень,
Пива мартовская лень.
Приподнять и опустить,
Свет вечерний пропустить.
После долгого перерыва мы с Геной встретились случайно – не то на бульваре, не то на набережной. Гена сидел на лавочке, жевал краюху черного хлеба, заедал зеленым луком. Говорил: «Весна. Это полезно». Еще говорил, что фал, которым космонавт соединен с кораблем, напоминает пуповину… Потом предложил поехать с ним куда-то, записаться в секцию прыжков с парашютом: «Я давно хочу, но одному прыгать скучно. А никаких особенных документов туда не надо. Главное, срочно сдать на анализ кровь и мочу».
– Давай сценарий напишем, – со своей стороны предложил я.
– Давай, – легко согласился он, – сценарий будет называться «Все наши дни рождения», а фильм начнем с гениальной песни. Слушай, я ее. недавно сочинил.
И Гена запел песню, отбивая такт стоптанным скороходовским башмаком по асфальту: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…» И дальше все стихотворение до конца, довольно мелодично и красиво.
– Это не ты сочинил, Гена, – выслушав, тупо опроверг я.
– А кто ж, по-твоему?
– Ахматова.
– Ахматова сочинила стихи, а песню я, но если тебе не нравится, бог с тобой, фильм мы начнем другой песней: «Там за рекою, там за голубою, может, за Окою, дерево рябое…»
Стали соображать, где найти место для работы.
– Нужно в темпе «намолотить» заявку, – предложил Гена, – получим аванс, возьмем купе СВ «Москва – Владивосток» туда и обратно. Представляешь? Постукивают колеса, мы едем, беседуем. Спешить некуда, ночевать есть где: белые простыни, чай из подстаканника… Мы глядим в окно: лес, поле, река… Ждем станции, покупаем ягоды в мокром кульке, горячую картошку. Впереди нас ждет Тихий океан. Вылезаем. Мочим в океане ноги. Потом назад. Потом вылезаем уже в Москве и прямо с вокзала – на студию. Сценарий на стол – держите. Это даже лучше парашюта.
Мы и вправду «молотим» заявку, получаем аванс, но никуда не едем: авансом гасим горящие Генины долги. Но писать все-таки надо. После аванса особенно. Скажут: «Гоните аванс назад» – где деньги брать?
– Давай я буду как Дюма-пер? – предательски предлагает Гена.
– Что-то такое уже было у Ильфа и Петрова, – упираюсь я.
– Нет, правда, – не унимается Гена, – ты пиши, а я в конце поправлю своим гениальным пером. Давай я тебе для начала напишу чего-нибудь, какой-нибудь кусок, для затравки…
Сюжет в наших головах примерно уже маячил, Гена отвел меня на почту и там сразу и без помарок написал эпизод.
– Нравится? Примерно этого и держись. У тебя должны быть способности. О тебе хорошо отзываются…
– А ты?
– Я заканчиваю роман, но в нашей работе буду участвовать активно. Стану писать тебе письма…
Что было делать? Я сел писать в одиночку. Сочинял поначалу с единственной целью как-нибудь попасть в Генин писательский лад. Временами, мне кажется, это удавалось, что было для меня своеобразной стилистической школой. Временами и сама история увлекала меня, и тогда я про имитацию забывал, писал от себя. Гена вправду присылал письма: цвет телеграфных бланков изменился, были они теперь грязно-голубоватыми. Письма он писал мне из какого-то горнолыжного пансионата, где непонятно для самого себя почему-то очутился. Письма были иногда смурные до такой степени, что невозможно что-либо разобрать, иногда вдруг умные, ясные, четкие, со сценами, диалогами, неожиданными ходами. Ближе к весне появился в Москве и он сам. Под мышкой – пухлая правленая машинописная рукопись. Очень толстая, как мне, во всяком случае, показалось – таких до той поры я у него не видел.
– Роман, – пояснил Гена. – Называется «Три Марины». Героини – Марина Цветаева, Марина Освальд и просто обыкновенная Марина. Часть действия происходит на том свете. Там Ахматова с Мавзолея приветствует праздничную демонстрацию, представляешь? Лозунги по радио кричат: «Кто чего боится, то с тем и случится! Поэтому бояться ничего не надо!» Роман гениальный!
Сели читать. Он сценарий, я – роман. О романе сейчас уже чего говорить: половины я тогда и не понял, многое казалось невероятно странным, иногда и вовсе смахивало на бред, но были и множество страниц ослепительно прекрасной русской прозы. Гене сценарий в общем тоже понравился.
– Если бы я был Артуром Миллером, я бы взял тебя старшим негром, – похвалил меня Гена. – Теперь мы вместе его слегка проконопатим…
Мы его «доконопатили». «Доконопачивая» – то радовались, как дети, то, переживая за героев, печалились и восторгались ими до настоящих слез. Это тоже сейчас вспоминать даже странно, но что же тут поделаешь – такие были времена. В историю эту мы очень верили, понимали, что она «наша», живая, ни на чью не похожая. Позвонили Смоктуновскому, на которого, «доконопачивая», скорректировали главную роль. Обдумывали натуру: как поедем ее искать, как хорошо, по-человечески будем жить, снимая. Перепечатав сценарий, оба поцеловали титульный лист первого экземпляра, а потом друг друга.
Вольным – вольная воля,
Ни о чем не грущу.
Вздохом в чистое поле
Я себя отпущу.
Но откуда на сердце
Вдруг такая тоска?
Жизнь уходит сквозь пальцы
Желтой горстью песка.
На этом радости наши кончились. Сценарий начали листать редакторы, начальники. Изумлялись, пожимали плечами, крутили пальцем у виска:
– Рехнулись? Получается, что только на войне советский человек был счастлив?
Тут настала очередь изумляться нам – это какое же изувеченное сознание нужно иметь, чтобы такое в нашем сценарии вычитать?
– Нет, – брали мы себя в руки. – Это вовсе не о том, это о человеческих чувствах. Сценарий про то, что любовью не только выигрывают войны, но ею вообще держится мир. Без нее человеку нельзя!..
Мы все это кричали им, убеждали, унижались. На нас глядели глаза тех, от кого зависела постановка, и мы понимали, что волнуемся зря: безо всякой любви жить вполне было можно и даже лучше.
– Я удушу кого-нибудь, – не выдержал Гена. – Ты молодой, у тебя нервы крепче, если можешь, бейся дальше. Я ухожу. Вообще из кино к черту ухожу. Я писатель. У меня есть документ и роман. Я пойду к Твардовскому…
Гена вытащил из ботинок шнурки, связал их узлом в довольно длинную бечеву, крест-накрест перевязал рукопись в газетной обертке, ушел в «Новый мир». Я простодушно продолжал «битву»:
– Послушайте, это же очень лирично, и Смоктуновский давно не снимался, потом летчицы, знаменитые «ночные ведьмы», массовый женский героизм…
Где смеялись, где сердились, из какого-то кабинета даже выгнали. Глядя на меня, многие сокрушались:
– Странно, ты не производил впечатления идиота…
Вернулся из «Нового мира» Гена: Твардовский роман прочитал, велел выплатить Гене аванс, чего в своем журнале, известно, он делать не любил, но сказал, что печатать этого нельзя «ни под каким видом». Что было делать? Я подрядился сочинять халтуру про пионеров для объединения «Юность» под названием «Сто дней после детства», Гена не решил ничего. Одолжив у кого-то денег, мы опять пошли с ним на почту, где Гена отдал рукопись, перевязанную шнурками в бандероль, написал адрес: «Швеция, Стокгольм, Нобелевский комитет…» И обратный: «Москва, К-9, Центральный телеграф. До востребования Шпаликову Г. Ф.». Мы простились.
Через какое-то время я вдруг услышал, что будто бы Гена «подрядился» работать с Бондарчуком. Я и удивился, и возревновал одновременно. Не мог сразу понять, что их объединяло? По-настоящему я понял это недавно, много позже Гениного конца. Мы с Сергеем Федоровичем Бондарчуком случайно, по скорбной причине смерти Федерико Феллини, общались в Италии. Я слышал, что и сам Бондарчук будто бы болен. Незадолго до нашей римской встречи Бондарчука от чего-то лечили в Швейцарии. Здесь он предложил: «Давай помянем Феллини, а заодно и поставим мой желудок на пробу. Залечили они мне его или не залечили?» Мы купили пол-литру, сели пробовать залеченный бондарчуковский желудок. Проба прошла успешно. Молчаливый Бондарчук вдруг разговорился. Как об одной из самых дорогих вещей в своей жизни, он вдруг вспомнил о действительно гениальном замысле Гены, который был даже уже и воплощен в сценарии «Декабристы». Когда Бондарчук закончил «Войну и мир», перед ним, как понимаете, открывалось огромное количество перспективнейших путей в кинематографе. Гена предложил гениальный сюжет: дети героев «Войны и мира» попадают в эпоху декабристов, в страшное петербургское наводнение… Сценарий Шпаликова, прочитанный мною гораздо позже, был настолько умен и прекрасен, что никаких отдельных «умных мыслей» о судьбе нашей Родины в нем и не надо было искать. Силен он был своей необыкновенной природной чувственной правдой, пониманием прекрасного в изображаемом, которое и есть само величие искусства.

Гена Шпаликов потом
А как нежно, преданно и даже трогательно, относился к Гене сердитый и недоверчивый к людям Андрей Тарковский? Казалось бы, ну что у них общего? Один – полон сложных концепций, философичности, серьезной сосредоточенности, другой – полубомж, сочиняющий малоосмысленные стихи. Но Андрей относился к этому «полубомжу» с абсолютно братской нежностью. Он словно бы чувствовал в нем тот живой исток, тот чувственный родник, что и ему, Андрею, некогда дал жизнь.
Когда-то была такая красивая формулировка, принадлежащая, кажется, Пастернаку: «Пушкин построил здание русской поэзии, Лермонтов был первым в нем жильцом». Я думаю, что Гена построил для нас здание нового и новейшего русского кинематографа. В «коммуналке» этой были мы все первыми и, увы, может быть, единственными жильцами. Еще Гена научил нас ощущать и ценить воздух, который образуется над нашими словами, над нашими фильмами. Научил щедрости дыхания. Наслаждаться этой прекрасной воздушной средой России второй половины XX века могли и люди, близкие ему по своей эстетике, и люди, совсем далекие от нее. Но это все был озон. Наш озон нашей России. Он не ворованный.
Я думаю, что даже хорошо, что Гену мало или, можно сказать, вообще не знают на Западе. Скажешь там «Шпаликов», никто даже не поймет, о ком речь. Хорошо, что у нас есть такие тайны. Общие тайны. По ним мы всегда отличим друг друга в толпе чужих людей и иноземцев. Гена – это то, что мы понимаем с полуслова. Это и наш сегодняшний воздух. И его состав. То, чем мы дышим, пока живы. Главное Генино чудо даже и не в самих его сценариях, стихах, пьесах и фильмах, оно – в природном даре воспроизвести эту изумительную консистенцию русского воздуха, которым дышать – не надышаться.
А после той романно-нобелевской разлуки увиделись мы с Геной только через несколько лет на Новодевичьем кладбище. Открывали надгробие Михаилу Ильичу Ромму, которого мы оба любили. Речи говорили официальные лица. Поскольку история со «Ста днями» внезапно закончилась Государственной премией, разрешили что-то сказать и мне. Слова просил и Гена, но ему отказали: «Записалось много желающих, а на улице холод…» Было начало ноября. Действительно, над кладбищем летал легкий снежок. С кладбища возвращались с Геной вместе, разглядывали памятники. Гена вдруг рассмеялся:
– Гляди: заслуженный работник, главный механик, народный артист – смешно…
– Что смешно?
– Но это же в жизни они были заслуженные и главные, а здесь совсем другое – жили люди и умерли. Вот и все…
Все та же кожаная куртка, немного постарел. Шея обмотана все тем же синим шарфом, который через три дня в Переделкине, в писательском Доме творчества, сыграл последнюю роковую роль в его судьбе…
БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ
Когда еще только возникла мысль о постановке Булычова, первым, естественно, встал вопрос: «Кто будет его играть?» Тогда на памяти у всех был «Председатель», в котором Ульянов произвел впечатление чрезвычайное. Был он в расцвете сил, здоровья; герой его поражал мощью – сажень в плечах, всепобедительная энергия, способная преодолеть все. Казалось бы, какое все это имеет отношение к человеку, стоящему на пороге смерти? Ну а вот с этим здоровьем, энергией, силой, талантом как страшно, наверное, умирать. Мысль об Ульянове-Булычове укоренилась прочно, я встретился с актером, предложил ему роль. «Когда проба?» – спросил он. «Проб не будет». На этом мы на время расстались, поскольку мне предстояло сделать сценарий, а писался он трудно, долго – семь месяцев или даже более того. Ульянов за это время закончил съемки в «Братьях Карамазовых», потом, после смерти Пырьева, доснял как режиссер вместе с Лавровым третью серию; тогда уже было известно, что он хочет самостоятельно поставить фильм.
На студии на меня уже махнули рукой, думали, что битва с пьесой окончится ничем. Но я все-таки принес сценарий: Арнштаму он понравился, Ульянову – тоже. Сценарий пошел на утверждение в Госкино. Дальнейшее рассказали мне много позже, Ульянов по этому поводу так и не проронил ни слова. Вместо обсуждения сценария его вызвал Баскаков.
– Слушайте, – сказал он, – а кто этот Соловьев? Зачем он вам? Вы хотите Булычова? Хотите поставить фильм? Прекрасно. Делайте сценарий, ставьте «Булычова».
На что Ульянов ответил:
– Если эта картина будет, то с Соловьевым. А не будет Соловьева – не будет и картины.
С чем и удалился. Это к вопросу о профессиональной этике. И о человеческих качествах кинематографиста. Убежден, они имеют самое прямое отношение ко всему, что Ульянов делал в искусстве.
Еще в начале нашей работы Ульянов предупредил, что работает над гримом серьезно и долго. Это привело меня в состояние замешательства. Не мог же я сказать актеру, что главное для себя я уже решил и никак иначе, чем придумано, выглядеть Булычов не может – это просто исключено. Потому что тогда все должно быть иным – и декорация, и сценарий. Ведь и внешность героя была для меня одним из тех исходных толчков, от которых раскручивалось все остальное. Характер ее подсказало мне сходство актера сразу и с автопортретом Гогена, и с автопортретом Ван-Гога, где тот изобразил себя с отрезанным ухом. Мне хотелось, чтобы уже во внешнем облике сквозили и бездомность, и сила, и тот ужас, при котором уши себе режут. Я был уверен, что это единственно возможный грим, настолько, что сразу дал распоряжение шить монтюр – точнее, три стриженных коротким ежиком монтюра: один – рыжий, второй – рыжий с проседью, третий – совсем седой.
В гримерной Ульянов пробовал то одни усы, то другие, а я внутренне холодел. «Что, если какие-нибудь из них ему вдруг понравятся? Как мне тогда объяснить ему, что для этой картины нужно другое?» Воспользовавшись какой-то возникшей у гримеров паузой, я опасливо предложил: «Михаил Александрович, я тут приготовил один вариант булычовского грима. Может быть, попробуем?» – «Давайте», – охотно согласился Ульянов. Время тянулось нестерпимо долго. Пока на него надевали арестантский стриженый монтюр, потом усы, потом бороду, потом костюм, у меня обмирала душа – получалось именно то, что я хотел. Ульянов встал, посмотрел в зеркало, сказал: «Мне нравится».
С этого момента у нас с ним началась не только нормальная, серьезная работа, но и нормальные, серьезные человеческие отношения, основанные на уважении друг к другу. А уважение всегда предполагает отсутствие мелочных амбиций, копеечной и стыдной борьбы самолюбий. Ульянов всегда для меня был и останется превосходным мастером. Именно поэтому было совершенно невозможно эксплуатировать его мастерство. Только товарищество равных – и ему на вершине Олимпа, и мне у его подножия – было полезным и нужным. Это поняли мы сразу, и это, наверное, сделало радостной трудную нашу работу; это же, смею надеяться, и по-человечески крепко и всерьез нас сдружило.
Я всегда буду благодарен Ульянову за подлинно творческий труд, беззаветно вложенный им в роль. Нам было интересно работать вместе – ему, признанному, увенчанному лаврами мастеру, и мне, тогда еще совсем мальчишке. Наверное, потому, что ни у него, ни у меня не было никакой предвзятости. В эту работу мы вступили с одинаковым любопытством и осторожностью – так, как входят в лабиринт. Для меня всегда будет свидетельством его великого профессионализма и актерского такта та бережность, с которой он шел по этому лабиринту, не пытаясь спрямить себе путь, сломать перегородки. Он хотел разгадать эти запутанные ходы человеческой души, выйти на брезживший впереди свет.
К моменту сдачи картины в мосфильмовском объединении «Луч» сложился довольно хороший, доброжелательный, даже интеллигентный худсовет. Руководил им, естественно, Лев Оскарович, которому «Егор Булычов» нравился, и он очень за него переживал – так, словно сам его снял. Помимо матерщинника-музыковеда Бориса Григорьевича Кремнева в тот же худсовет входили еще и Майя Туровская, Бен Сарнов и подвизавшийся в ту пору на правах юного коллеги Валя Толстых. Из режиссеров были там Эльдар Рязанов, Самсон Самсонов, Константин Воинов, Леонид Гайдай (режиссура в худсовете почему-то имела уклон в комедийную сторону).
Картина моя на всех, я видел это по выражению лиц, произвела странно-двойственное впечатление. С одной стороны, она чем-то им и понравилась, с другой – раздражала. В ней все было как бы неправильно: выбор актеров, костюмы, гримы – все было не так, «не Горький». Думаю, именно этой неправильностью картина и нравилась. Казалось же, напротив, картина нравится не благодаря своим неправильностям, а вопреки им. Все поругивали частности, но соглашались, что, как ни странно, картина производит какое-то запоминающееся впечатление, хотя, конечно, это никакой не народный горьковский характер и вообще все в ней как-то не так.

С Михаилом Александровичем Ульяновым. «Егор Булычов»
К тому времени я уже насобачился пусть и на уровне всего лишь худсовета, но не оставаться покорно покусанным. На каждые пять слов я готов был ответить ста пятьюдесятью и любовно разложить по мясистым мозговым косточкам любых своих маститых оппонентов. Когда члены худсовета уклончиво высказались, я им ответил горячей прямой речью, достойной быть произнесенной на процессе Дрейфуса, после чего вся мыслящая Россия, содрогнувшись от вида голой истины, уже не усомнилась бы в том, что прав именно я. Вроде как словесную баталию я выиграл и на том мог бы и успокоиться. Но не тут-то было. По тем временам тираж картины, ее прокатную судьбу и вообще судьбу автора на ближайшие годы определяли газетные рецензии. Если выступала «Правда», решение было окончательным, обжалованию не подлежащим; если другие органы, то вроде можно было бы апеллировать в какие-то высшие инстанции, но все равно рецензия имела характер предварительного публичного судебного приговора. Это и формировало бабье сознание критики, которая в подавляющей своей части ощущала себя либо карательной, либо ласкающей, но всегда приговорной частью системы. «Дам, не дам». Авторы рецензий становились как бы одиночными, но полномочными членами сталинских «троек», они могли, конечно, подписываться своими фамилиями, но могли бы и одной общей – киноведческий Ульрих. В своих нехитрых, часто довольно безграмотных ульриховских заключениях они определяли и состав преступления, и меру ответственности, и срок, а также с правом ли переписки или без.
Я поделился со Львом Оскаровичем своими ощущениями после худсовета.
– Вот если бы ты в прессе всех переорал!.. Сейчас важно, как пресса на все это безобразие прореагирует. Тебе самому выступать в печати нельзя. Нужно, чтобы кто-то другой где-нибудь в хорошем месте что-то толковое написал. Ты себе не представляешь, как это важно! Я даже думаю по этому вопросу обратиться к одному моему старому знакомому. Можно даже сказать, приятелю и другу…
При этом физиономия Льва Оскаровича как-то странно скривилась, словно он внезапно сглотнул муху.
– Что за друг такой? – удивился я.
– Друг он, друг… близкий друг… Очень интеллигентный человек, очень начитанный…
Чем больше я слышал похвал, тем больше создавалось впечатление, что он высасывает пятак – так его всего корежило.
– Он очень интеллигентный человек, но какой-то неуправляемый, неверный…
– Может, тогда ну его подальше?
– Да нет. Я все-таки позвоню.
– А кто это?
– Женя Сурков.
Евгений Данилович Сурков был в ту пору главным редактором «Искусства кино». На этом посту он сменил Людмилу Павловну Погожеву, не устраивавшую партийное начальство своим излишним либерализмом: решено было укрепить верховный теоретический киноорган проверенными кадрами, бросить на его руководство «золотое перо» партии – Евгения Даниловича.
– Да на хрен он нужен, Лев Оскарович!
– Э-э, ты не понимаешь. Если бы сам Женя написал! Или хотя бы у него в журнале рецензия появилась. На него очень хорошо смотрят в Госкино, он сам член коллегии… Это страшно важно! Нужно показать ему картину.
– Не надо, Лев Оскарович. Я читал его писания. Зачем рисковать? Он же действительно ненадежный человек. Напишет какую-нибудь гадость.
– Нет, ты не знаешь. Он человек непростой. Он дружен с Козинцевым, а с Гришей дружить непросто. С Андреем Тарковским очень дружен, близко дружен.
– Странно!
– Да. Очень странный человек. Когда он напишет какую-нибудь, как ты говоришь, гадость, то тут же извлекает из сейфа подлинное письмо Пастернака, где тот ему, для примера, пишет: «Дорогой Женя! Вчера опять читал вашу статью о Шекспире. Боже, как это воздушно и прекрасно! Какое ж у вас, дорогой мой, чудесное, золотое сердце и какая ясная, светлая голова! Берегите то и другое. Всегда ваш – Боря».
– Бросьте!
– Точно! Сам видел. И в письме еще какой-нибудь засушенный цветочек. Вот видишь, ты говоришь «гадость», а Борис Леонидович – «чудесное, золотое сердце».
У Суркова был суровый профиль римского патриция, весь он был величественно строг, на двери его кабинета висела не просто табличка «главный редактор», а – видел своими глазами – «Член коллегии Государственного комитета по кинематографии СССР, главный редактор журнала „Искусство кино“». Он был человек государственный. Правда, говорили, он страдает депрессиями и в этих случаях, приходя на работу, залезает под стол и не вылезает, даже когда заходят сотрудники. Никто не понимает, куда он делся. Однажды он вдруг выскочил из-под стола (отчего всем стало ведомо место его сокрытия), укусил секретаршу за ногу и опять скрылся. Но когда депрессии проходили, он снова водружал себя в государственное кресло, снова дружил с Козинцевым, с Тарковским, снова листал письма Пастернака с засушенными цветами.
Мы позвали Евгения Даниловича. Картину он смотрел с непроницаемым выражением лица, не шевельнув ни единым мускулом чеканного римского профиля. Арнштам волновался так, будто сдавал экзамен в консерваторию, чуть в обморок не падал, пытаясь хоть что-то разглядеть на исполненном государственного величия профиле. Не тут-то было! Когда зажегся свет, Сурков сказал, что картина производит неоднозначное впечатление. Она безусловно талантлива, говорит об авторе как о талантливом человеке, в ней много по-настоящему состоявшегося и интересного, но столько же и неудачного, и несостоявшегося, и неинтересного. Желая молодому автору счастливого будущего, он как главный редактор и член коллегии Госкино СССР считает, что журнал должен выступить со взвешенной оценкой.
– Женя, а как ты взвешивать-то это будешь? – в ужасе выговорил Арнштам.
Они ушли, о чем-то разговаривая. Арнштам махал в воздухе руками, что случалось с ним чрезвычайно редко. Сурков шествовал с большим достоинством, благосклонно выслушивая собеседника, в чем-то его убеждавшего. Вернувшись, Лев Оскарович сказал, что, как он понял из разговора со своим другом, взвешенная оценка будет заключаться в том, что одновременно напечатают две рецензии – одну положительную, другую – отрицательную. Положительную рецензию Сурков заказывает Майе Туровской, которую я бесконечно уважал и поныне считаю одним из самых тонких, умных, прекраснейших наших критиков, а книги ее – замечательными литературными произведениями, имеющими самостоятельную и, не сомневаюсь, долгую судьбу вне всякого кинематографического процесса. А вот рецензия, которая вскроет все мои недостатки, будет заказана Бялику.
Тогда как бы негласно было установлено, что после смерти какого-то выдающегося писателя или художника интересы его на этом свете продолжал охранять кто-то из критиков или литературоведов. Кто их на этот пост назначал, не ведомо никому, но все знали, что с того момента, как аукнулся Алексей Максимович, все его интересы – идейные, гуманитарные, литературные, разве что за исключением финансовых, – представляет Бялик. Я, конечно, воображал, что понапишет загробный Бялик о картине, изначальной задачей которой было снять толстовскую «Смерть Ивана Ильича», написанную рукой Антона Павловича Чехова. Но потом мне подумалось, что это, может, и к лучшему. Пусть Бялик пишет, что ему вздумается, прогрессивная Майя Туровская ему тут же ответит, а на чьей стороне будет любой нормальный читатель, не оставляло сомнений.
Месяца через полтора – видимо, Сурков как-то форсировал издательский цикл – вдруг выходит новый номер «Искусства кино», и зеленого цвета Лев Оскарович мне его приносит.
– Лев Оскарович, что случилось? Не приведи Господь, чего-нибудь дома!..
– Хуже. Женя засбоил.
– Как засбоил?
– Засбоил по-страшному.

«Егор Булычев и другие». 1971 год
Выяснилось, что Женя с кем-то о чем-то посоветовался, кто-то что-то порекомендовал и вместо взвешенной точки зрения журнал ограничился одной статьей Бялика. Разгромной.
Из нее следовало, что сделанное мной есть общественное преступление, даже не идейная ошибка, а именно преступление, причем с явно уголовным оттенком. Скажем, вроде как я у памятника Горькому каменюкой ботинок отбил. Или пришел в ЦГАЛИ, измазал дерьмом рукописи и выпустил их в свет в таком виде.
Бялик расценивал мое сочинение даже не как идейную ошибку молодого режиссера, а как хулиганский акт варварства по отношению к национальным культурным ценностям. После такой милой рецензии оргвыводы были совершенно ясны, рассчитывать в обозримом будущем на что-либо обнадеживающее не приходилось.
Надеяться я мог лишь на Михаила Александровича Ульянова. Он лауреат Ленинской премии, памятный всем Председатель, человек со всенародной славой, вхож в любые кабинеты. Действительно, он использовал всевозможные каналы, чтобы пробить выпуск картины (рецензия появилась до выхода на экран, когда еще только печаталась копия), но все равно и ему приходилось выслушивать про трудности с пленкой, загруженность копир-фабрик. А я все ждал, когда мне начнут башку отрывать. Ульянову-то, я знал, башку отрывать не будут – будут плести про временные трудности с тем и этим, а вот мне…








