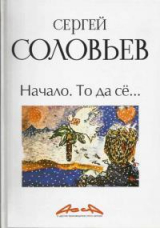
Текст книги "Начало. То да сё…"
Автор книги: Сергей Соловьёв
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
Но потом, увлекшись работой, мы забывали о туберкулезниках, они потихоньку подходили все ближе, и мы вдруг оказывались плотно окруженными толпой человек в двести. Когда работать посреди этих сотен любопытных глаз становилось уже невозможно, Папанов вставал и проникновенно обращался к больным:
– Товарищи, отойдите немножечко в сторону! Ведь мы же вам болеть не мешаем…
Тогда же, на «Предложении», произошел эпизод, на долгие годы мне в самом себе много объяснивший.
Снимали мы в Фирсановке. Жили в каком-то грязном доме, ели непонятно что. Хоть до Москвы было вроде рукой подать, но в магазинах – пустые полки, на полках – скверные консервы. Однажды утром, когда мы (я, Катя, оператор Володя Чухнов) уже выезжали на съемку, позвонили с «Мосфильма»: вышел первый материал, хватит снимать вслепую, приезжайте смотреть. Отменили съемку, сели в автобус и в девять утра, не заходя переодеться (одеты все были для работы на холодрыге – в унты, меховые куртки, свитера, у меня еще был лётный шлем на меху), поехали в Москву.

«Предложение». Морочу голову Папанову, что, мол, если прищуриться, то весь цветной мир вокруг превратится в черно-белый
В пол-одиннадцатого были уже на студии – оказалось, рано, еще три часа ждать, пока материал выйдет из машины. Кто-то (точно не я) предложил: «Что зря болтаться по студии! Поехали в „Арагви“, хоть поедим по-человечески».
При слове «Арагви» все прочие соображения сами собой улетучились, мы сели в автобус и в двенадцать, к самому открытию, были у дверей ресторана.
Тогда это был сказочный «Арагви», осколок ушедшей сталинской эпохи. Швейцары были удивлены нашими странными одеяниями, но мы объяснили, кто мы и откуда, нас уважительно раздели, пустили в зал, несмотря на унты.
Зал был еще пуст, с расписанных стен свисали гроздья винограда, глядели на нас огромные самтрестовские бутыли, загадочно улыбались сказочные женщины, голубели небеса. На столе лежала белоснежная крахмальная скатерть. Это был какой-то оазис неземного счастья.
Принесли меню. Я стал заказывать (денег были полные карманы, мы успели получить на «Мосфильме» зарплату): «Три порции черной икры, три порции масла, куриные потрошка, сациви, лобио, зелень, пити, карские шашлыки с почкой, холодная водка (не вино же пить под такую закусь), три „Боржоми“, три лимонада, горячие лепешки. Потрошка и икру принесите сразу…»
Официант ушел, я представил себе, что все это ем, и… упал в обморок – из него меня вынули только через сорок пять минут. Не было ни сердечного приступа, ни гипертонического криза – просто обморок от чувственного представления, что я все это ем, вкушаю. Обморок чувственной любви к чувственным удовольствиям, так сказать, гастрономический «солнечный удар». И я понял, что, какие бы слова я ни говорил о высокой духовности, о «путешествии идеального в реальное», в сути своей я – гедонист, эпикуреец, и таковым мне быть.
ИСААК
Когда дошло до написания музыки для «От нечего делать», Лев Оскарович Арнштам, человек, вы уже поняли, тишайший, деликатнейший, которого и представить нельзя было дающим кому-то какие-то распоряжения или указания (хотя, конечно же, как художественный руководитель объединения и, по существу, продюсер он вполне мог себе это позволить), произнес очень странную в его устах фразу, произнес ледяным начальническим тоном, от чего сразу припомнилось: «Режиссура – штука суровая…» – ну и так далее.
– Вариантов нет. Музыку тебе будет писать Исаак Иосифович Шварц. Из Ленинграда.
– Почему? А может быть, я хочу другого композитора. Из Москвы, – тут же полез было я в бутылку, учуяв попытку покушения на свою творческую независимость. – Мне вот очень, к примеру, нравится Каретников…

Исаак Иосифович Шварц
К тому моменту кинематографическая музыка была для меня сферой довольно таинственной. Ну конечно, и я, допустим, знал музыку Нино Рота к «87 г», Чарли Чаплина к своим же фильмам; слышал, что некий Шнитке пишет всем успешно вошедшим в последние годы в кино молодым режиссерам, к тому же мне запомнилась почему-то и музыка Николая Каретникова к «Скверному анекдоту» Алова и Наумова, сделанная в своеобразном русско-достоевско-ниноротовском ключе; еще, как и всем, нравился Андрей Петров в «Я шагаю по Москве» и в «Берегись автомобиля»… Этим, в общем-то, жалкий свод моих музыкальных познаний, по сути дела, и исчерпывался. При всем том музыку к «От нечего делать» и «Предложению» внутренне я слышал довольно отчетливо уже тогда, когда писал сценарии. Потому, когда Лев Оскарович столь бесцеремонно стал впихивать мне какого-то чужого, незваного мною маэстро, я взбунтовался.
Это была, по-моему, наша первая, одновременно и почти последняя, распря, и выиграл в ней Лев Оскарович, что было для меня поразительно. Никогда не предполагал за ним способности ввязываться в любые бои, тем более в них побеждать – настолько все это не вязалось с его обликом. Арнштам, напрочь лишенный сомнительных победительных статей, словно и рожден был благороднейшим побежденным, и в том, я думаю, таились истинная сила и суть обаяния его восхитительнейшей личности.
Но тут… Мне совершенно была не понятна оголтелая решительность, с которой он настаивал на Шварце. Поудивлявшись, я пошел ябедничать Борису Григорьевичу Кремневу:
– Ребе спятил… Сует мне какого-то Шварца…
В ответ Борис Григорьевич разразился красочной матерной тирадой, из которой следовало, что в этом случае мне не только нельзя противиться, но даже и помышлять о том, что будет как-то иначе. Мол, ребе пианист, а не хухры-мухры, и кое-что в музыке соображает, да и сам он, Борис Григорьевич, профессиональный музыковед и знает, чего какой композитор на самом деле стоит.
– Если бы он тебе какое-нибудь говно пихал вроде Чайковского…
– Какого Чайковского?
– Того самого. Петра Ильича. Нынешний-то вроде чуть получше. А то – Шварца! Ты самого-то Шварца когда-нибудь видел?..
И далее точно и выразительно Кремнев описал мне Шварца в обычном своем цветистом, фольклорном стиле.
– Если говорить о задатках, так сказать, о том, как его мама с папой задумали и выполнили, то Изя – композитор гениальный. Другое дело его жизнь, ну и все эти его заморочки…
Далее образовалось еще одно розово-матерное, вполне идиллическое облако, в котором воздушно очертилось подробнейшее реалистическое описание жизни Шварца, ее заморочек и других многообразных составляющих. Как оказалось впоследствии, описание это не просто соответствовало описываемому предмету, но было вполне адекватно ему даже и по характеру использованных в описаниях выражений.
Через какое-то время приехал из Ленинграда и сам Исаак Иосифович. Первое, что меня приятно обрадовало, ростом он оказался еще ниже, чем я. Такие люди вообще-то встречались мне в жизни нечасто; и практически всех, с кем сталкивался, я долго еще вспоминал с ласковой и расслабленной симпатией. Шварц же был не просто ниже, а заметно ниже, чуть ли не на полголовы, с чем прежде я не сталкивался. Обстоятельство это столь поразило меня, что как-то сами по себе улетучились мысли о бедном Коле Каретникове. Вскоре я с еще большей очевидностью понял, что судьба столкнула меня с редким во всех отношениях человеком. В частности, меня сразу сразила ненормальная красота его синих-пресиних глаз: других таких обворожительных, глубоких, умных синих бездн в жизни больше не встречал. И третье, ошарашивающее – его одновременная похожесть на Эйнштейна до-гитлеровских времен и Чарли Чаплина времен первоначального обретения мировой славы. Исаак Иосифович в ту пору еще только начинал седеть, чем и объяснялось внезапно наступившее портретное сходство с гениальным открывателем теории относительности; но и черты прошлой его, неведомой мне жизни моложавых чарличаплиновских времен в нем еще счастливо сохранялись.
Лев Оскарович нас познакомил. Знакомство происходило в строго дипломатических тонах.
– Пойдите к роялю, – сказал Лев Оскарович, – и обсудите ваши проблемы…
Вместо этого мы со Шварцем почему-то немедленно отправились в столовую, заказали по бефстроганову, уселись друг против друга, тщательно перемешивая мясо с вермишелью. Внезапно пришла Катя.
– Это кто? – спросила про Шварца Катя.
– Исаак Иосифович Шварц, – ответил я.
– А это кто? – спросил про Катю Шварц.
– Это моя жена Катя.
Катя тоже взяла себе бефстроганов, по-прежнему молча мы опустошали свои тарелки. Все съев и запив компотом, Катя ушла так же неожиданно, как пришла. Шварц аккуратно вытер рот салфеткой, поинтересовался:
– Не боишься?
– Чего?
– Иметь такую жену.
– В каком смысле?
– Во всех.
Он воздел руки к потолку, показав Катин рост.
– Не страшно?
– Не страшно. Очень даже хорошо.
– Ну-ну, – с усталой мудростью сказал Шварц, после чего добавил: – Бефстроганов нельзя, конечно, считать брудершафтом, но поскольку мы идем работать, прошу тебя, давай перейдем на «ты». По-настоящему меня зовут Изя, если хочешь – Исаак. Вообще-то всё зовут Изя, но мне нравится, когда меня называют Исаак.
На самом же деле за все последующие годы я так и не встретил, кажется, никого, кто звал бы его Исааком: поголовно все звали его Изя или Исаак Иосифович, но всем при знакомстве он мечтательно повторял, что хотел бы зваться Исааком.
С этого момента началась наша общая длинная-длинная и, в сущности, очень даже счастливая жизнь. В момент, когда мы познакомились, Исааку Иосифовичу было сорок четыре, он был много моложе меня нынешнего, но казался мне тогда бесконечно взрослым. Сейчас ему за семьдесят, а кажется он мне все моложе и моложе. Более ясных, здравых, незамутненных нечистыми страстями или несовершенным умом суждений о жизни, о людях, о политике, о времени, в котором мы живем, я никогда ни от кого не слышал. Иногда, беседуя с кем-либо из так называемых «молодых» о том о сем, натыкаешься на старческую сбивчивость их мысли, дряхлую неспособность ни одну хотя бы додумать до конца. А почти оптическая ясность, резкость, отчетливость понятий, точность изящной речи, свойственные сегодняшнему Шварцу, заставляют вообще задуматься о том, что есть юность, молодость, зрелость.
Вот, повторю, прожили мы с ним почти целую жизнь, связывала нас даже больше чем дружба. Я и сегодня не знаю подходящих слов, чтобы определить ту степень человеческой близости, основанной на такой эфемерности, как музыка.
Разными бывают дружеские связи: одни основаны на том, что люди, скажем, вместе выпивают, другие – на том, что вместе воруют, третьи – на очаровательных пикниках с барышнями. Наша с Исааком Иосифовичем дружба основана исключительно на музыке. Мое доверие к нему определено прежде всего тем качеством музыки, которую он для меня пишет. Это идеальное сочленение тайных стихий фильма или спектакля с тонкими градациями и переливами душевных отношений героев. Это музыкальные узоры сложных, иногда парадоксальных контрапунктов к картине, высокая степень тонкости которых и их изящество ясно говорят, что этот человек понимает в этой картине все, а по существу значит, что он все понимает и во мне. А потому для него, как из этого следует, нет во мне ничего такого отталкивающего или неприятного, что не могло бы выразиться музыкой. А музыка эта, в свою очередь, вызывает во мне абсолютную, безграничную к ней доверительность, а отсюда и открытость, откровенность в человеческих наших с ним отношениях.
Года три назад, готовя на телевидении программу «САС», посвященную Шварцу, я подумал, как же сформулировать суть работы композитора в кино. Не скажу, что изобрел сильно оригинальную формулу, но, наверное, все-таки довольно точную: «Музыка – душа фильма». Для меня это не вообще формула, а формула, обращенная именно к Исааку Иосифовичу, к нашей общей с ним работе.
Шварц обычно появляется на картине в тот момент, когда съемки начинают двигаться к финалу. Обстановка нервная. Уже на протяжении нескольких съемочных месяцев я болезненно ощущаю, что не только не воплощаю свои замыслы, а даже напротив – прощаюсь с ними, убиваю их бесконечными компромиссами, из которых и состоит, по сути дела, «снимание кино» (по крайней мере для меня), наступают мгновения, когда картина кажется уже окончательно проваленной, спасению не поддающейся. И вот в этой нижней, страшной точке режиссерского самочувствия появляется Исаак Иосифович, идет в зал, смотрит в одиночку материал и всегда находит слова, вселяющие какую-то надежду.
– Изя, неужели правда? Неужели из этого что-то может выйти?
На что Шварц реагирует невозмутимо:
– Ты переработался, сынок (он уже давно, лет двадцать назад, стал кликать меня «сынок»)! Получается чудная история. Мне бы сейчас как-нибудь оказаться на ее уровне.
А еще через несколько недель наступает счастливый момент: мы со Шварцем идем в зал записи музыки, где у пультов уже сидит в ожидании симфонический оркестр. Меня удивляет степень студенческого волнения Шварца накануне мгновения, когда его музыке предстоит впервые прозвучать в оркестре. Изю начинает колотить. По окончании сыгранного куска музыканты одобрительно стучат смычками по инструментам. Изя, наверное, давно привык к этому, но радуется каждый раз как в первый.
– Слышишь, сынок! Это дорогого стоит! Лабуха, если он сам того не захочет, стучать смычком не заставишь…
Мы стоим у огромного стекла студии, смотрим на экран. Сменяют друг друга немые, нарезанные под запись музыки, драные-передраные, клеенные-переклеенные, давно опостылевшие тебе в монтаже эпизоды; вот тут и вступает музыка, звучит, длится, движется, образуются те самые волшебные совпадения, которые каждый раз кажутся нам с Изей очередной счастливой случайностью, и в этот момент я начинаю понимать, про что на самом деле снимал свое кино, что имел в виду когда-то давно, еще в самом начале, когда в голове случайно тоже будто выплыла и застряла первая завораживающая картинка, с которой некогда все и началось.
Я не раз уже вспоминал здесь эти сверхточные ахматовские строчки:
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как одуванчик у забора,
Как лопухи и резеда.
Шварцевская музыка во всех моих картинах удивительно отражала то многообразное поле различных случайных зеленых побегов, а то и просто сорняков, которые, казалось мне, и составляли на тот момент самый цвет моей души. В музыке этой прихотливым узором и как бы сами по себе сплетались в варварские, но миленькие веночки и упомянутые поэтом лопухи, и резеда, и разные подзаборные одуванчики: весь тот душевный сумбур и хлам, составляемый в странный букет труднорассказываемых чувств, переживавшихся в процессе съемок. Сейчас, иногда случайно услышав Шварцеву музыку к какой-нибудь из своих картин, я воспринимаю ее уже не только как тонкое и исчерпывающее выражение существа старой картины, но и как точные воспоминания о моем душевном состоянии во время той работы. Наверное, вместо этой книги я мог бы составить из музыки Шварца некое звуковое письмо к вам, дав темам из фильмов названия, выражающие мир тогдашних моих юных и наивных чувств, и музыка безо всяких слов, но любовно и внятно рассказала бы все то, что я так пространно пытаюсь сейчас рассказать.
Вместе со Шварцем мы сделали «От нечего делать», «Предложение», «Егора Булычова», «Станционного смотрителя», «Сто дней после детства», «Мелодии белой ночи», «Спасателя», «Наследницу по прямой», «Избранных»… Вот в «Избранных»-то я уже допустил первую легкую – не неверность даже Исааку Иосифовичу, а как он это сам определяет – некую «небрежность» по отношению к нему, рядом с его музыкой поставив фрагменты квартета Бетховена, 6-й симфонии Малера и квартета Бартока. Шварц внутренне этому сопротивлялся.
– Сынок, по меньшей мере, это неблагородно, – резонно сутяжился он. – Это все равно что в твою картину вставить эпизод из Феллини. Даже малопосвященному сразу же будет видна разница в качестве…
Тем не менее разница в музыке «Избранных» была совершенно никому не видна, распознать, где чья музыка, могли только знатоки-профессионалы: все, что написал для картины Шварц, выдержало этот сверхтитанический гнет спрятанного сравнения с музыкальными гениями.
После «Избранных» Шварц написал мне всю музыку к «Чужой белой и рябому», и всю его музыку из картины я в последний момент вынужден был вынуть. Еще тогда, когда он только приступал к этой работе, я честно сказал ему, что мне придется использовать и здесь некоторые вещи Шостаковича.
– Все-таки это не метод, – обиделся Шварц в ответ. – Давай либо я буду писать музыку, либо моей музыки здесь не нужно вообще. Мне очень тяжело вести неравный и бессмысленный музыкальный бой с великими. Зачем ты меня в него втягиваешь?.. Ты должен сам принять какое-то определенное решение, какое – это уж твое дело, сынок…
Измучившись, я принял это вынужденное решение: оставил в картине только Шостаковича и Бартока. Мне и до сих пор очень жаль, но я не мог поступить иначе. Картина требовала того. По этому поводу Шварц написал мне очень серьезное, очень грустное, очень пронзительное письмо, и потом мы уже долго вместе не работали…
Но всему этому еще только предстояло случиться. А пока, вы помните, мы мирно поели бефстроганов, коротко обсудили действительно непростую ситуацию с Катей и перешли к делу.
– Какую бы музыку ты хотел?
– Вальсик…
– Понял. А какой вальсик?
– Ну, как бы духовой вальсик.
– Не очень свежее для чеховской вещи решение, но допустим. А какой именно духовой вальсик?
– Легкий такой, но одновременно и грустный вроде. А вместе пусть даже и чуть смешной…
– Более точных указаний нет?
– Нет… – устыдился я.
– Это я на всякий случай… Мне точнее и не надо, меня такая точность вполне устраивает. Со мной, знаешь, однажды произошла забавная история. Первый раз писать музыку для кино меня пригласил Юлий Карасик на «Дикой собаке Динго». В первую же нашу встречу он произнес странные слова: «Исаак, в принципе всю музыку я слышу, я для себя ее уже написал, знаю и могу даже тебе ее напеть. Мне от тебя нужна чисто техническая помощь. Ты возьми с собой нотной бумаги, мы с тобой закроемся в зале, пустим картину, я тебе все напою, а ты нотами запишешь». Меня потрясла столь точная степень режиссерского видения.
Я, честно-то говоря, и не представлял себе, что подобное возможно. Действительно, мы сели в зале, заперлись, Юлик позвонил механикам, началось. Пошли титры. «Тра-та-та-та, та-та-та, та-та-там», – из темного угла, слегка фальшивя, загудел Юлик. Я зажег лампочку, пишу гудение нотами. «Тру-ту-ту, ту-ру-ру-ру», – продолжает Юлик, делает маленькую паузу, говорит: «Блямс!» Я нотами записываю в ударных: «Блямс!» Тут стоп. Чувствую, идет пауза, довольно длинная, можно сказать, генеральная – в нотах пишу «Г.П.». «Здесь снова начинается музыка, – после долгой тишины наконец говорит Юлик. – Ты сам реши, на каком инструменте, но тема такая: „Пу-ри-ри-ру-ри, ру-ри-ту-ру-ри, ту-ри-ра-ру-ри…“» Я внимательно вслушиваюсь, стараясь ни нотки не пропустить. «А здесь уже у меня пошли духовые… – продолжает Карасик. – „Ру-пу-пу-пу-пам, ру-пу-пу-пу-пам, ру-пу-пу-пу-пу-пам-ру-пу-пу-пам“». И вот когда он из темного угла громко запел трубой, до меня, молодого идиота, наконец доехало, какой невиданной хреновиной я тут в темноте занимаюсь. Я как бы увидел нашу компанию со стороны откуда-то, может быть, даже из космоса – и компанию эту дикую, и ее странные занятия. А из космоса мне показывали, как один чудак на букву «м» мычит из угла какую-то мудню, представляя, что это музыка, а другой, по профессии как бы композитор, но, как выясняется, еще больший чудак на ту же букву, почему-то весь этот бред записывает нотными крючками. «Простите, пожалуйста, Юлик, – взяв себя в руки, наконец говорю я ему. – Нельзя ли на минуточку прервать просмотр?» – «Зачем?» – «Я хотел бы, чтобы в зале включили свет». – «Ну, если это нужно, то пожалуйста!» Карасик остановил проекцию. Я собрал листки, сложил их в кучку. «Видишь ли, Юлик, я композитор, а не подсобный кастрированный козел по музыкальной части. Либо ты пригласил меня писать музыку, и я сам разберусь, как это делать и где труба играет, либо вот тебе все это, и иди-ка ты с ним, мой драгоценный, ты сам превосходно знаешь куда…» Но нужно Юлику отдать должное, как только у меня в голове все прояснилось, и у маэстро тоже как бы все встало на свои места…
Меня эта история сразу же сразила своей живописностью, красотой мизансцены, художественностью освещения и несомненной правдивостью. Я Карасика к тому времени уже знал, он был у нас членом художественного совета, а оттого превосходно себе представил, как из темного угла при неверном мистическом помигивании экрана он громко поет Шварцу трубой, а тот, слегка высунув язык и склонив умную эйнштейновскую голову набок, пишет, пишет…
– Когда будем смотреть материал? – поинтересовался Шварц.
Я живо представил себя напевающим Исааку Иосифовичу свои «Пу-пу-пум-пум», а его аккуратно записывающим их на нотную линейку. Поэтому я сказал:
– Знаете, в зале уже все заряжено. Смотрите материал сами.
Это он между делом как бы настроил меня на некий высокий этический лад взаимоотношений. Действительно, я почти никогда не смотрел свой материал вместе со Шварцем, знал, что уже одним своим присутствием в зале вольно или невольно мешаю ему, так сказать, дружбой давлю на психику. Все равно же я молча смотреть не стану – или что-нибудь скажу, поясню, или, храни Боже, случайно пропою что-нибудь даже. Пусть он общается с материалом сам.
Шварц посмотрел почти весь материал «От нечего делать» и вышел из зала не просто с восторженными, но с какими-то даже подернутыми влажной дымкой глазами, стал меня растроганно обнимать, тискать, что было полной неожиданностью. Материал к тому времени видело уже довольно много народу, кому-то он казался приличным, кому-то менее приличным, самому мне – довольно средним, но ни о каких восторгах, разумеется, и речи не было. И вдруг эта восторженная реакция, я видел, искренняя…
– Это не просто хорошо! Ты себе не представляешь, как это хорошо!..
Исаак всегда щедр на похвалы друзьям и вообще людям, с которыми работает, с которыми по жизни связан. Тогда я этого еще не знал, но точно чувствовал, что моя история его чем-то и по-настоящему растрогала, заинтересовала. Рассказ он читал раньше, может быть, его удивила разница между тем, что он представил себе из рассказа, и тем, что увидел на экране. Думаю, еще фильм чем-то попал в личную сферу его душевных интересов, попросту – лег на сердце.
– Теперь я действительно все понял. Твои соображения по поводу грустно-веселого вальса, может быть, мы и осуществим, а духового оркестра, извини, точно не будет. Позвони мне завтра. Я живу у брата, в центре, на Суворовском бульваре, рядом с Домом журналиста. Брата я на время работы из квартиры выселил, у меня там все условия. Позвони, я позову тебя слушать…
Середина лета. Жара. Я сижу в монтажной, жду, волнуюсь, все-таки первый раз для моей картины пишут музыку. Звоню, как договаривались, в час дня. К телефону подходит Шварц, суровый, строгий:
– Ничего нет. Не получается. Абсолютно ничего не получается.
– Почему? Что случилось? В чем дело, Исаак?
– Картина очень сложная, она только кажется простенькой. Начинаю делать одно – плохо, начинаю другое – опять очень плохо, начинаю третье – совсем никуда… Я сделал уже несколько вариантов, и все – говно. К встрече не готов.
Шварца я еще не знал, поэтому не знал, правду он говорит или нет, пишет на самом деле или не пишет, может, бездельничает, занимается чем-то другим. Наверное, все-таки пишет если дома сидит – чего ему еще там в такую жару делать?
– А как же быть?
– Не знаю. Позвони мне ну часа через четыре…
Сижу в монтажной дальше, чего-то там клею, отсчитываю часы. Через четыре часа звоню.
– Ничем порадовать не могу. Дела в прежнем положении. Написал еще один очень плохой вариант.
– А что же делать?
– Звони мне завтра в двенадцать часов.
– Но завтра-то что будет?
– Думаю, все будет хорошо. Все должно быть хорошо. У меня так не бывало, чтобы в конце концов все было плохо.
Звоню назавтра в двенадцать.
– Опять порадовать не могу, – сообщает Шварц со все той же мужественной сухой гордостью. – Все плохо.
– Что же делать?
– Не знаю.
– Когда звонить? – Я уже чувствую, как слова пробуксовывают во рту.
– Звони в четыре, – говорит он с абсолютным спокойствием.
Кладу трубку в задумчивости: нормален ли психически человек, с которым свел меня добрейший Арнштам. Звоню Льву Оскаровичу.
– Лев Оскарович, а вы Шварца вообще откуда знаете?
– Откуда знаю? Гога Товстоногов пригласил меня посмотреть своего «Идиота», там действительно был один гений, которого все видели, вне зависимости от своего культурного уровня – Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Но там был еще и другой человек чрезвычайной одаренности. Когда сыграли увертюру, я это уже понял. Сочинение было Исаака Иосифовича Шварца. Я позвонил Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу и спросил: «Знаешь ли ты такого Шварца?»
– Иными словами, вы говорите, что знаете его с самой хорошей стороны? – спрашиваю Арнштама.
– Да, и советую тебе послушать музыку к «Идиоту».
– Где ж я ее послушаю в шестьдесят восьмом году, когда Смоктуновский давно ушел из театра?
– Музыку к товстоноговскому «Идиоту» можно послушать в пырьевских «Братьях Карамазовых»…
– Как это? – удивился я.
Оказывается, в свое время Арнштам и Пырьеву все с той же решительностью «матросского дела» заявил:
– Иван, ты в музыке ничего не смыслишь. Потому не спорь. Музыку к «Карамазовым» тебе будет писать Шварц.
Сроки, да и сам клиент были очень жестокими, Шварц долго мучился, страдал, потом кто-то, чуть ли не сам Арнштам даже, предложил ему:
– Иван в театр давно не ходит, в театре ничего не видел и никакой театральной музыки не слышал, не знает и уж во всяком случае не запоминает.
В пароксизме слабоволия, стиснутый обстоятельствами, Шварц поддался уговорам и кой-какую, весьма деликатную компиляцию из «Идиота», очень скромной, совсем невыпирающей частью, вставил в совершенно новую и оригинальную музыку «Карамазовых». Не учтена была одна маленькая деталь: Пырьев-то действительно в последние годы в театр ходил нечасто, но Товстоногов кино иногда смотрел. Когда на премьере в ленинградском Доме кино в увертюре к «Карамазовым» он услышал несколько знакомых тактов из своего спектакля, то с грохотом упал со стула от возмущения. Потом Исааку Иосифовичу долго пришлось налаживать отношения; их вроде бы мирили и Арнштам, и Шостакович, слава Богу, наконец все успокоилось, Шварц писал замечательную музыку Товстоногову дальше и к «Горю от ума», и ко многим другим знаменитым его спектаклям.
…Все это рассказал мне тогда Арнштам. Получив от Льва Оскаровича столь обнадеживающую информацию о психической полноценности Шварца, я одновременно понял, что имею дело с очень непростым музыкальным феноменом. Повесил трубку, тупо жду назначенных четырех часов. Вдруг в монтажной – звонок, Шварц кричит в трубку:
– Все!.. Все! Все готово! Вальс готов! Можешь приезжать! Я тебе все сыграю!.. Все! Все готово!..
– Ты же мне велел в четыре звонить…
– И к четырем не было бы ничего готово, и завтра не было бы готово, если бы на меня не упал потолок!
– В каком смысле?
– В прямом! В прямом! В самом прямом смысле!.. После разговора с тобой я сочинил еще вариантик, еще неудачнее, чем прежде, и в огорчении прилег отдохнуть. Дом у меня старый, потолок с лепниной: ангелы с трубами, гирлянды цветов и другое всякое, я смотрел-смотрел на них, опять что-то в уме сочиняя, стал засыпать. Вдруг в какую-то долю секунды будто меня кто в бок толкнул, открываю глаза и вижу: буквально прямо на меня летит с потолка ангел с трубой, и еще через долю секунды ангел ударяет меня в грудь…
– Как?!
– Приезжай, посмотришь… Половина потолка упала на меня, и под этим впечатлением я сочинил, по-моему, очень славный вальсик.
Жара не спадала. Я приехал к Шварцу на Суворовский бульвар. Исаак Иосифович возбужденно встретил меня в коридоре коммуналки в длинных черных семейных трусах и синей солдатской майке. Исполненный все не проходящего волнения, провел меня в комнату, и действительно я своими глазами увидел на одной половине потолка довольно миленькую лепнину с ангелами и цветами, а на другой половине того же потолка – уже решетку из дранки и внизу под ней на измятой кровати – тех же ангелов, но уже, так сказать, поверженных…
– Но ты-то цел?!
Стали ощупывать его, смотреть, нет ли ушибов, поломов…
– Я цел, – наконец сказал Шварц, – но если бы ангел слетел не на грудь, а чуть выше, то меня, вероятно, уже бы не было и ты писал бы музыку с Каретниковым…
– Откуда ты знаешь про Каретникова?
– Мне Арнштам стукнул, – строго погрозил он мне волосатым пальцем, – а сейчас уже все нормально, я пришел в себя. Пусть пока это все лежит на кровати, я вызову домоуправа. Безобразие! За что, спрашивается, мы за квартиру платим, чтобы на нас потолки падали?.. Но ты не обращай внимания, слушай…
Он сел за инструмент и сыграл мне поразительной нежности и красоты вальс, тот, который я хотел, но только в миллион раз лучше… Так, как я себе и представить не мог.
Исаак Иосифович Шварц – человек особенной судьбы. С одной стороны, судьба эта была вроде бы довольно общая для всего его поколения, для множества людей его времени; с другой, она, как и у всех, носила неповторимый отпечаток индивидуальности, личности, черт характера, особенностей таланта, что и определило в конце концов такое своеобразие и отличимость его музыки.
Эта книга – вовсе не книга воспоминаний о том, чего я никогда не видел. И здесь, сейчас, я не пишу биографию Шварца. Я не могу быть его биографом потому, что на самом деле встретил его уже довольно поздно, когда интереснейшая часть его биографии уже свершилась. Эта книга, в сущности, книга литературных или малолитературных (это все время непременно рассудит) человеческих портретов. И сейчас как могу, словами, которые знаю, пишу портрет Шварца так, как его понимаю. Портрет неравнодушный. С любовью. Исключительно для полноты и душевности этого дорогого мне портрета позволю себе упомянуть о каких-то случаях, к сожалению, только по слухам, по клочкам, известным мне, по жалким ошметкам его подлинной судьбы, которые могут быть правдой, а могут быть и веселой легендой, которая, во всяком случае, мне довольно многое объясняет.

Люби меня, как я тебя, и будем мы навек друзья!
Шварц – петербуржец, ленинградец. Дед его по отцовской линии был раввином. Отец – ученый. Историк, археолог. Интеллигентная петербургская семья. С девяти лет маленького Шварца стали учить музыке. Российская история до поры до времени погрохатывала рядом. Но Россия есть Россия и жить в ней редко кому удается со стороны наблюдая. В 1937 году отца Шварца посадили, а Изю с мамой выслали в город Фрунзе. Эти времена Исаак иногда вспоминает с грустью и нежностью. Когда я взялся экранизировать «Отрочество архитектора Найденова» Бориса Ряховского, великолепного русского писателя со схожей судьбой, где рельефно показан этот слой интеллигентных ссыльных петербуржцев, оказавшихся в Актюбинске, Шварц с великой радостью узнавал в сценарии подобие своей судьбы. «Да, да, да, – повторял он, – все точно, мама тоже возила меня к жившим в мазанках, хибарах княгиням, отпрыскам славных русских фамилий – Лопухиным, Раевским… Ах, как похоже!»








