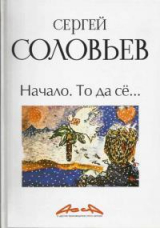
Текст книги "Начало. То да сё…"
Автор книги: Сергей Соловьёв
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
Вернувшись из поездки, мы с Борисовым стали городить изначально заявленную трехэтажную декорацию. В осуществленном виде она оставила далеко позади все мои наивные «крупнопомольные» пожелания «о первом этаже в модильяниевской гамме» и т. п. Это был огромных размеров материальный предмет исключительной художественной ценности. В той декорации было семнадцать комнат и восемь коридоров. К ней было подведено внешнее электричество, проводка из витого толстого электрошнура на роликах обвивала все комнаты, все лампы были подключены к нормальной городской электрической сети, в дом был подведен водопровод, работали все краны и унитазы, горели конфорки газовой плиты – все выглядело истинным чудом поп-арта. В эту декорацию мы всей группой, открыв рты от изумления, однажды зашли и три месяца из нее не вылезали. Основная часть картины была снята здесь.
Декорацию начинали строить от прихожей – прихожая была тем архитектурным стояком, вокруг которой вырастал весь дом. Для начала в прихожую закатили огромную железную вышку. Стоя на ней, рабочие монтировали стены, клеили обои, красили декорацию. Каждый раз, заходя посмотреть, как идет работа, я не мог избавиться от мысли: «Куда ж они вышку потом денут? Вокруг-то все уже застроено! Через эти узенькие проходы как ее вытащишь?» Но тут же останавливала следующая мысль: «Наверное, я все-таки просто неопытный кретин. Делают же профессиональные люди, знающие свое дело. Ну, что я буду к ним лезть с дурацкими вопросами?» И вот уже победоносно выросли три этажа декорации, уже расставили в комнатах кое-какую мебель, а вышка по-прежнему торчала в прихожей на том же месте.
– Ты понимаешь, какая хреновина получилась? – вдруг сообщает мне бледный Борисов (впрочем, особо румяным он никогда и не был). – Как же мы вышку-то теперь из декорации вынесем? Мы, идиоты, ведь про нее забыли…
Я внутренне ахнул. И опять мне тут был урок: я понял, что в любой работе важны не только постоянное восхищение партнером, но и сама работа, где любое разумное сомнение ценно – советы, волнения, вопросы, просьбы… Я-то думал, у них есть какой-то адский секрет, как, в конце концов, каким-то чудесным способом они вытащат вышку, ну может, поднимут ее наверх к колосникам и где-нибудь там подвесят, а оказалось, о ее существовании просто забыли – а я видел, но молчал…
Как побитые дворняги, мы пошли к Милькису:
– Лазарь! Очень неприятная история случилась. Декорацию-то мы построили, а вышку забыли… Ее, наверное, пилить придется, и частями…
– Вы что, ополоумели? Знаете, сколько вышка стоит? Она больше всей вашей декорации стоит!
– Лазарь! Ну, что делать? Забыли!..
И Милькис с какими-то подпольными рабочими по ночам тайно пилил автогеном эту вышку на куски и куда-то еще не остывшие куски тут же оттаскивал. Нас же строго-настрого предупредил:
– Запомните, никто никогда никакой вышки не видел и ничего о ней не слышал и не знает. Не было ее!..
Настало и следующее событие, можно сказать, чрезвычайной важности. Саша сказал:
– Теперь нужно декорацию по-человечески обставить. Пойдем в мебельный цех и в реквизит…
И мы впервые отправились вместе в мосфильмовские цеха, в те времена еще располагавшие такими фондами и такими предметами, которые могли сравниться с лучшими отечественными музеями. Я просто поразился фантастическому, немыслимому обилию уникальных предметов материальной культуры, собранных там. Здесь были поразительная живопись, музей подарков Сталину, когда-то переданный рассерженным Хрущевым целиком во владение «Мосфильма», кабинет Гитлера, привезенный из Германии, кабинет Сталина, привезенный после смерти Сталина из Кремля…
Тщательность, с которой обставлялись все семнадцать булычовских комнат и восемь коридоров, была поистине феноменальной. Борисов не оставлял без внимания даже содержимое ящиков столов. Если бы Ульянов захотел открыть ящик своего стола, он бы увидел в нем те предметы, которые могли бы лежать у Булычова.
Последовательность, в которой обставлялись комнаты, шла от верхнего этажа к нижним. Мы как бы подпирали сзади и торопили Борисова: время уже было переходить к съемкам в коридоре, а он еще только завозил для него мебель. Как-то, уходя со съемки, я застал его одного, усталого, обалдевшего, в нижнем этаже, среди полуобставленной голубой залы. Вокруг валялись какие-то разрозненные вещи…
– Саня, что случилось?.. Ты чего тут один, в темноте?..
– Не могу больше. Это не декорация, это – прорва!..
Действительно, в декорацию мы занесли чуть ли не весь реквизиторский склад. Но и эффект получился сильный. Это было уже не жизнеподобие, а сама новая реальность – другая, параллельная основной, а, быть может, в каких-то вещах и основная, параллельная той хаотичной и перенасыщенной случайным и лишним… Безусловная пластическая реальность мира, умноженная на фантазию и волеизъявление неординарного художника.
На Сашином примере я впервые пережил еще одну странность кинематографа. Декорация строится, ну скажем, три месяца – разламывают ее за два дня. Сколько же, представил я себе, Саша всего в жизни построил – усадеб, домов, особняков, улиц, площадей, квартир – с тем, чтобы сохранить на какое-то время лишь хрупкую, оптическую тень своих любимейших строений? Стоит ли этот, по выражению Леши Германа, «призрачный пучок света» из будки киномеханика, некое расположение крупиц серебра на кусочке целлулоида, таких страстей, таких трудов?.. Когда ломали декорацию «Булычова», мне было так больно, будто ломали мой дом. Выносили вещи, разоряли квартиру, разбирали, растаскивали стены – выгоняли, выселяли меня из созданного мной, мной обжитого мира. Борисова это словно совершенно не угнетало…
– Ну, что там, ломать закончили? – спрашивал он с абсолютным и по сей день таинственным для меня равнодушием.
Итог, тот результат, ради которого все это строилось, был уже качественно зафиксирован на пленке – судьба построенного отныне его больше не волновала.
– Саша, как же у тебя хватает физических сил, – спросил я у Борисова (а он, как было сказано, человек совсем не атлетического сложения), – поднять и своротить такую махину со всеми плинтусами, дверями, форточками, выключателями?
– Разве это махина? Это так… Архитектурно-замкнутая комплексная декорация, действительно довольно трудоемкая, еще важно, конечно, было, чтобы она не завалилась, а в остальном, ну что ты!.. Вот когда Александр Петрович Довженко взял меня из института на «Поэму о море», там было по-настоящему сложно…
– Сложнее, чем здесь?
– Там нужно было затопить триста гектаров человеческого жилья… Два села, церковь, луга, лесные угодья…
– Что?! Как затопить?..
– Натурально. Водой. И мы все это затопили…
– То есть как?
– Честь по чести. Рассчитали плотину, построили дамбу…
– Дамбу?..
– Довольно-таки большую дамбу. Образовалась запруда. Мы ее рассчитали с инженерами-гидростроителями, часть рек необходимо было повернуть вспять…
– Саша, ты что говоришь?..
– Я объясняю тебе, что такое сложная постановочная декорация. Экскаваторы рыли котлован, туда сбрасывали воду, возвели плотину…
– Ты что? Всерьез?
– Как же не всерьез? Я сам из всех этих хат вывозил ненужные в кадре, брошенные выселенными людьми вещи – оставлял только нужные. Мы плавали на лодке между этих сел. Вот там действительно была непростая задача. Да и гидростроители в каких-то расчетах ошиблись. Я каждый вечер ходил по плотине, курил, смотрел. Вижу, вода что-то ненормально быстро прибывает. Думаю: «А если она сейчас плотину прорвет, вот история будет!» Мы к тому времени еще и недостроили, и недоотселили. Там внизу живые люди. Вызвал гидростроителей. Они за голову схватились: «Елки-палки! Просчитались! Ошибочку дали! Если через три дня вы не начнете снимать, точно прорвет, и вода все это к черту затопит!» Удачно еще получилось, что я курю – потому прогуливался, заметил… А все, что было потом, это уже полегче, попроще! Ну, что после этого две серии «Чайковского»! Петербург, Париж – это все в основном без меня строили!..
Я понял, что действительно пришел уже на развалины имперского кинематографа и у тех титанов, которые его создавали, было совершенно другое ощущение, что такое государственное, советское кино, другие требования, другой масштаб!..
– Саша, а с точки зрения твоего личного художественного интереса как это было? – спрашивал я Борисова про «Поэму о море».
– Ну, что ты, это было совсем неинтересно. Я очень любил самого Довженко, он на меня действовал совершенно магнетически. Тем более взял он меня на картину мальчишкой из ВГИКа: на пятом курсе института я стал главным художником супергигантской картины, за которой присматривал лично Сталин. Я был влюблен в Александра Петровича, но такая глобальность задач подавляла, а интереса собственно для искусства почти совсем не оставляла. Чем глобальнее задача постановочная, тем меньше места остается для художественного…
Действительно, в дальнейшем он мне показал, что художественность возникает от скрупулезности понимания и проработки предмета в его мельчайших извивах и подробностях, в тонкости взаимоотношений художника и изображаемого им – из этого же проистекала и несомненная художественность тех шедевров, которые я открыл для себя в провинциальных музеях России.
Борисов своими руками спроектировал и выстроил огромное количество истинных шедевров русского бытового зодчества, уникального интерьера и исторического дизайна, которые сегодня, увы, уже нигде, кроме как в кино, нельзя увидеть. Так жаль, что их нет! Они порушены… И тем не менее они были, многие из них я сам видел, сам красил доски, расставлял в них мебель, развешивал картины, в их стенах ходил, спал, ел, думал, писал, дружил, любил, ненавидел, злобился, прощал, снимал…
Теперь, когда езжу на Николину гору к кому-нибудь в гости, всегда делаю небольшой крюк – поглядеть на пустой холм в Успенском, где когда-то стояла почтовая станция смотрителя Вырина. Полностью были построены дом, службы, двор… Теперь ничего там нет, стоит продуваемый ветром одинокий, пустой, сирый холм.
Для «Станционного смотрителя», картины, по своим постановочным габаритам самой что ни на есть скромной, Саша создал несколько изумительных шедевров, отмеченных его маниакальной, скрупулезнейшей художественной точностью. Обсуждая будущую картину, мы просмотрели множество русских живописных «обманок» – то, что в нынешние времена называется живописным гиперреализмом. Мы хотели, чтобы и у нас в картине все было так же бесконечно подробно, чтобы было в ней огромное количество – тысячи, тысячи, тысячи – вещей, вещиц, предметов, чтобы они взаимодействовали, противоречили друг другу, смыкались, сплетались между собой, переливались друг в друга. Павильон – «избу станционного смотрителя» – мы строили уже после натурных съемок. Как-то я монтировал на студии допоздна и почти ночью, уходя со студии, увидел, что в огромном первом павильоне, по непонятной причине отданном для нашей крошечной декорации, все еще горит свет. Зашел и увидел Сашу: с Геной Шумским, тогда студентом режиссерского факультета, исполнителем роли Белкина и одновременно практикантом на нашей картине, они вдвоем от руки прописывали доски декорации, превращая каждую в отдельное живописное произведение.
Любой натюрморт, любая мелочь в картине – все это неслучайный результат огромного любовного художественного труда. Только в результате этого и возникла в картине та самая одухотворенная материальная среда, «неравнодушная природа», как определял ее некогда С.М. Эйзенштейн. Это она так восхищает в Париже: где ни поставишь камеру – все хорошо. Как эта среда возникала? Поколения, тысячи и тысячи художников строили этот город, обживали, украшали его. Точно так же и здесь: колоссальный художественный опыт, накопление вложенного труда на каждый метр павильонного пространства и создают тот сверхплотный одухотворенный материальный мир, который так великолепно делает Борисов.
Никогда в жизни не забуду декорации «номера Минского» в Демутовом трактире нашего «Станционного смотрителя». Мало того что он был отлично придуман, сконструирован, прелестен и сложен по архитектурному замыслу, удобен для мизансценирования, красив живописно… Саша еще и всю огромную белую двухстворчатую дверь номера разрисовал мельчайшими пушкинскими рисунками. Ведь Пушкин не раз еще в свои веселые холостые дни останавливался у Демута, так что само по себе это уже было точно и сильно придумано: словно бы Пушкин сам оставил нам вещественный знак своего здесь пребывания. Но помимо того, что хорошо придумано, это еще и безукоризненно выполнено: сама по себе створка двери была превосходным произведением станкового живописного искусства. Одной этой створки двери хватило бы, чтобы признать в ее авторе превосходного мастера.
Когда снимали эту декорацию, внезапно заболел и слег в больницу Леня Калашников. Павильон не мог простаивать – в те времена на «Мосфильме» шел непрерывный имперский производственный конвейер: одна картина сменяла другую, отснятую декорацию незамедлительно рушили.
Наш директор на «Станционном», административный гений, покойный Виктор Исаакович Цируль, вызвал меня:
– Старик, мы не можем стоять. Простоя из-за оператора нам не позволят. Бери другого.
– Как другого? Сложнейший объект!
– Говорю, бери другого…
И я упросил снять этот объект Володю Чухнова, прямо дома с кровати его поднял.
Человек Володя был прелестнейший, очень хороший оператор – мы снимали с ним чеховское «Предложение», но опыта и мастерства Калашникова у него не было, да еще его сбил с толку Лебешев: случайно перед нашей съемкой они встретились в мосфильмовском коридоре.
– Куда идешь? – добродушно поинтересовался Паша.
– К Соловьеву. У него Калашников заболел.
– Только смотри не пересвети, – мефистофельски предупредил Паша. – Они на «Кодаке» снимают, это страшная пленка. Я вчера снимал при одной шестидесятиваттной лампочке – в светах жуткие передеры!
Володя пришел в павильон. Огляделся.
– Так! Ну-ка зажгите-ка свечи…
Зажгли свечи.
– Что-то очень светло. А там на потолке что горит? Дежурный свет? Ну-ка отключите…
С переляху, горя молодым бесшабашным энтузиазмом, Володя огромный павильонный объект снял при свете свечей. А ведь павильон-то был сделан с бесконечным количеством мелочей! «Всесильный Бог любви! Всесильный Бог деталей!» – вполне уместно по этому случаю вспомнить из Бориса Леонидовича Пастернака. Мы преспокойно уехали в Ленинград, не дожидаясь материала, павильон же по тогдашним правилам немедленно сломали. Через три дня я позвонил в Москву Борисову:
– Саша, материал видел?
– Видел.
– И что?
И тут тишайший, в жизни мухи не обидевший, Саша сказал:
– Этого я не допущу…
– Чего?
– Там только язычки пламени, светлый кусок под левым глазом у Михалкова, а все остальное – черный бархат. Словно не было никакой декорации. Этого я не допущу!..
Ясно было, что произошла чудовищная катастрофа, павильон уже сломан, вся кропотливейшая, рукодельная работа Борисова порушена, выброшена, снесена…
Я остановил съемки в Ленинграде, немедленно полетел в Москву. Билетов не было, как-то удалось уговорить летчиков взять меня; взлетать и приземляться пришлось в туалете, верхом на унитазе – другого свободного сидячего места на борту просто не было. Ужасно тяжело снимался «Станционный смотритель»! Маленькая вроде картинка, а так мучительно почему-то на ней все давалось! Все рушилось, летело к черту, шло наперекосяк!
Посмотрел вместе с Сашей гробовой этот материал. Катастрофа. Черный бархат с дырками.
– Я тоже этого не допущу.
Вся смета на картину была сто пятьдесят шесть тысяч рублей. Мы пошли к Цирулю. Счастье, что директором был он. Во-первых, директором он был действительно гениальным (одно «Неотправленное письмо» чего стоило!), а во-вторых, они с Борисовым работали вместе и на «Чайковском», и на «Анне Карениной».
– Витя! – запричитали мы. – Мы не можем погубить парня, сказать, что Чухнов снял брак: он ни в чем не виноват, у него даже времени на пробу пленки не было. И оставить материал в таком виде тоже невозможно. Без этого объекта картина не существует.
– От меня вы чего хотите?
– Умоляем! Придумай что-нибудь! Павильон нужно еще раз построить…
Витя посмотрел на своего старого приятеля Борисова как на умалишенного:
– А ты-то откуда возьмешь силы еще раз все это сделать?
– Это мое дело…
Удивленно пожав плечами – а удивлялся Витя крайне редко, – он еще раз каким-то чудом, обманув всех, провернул заказ на эту же декорацию, оформив как декорацию для «Укрощения огня» (Цируль параллельно вел и эту огромнейшую продукцию, только благодаря этому у нас по деньгам сошлись концы с концами). А Саша от начала до конца свинтил заново Демутов трактир и еще раз оклеил его и обставил, и стащил необходимый реквизит, и вновь тщательнейшим образом разрисовал все двери пушкинскими рисунками. Все было сделано по второму разу как под кальку, и даже еще совершеннее и лучше.
Леня вышел из больницы, все тончайше переснял, все вошло в картину, все на экране видно.
– Теперь другое дело! Теперь ломайте сколько хотите!
С самого начала совместной работы мы никогда особо не концентрировались на предварительном эскизе декорации. В ту пору очень модно было сделать красивый эскиз, отлачить его, окантовать, повесить в режиссерском кабинете, пить под ним кофе. Все ходили друг к другу, восхищались: «О, какой у тебя эскиз!» Мне тоже, конечно, охота было побаловаться чем-то таким, но, увы, никогда не получалось. Все наши с Сашей эскизы были сугубо рабочего свойства, делались на каких-то обрывках, огрызках, чуть ли не на спичечных коробках, карандашом – не эскизы, а черновые рабочие почеркушки. И делались они исключительно для того, чтобы уяснить реальные объемы, реальные масштабы предстоящей задачи. При этом у Саши есть выдающиеся эскизы, он превосходный станковист, но совершенные эскизы эти почти всегда, за редкими исключениями последних лет, пишет задним числом, когда уже раскуроченная декорация стала фактом прошедшего. Потому-то, мне кажется, они так чувственны и пронзительны, эти его ностальгические эскизы: они – уже воспоминание об утраченном гармоничном и ласковом мире, и оттого выражают великую тему любого искусства – тему навечно утраченного рая. Рай же этот он всегда сам, своими руками, и строил, и создавал, и недолгое время был в нем счастливым жильцом…
Приступая к «Ста дням после детства», мы приехали посмотреть «настоящий пионерский лагерь» – между серых асфальтовых дорог стояли скучные бетонные коробки, среди которых бродили такие же скучные пожилые пионеры. Саша сказал сразу:
– Давай попробуем ковырять с другого конца. Ты же пишешь, что лагерь располагался в старой русской усадьбе. Давай смотреть усадьбы… Найдем усадьбу, а пионеров к ней уж как-нибудь прилепим…
И мы отправились в поездку по усадьбам. В отличие от той булычовской романтической поездки, эта была одной из самых горьких. Хотя поначалу мы и на этот раз точно так же беспечно сели в «рафик», взяли академический справочник-указатель «Люби свой край родной» и поехали по указанным в нем русским усадьбам. Страшная была поездка. Мы увидели, во что превратилась великая усадебная Россия! А ведь Россия была некогда почти полностью усадебной страной, и Москва до 1812 года вся сплошь состояла из затейливейшего собрания множества небольших церквей и разнообразных усадеб. Потому она и считалась самым русским городом. Собственно городская планировка появилась в Москве как нерусская, в общем-то заемная не то у Петербурга, не то у Запада, только после трагического военного пожара…
До какой же степени развала, распада, оказалось, можно довести собственную великую страну, собственную уникальную культуру! Не было ни одной усадьбы, вдохновенно не опохабленной, не изнасилованной скопищами отечественных дегенератов. Усадьбы были разграблены, брошены, необитаемы, окна выбиты, во всех углах по-хамски нагажено, экскременты превратились в окаменелости, все стены разукрашены новейшим российским говном, мерзкой похабщиной на «великом и могучем» и другой, на любой выбор немыслимой, гадостью писаний и рисунков, многие вообще сожжены и пожарища развалены. Наверное, такой вот вид имели города, отданные неким мерзавцам-победителям на разграбление. Поездка по усадьбам оставила ощущение истерзанной России – порублены сады, обгажены, спущены великолепные пруды, превратившиеся в зловонную, вязкую, вонючую жижу…
Было лето, вокруг все цвело и благоухало, от одной усадьбы мы ехали к другой, от одного человеческого могильника к другому. Я просто был болен от этого зрелища. Очень скоро мы с очевидностью поняли: того, что ищем, не найдем никогда.
Саша сказал:
– Все нужно строить… Все. От начала и до конца. Будем строить. И ворота в поле…
– Ну, усадебных ворот-то, Саша, разбитых навалом…
– Они не так разбиты… Они разбиты свински, омерзительно. Пусть будут ворота в поле, какие у тебя написаны. Ничего, построим. Танцверанды тоже, конечно, есть, но и в них какая-то гадость… И танцверанду построим. Купальню…
– Зачем?
– Чтобы было так, как у тебя в сценарии… Там все правильно написано. Ты сам перечитай. Все объекты нужно ставить так, как в России ставили храмы: сначала найти идеальный пейзаж, а потом аккуратно вставлять в него то, что необходимо по сценарию. Иначе никак не получится. Все до такой степени испохаблено, что справиться с этим уже нельзя. Будем искать пейзажи – это все, что нам осталось…
Мы поехали искать натуру снова. И тут уже не переставали восторгаться. Господи, вот эта рощица ив – да это же чистый Дерен! Там – венециановское поле. Вот сезанновская коса желто-красного песка в темно-синей реке. И крымовские почти черные деревья, отягощенные спелой листвой. В картине про пионерский лагерь начинала возникать вторая реальность, параллельная бытовому рассказу – это и есть, наверное, искусство. Казалось бы, таких лагерей, разместившихся в старых усадьбах, повсюду хватало. Зачем эта мучительно складывающаяся новая реальность, зачем нелегкий и для нас, и для зрителя, переброс в некий параллельный мир? Бери и снимай реальность первую, готовую, натуральную. Ничего подобного! Свинская, хамская натура насильника и растлителя, резвившегося в этих украденных усадьбах, даже если они были потом отданы под пионерские лагеря, все равно о себе кричала бы… И тут уж ни про что, кроме как про эту сатанинскую натуру, снимать нельзя. Но это уже другое, это публицистика, даже слабый привкус которой изначально калечит и убивает любое искусство.
В итоге Борисов своими руками построил все – весь комплекс необходимых для картины строений среди идеальных пейзажей русского лета. Для купальни нашелся кусок реки – с ивами на берегу, с крохотным песчаным пляжем-отмелью километрах в сорока от Калуги. Расстояние немалое, лучше бы поближе к городу, где группа обосновалась. Но мы, как некогда наши пращуры строили там, где Саша находил тот самый идеальный пейзаж. И длинной кавалькадой автомобилей, автобусов, набитых разморенными детьми, ездили за этой нерентабельной идиллией каждый день сорок километров туда и обратно.
А когда до этого было еще довольно далеко, помню дивную подготовительную картинку – Саша сидит в траве на берегу речки в кружевной прохладной тени прибрежной ивы, кепка набок, пиджак, ботинки, тщательно курит «Яву», в портфеле у него бутерброд с плавленым сырком, яйца вкрутую, изрисованные блокноты и множество исчерченной миллиметровки. Продрогший декоратор, с синими, губами, с раннего утра сидя напротив него в речке, то, булькая, уходит под воду, каждый раз кажется, навсегда, то, выныривая, преданно ищет маэстро глазами и, получив одобрительный кивок головой в кепке, опять булькает и исчезает, вколачивая колышки на дне в те места, где потом будут вбиты сваи для купальни, будет уложен сверху настил. В декорации купальни и танцплощадки не было ни одной новой, свежеоструганной доски с мосфильмовской лесопилки – Борисов ездил по брошенным деревням, искал «ничьи избы», разваленные сараюхи, их разбирали. Седые, выветренные долгой жизнью доски использовали как строительный материал. Даже гвозди Борисов старался брать из тех же древних, отслуживших свое построек…
Борисов, мне кажется, – человек, вообще не поддающийся влияниям. Он с большим уважением и пониманием относится к работам коллег, ровесников и товарищей – восхищается вещами Абдусаламова, внимательно смотрит Ромадина, Двигубского, Бойма, но никогда в жизни никому не пытается подражать, ни тем более копировать, всегда хранит полную художественную независимость, опять-таки основанную только на эстетической санитарии собственного «я». Чужим влияниям он не поддается вовсе не потому, что старательно их избегает. Он просто очень четко разделяет необходимое и естественное для себя и чужое, пусть превосходное, но ему как бы не нужное. От работы на нескольких моих картинах он отказался под очень вроде бы смешными предлогами. Когда возник проект картины с японцами, Саша сразу сказал:
– Русскую часть я тебе сделаю, а для Японии давай найдем тебе кого-нибудь другого…
Дело было в 1974 году, никого даже за Садовое кольцо не выпускали, а тут сказка – Япония, да еще и можно было заработать какую-то валюту, сильно и надолго поддержать штаны…
А он, действительно с сожалением чихнув на поддержание штанов, построил для фильма под Ленинградом замечательную дачу в Лисьем Носу, взял остов какой-то развалюхи, а все остальное пристроил к ее убогим стенам. Место было исключительное, дача так красиво смотрелась среди финского пейзажа. Но вытащить Борисова в Японию оказалось делом совершенно невозможным.
– Ну, почему? – чуть не кричал на него я. – Тебе что – неинтересно?
– Почему? Интересно. Но не поеду. Перебьюсь. Не хочу.
В те времена кандидатура каждого утверждалась в верхах, загранпоездка почиталась невесть откуда свалившимся счастьем, и наградой, и высшим признанием производственных заслуг. Заместителем директора студии был тогда Николай Александрович Иванов, человек суровый, из военных – все ходили к нему жаловаться, что их не берут в Японию.
– Не берут, и правильно делают, – резал в ответ Иванов. – Незачем! На Родине дел невпроворот!
В этой же череде обиженных пришел к нему и Борисов.
– Я в Японию не поеду. Я уже говорил Соловьеву…
– Как это не поедете? Поедете как миленький!..
Бедный Коля даже не мог уразуметь, о чем речь, орал на тихого Борисова так, будто тот клянчил поездку в Японию, пока до его начальнического сознания наконец не дошло, что дело обстоит совсем наоборот.
– Почему, Саша? – удивился, поняв, Николай Александрович.
Почему Саша тогда не поехал? Думаю, потому что – чужое. Хорошее, красивое, изумляющее, поражающее – но чужое. Ничего чужого он до себя не допускает.
– Понимаешь, – сказал он мне потом, – если бы у тебя это было бы в Венеции или еще где-нибудь в Италии, или в Лондоне, я бы, конечно, поехал. А в Японии – нет. Не мое. Поздно, наверное. И не нужно.
Точно так же он не поехал в Америку. Причина та же. «Не хочу. Не интересно». Поразительно точное санитарное деление на то, что его художественный организм принимает и усваивает, и на то, что не принимает, даже отторгает. При этом он преисполнен глубочайшего уважения к японской культуре, живописи, с удовольствием может полистать альбом Хокусаи, с интересом относится к Хопперу… Красиво – да, изысканно, но не его… По этому дикому для других критерию чужда ему и Америка. И бесконечно родные Флоренция, Венеция, Рим, Париж. Про Россию не говорю. Странность? Не думаю. Я его чрезвычайно уважаю именно за эту изначальную сформированность интересов. «Просто так» у него ничего не бывает. Допусти он хоть раз неразборчивость, отставь хоть на время свой защитный кордон, эта антисанитарная стихия всеядности действительно могла бы в него проникнуть, развалить изнутри, разрушить…
В своей среде Борисов пользуется огромным уважением. Когда я работал с Левенталем над «Дядей Ваней», Борисов должен был зайти по каким-то делам к нам в Малый театр, что-то я ему должен был подписать, что ли.
– Сейчас должен прийти Борисов, – вдруг вспомнил я в разгар монтировочной репетиции. И сразу почувствовал, как встрепенулся Левенталь:
– Шура придет?
– А ты его откуда знаешь?
– Здрасьте! Шура меня научил рисовать…
Не знаю уж, как и при каких обстоятельствах Саша мог учить рисовать академика живописи Левенталя, они почти ровесники, но редчайшую у маэстро бесконечную почтительность отношения ощутил немедленно.
Мы уже сделали с Сашей с десяток картин, собираемся работать вместе и дальше: существуют, например, поразительные эскизы к театральной постановке «Идиота» Достоевского, которого я некогда собирался ставить на Таганке. Отличительное свойство Борисова-сценографа: он совершенно не хочет выглядеть своим среди театральных коллег. Его совершенно устраивает положение кинематографического моветона в сегодняшнем театре, некоего чудака, затесавшегося случайно и ненадолго в незнакомую теплую компанию. Во времена, когда все варят на сцене какие-то конструкции из стали и чугуна, осваивая конструктивистские зады Мейерхольда 20-х годов, рассуждают о биомеханике как об особой театральной богеме, Саша проявляет обычную свою независимость. Его работы на общем фоне кажутся старомодно-оперными, при том что оперность эта причудливо соединена еще и с поп-артовскими элементами жесткого натурализма. После «Чайки», которую вместе с ним мы лет пятнадцать тому назад сделали на Таганке, уже можно говорить о некоем вполне самостоятельном художественном явлении, именуемом «сценографический мир Александра Борисова». Не говорю уже о сделанном до того в кино.
Недавно Саша помог мне в архитектурном дизайне дома, который я затеял построить на Истре в Снегирях. Мы подошли к этому делу точно так же, как подошли бы к строительству очередной декорации. Только сейчас для жизни. Я примерно набросал, что бы мне хотелось, потом Саша взял мои каракули, аккуратно, разумно и практично их перелопатил, прорисовал. Он, как бы сам ничего не сочиняя, просто добавил какие-то детали, архитектурную породу, благодаря которой постройка стала вся «по мне». При всей своей доподлинной, с добыванием песка, бетона и голицынского кирпича, строительной реальности благодаря прикосновению Сашиной руки она обрела несколько надреальный, не совсем даже бытовой характер. Это самое дорогое для меня во всем, что Саша делает.
В последнее время многие наши сценарные профессионалы, слегка повредившись в уме на кинематографическом совершенстве Голливуда, голливудской техники, голливудских методов работы, перестали записывать свои сценарии так, как писали их раньше: небольшие повести или рассказы на хорошем русском языке. Сценарий был частью русской литературы, пусть и излагался, по преимуществу, довольно специфической глагольной прозой, но все же прозой, в которой точно были прописаны диалог, действие, атмосфера, душевная жизнь автора и героев. Вместе с рыночной экономикой возобладало и холуйское убеждение, что свои сценарии мы должны записывать по-голливудски: производственный свод сцен и сценок, где каждый объект предваряет денежная надпись типа: «Натура. Подъезд тети Софы. Вечер. 26 метров». Далее следует информация, кто стоит в подъезде тети Софы, а следом за ней – диалог:








