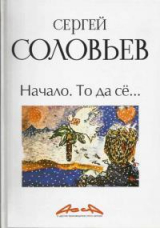
Текст книги "Начало. То да сё…"
Автор книги: Сергей Соловьёв
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)

Григорий Михайлович Козинцев
А в то время Козинцев готовил съемки «Гамлета». Случайно оказавшись у него на съемке, я набрался нахальства и подошел к Григорию Михайловичу.
– Сколько вам лет?
– Семнадцать. Я хочу поступать во ВГИК.
– Знаете, я вам не советую, – сразу, ни секунды не думая, сказал мне Козинцев. – Вы сейчас в связи с крайне молодыми годами можете сорваться, провалиться на экзаменах и получить такую эмоциональную травму, что потеряете веру в себя. Ну, как бы вам подоходчивее это объяснить?.. Знаете, вот допустим, в какой-нибудь случайной свалке человек однажды получит по голове, а потом боится уже любой драки. Вам бы немного еще поокрепнуть, и тогда уже…
Так как от своего намерения я отказываться не собирался, что, вероятно, Григорий Михайлович почувствовал по тупому упрямству моей физиономии, он добавил:
– А вообще, глядите сами. Я сам в четырнадцать лет начинал и долгое время думал, что так и надо. Но вот теперь мне скоро шестьдесят, и, на мой теперешний взгляд, начинать так рано все-таки не совсем серьезно. Я бы вот вас, наверное, не взял. Ради вашего же блага. Когда я начинал, все-таки время было другое.
– Время всегда другое, – тупо упрямился я.
– А кто будет курс набирать? – спросил Козинцев, видимо почувствовав, что переубеждать меня бесполезно и бессмысленно.
– Михаил Ильич Ромм.
– Замечательный, замечательный, замечательный человек, – сказал Козинцев, и мне запомнилось, что сказал он именно так, трижды повторив «замечательный». – Он умница. Он один из немногих, кто, во-первых, читал стенограммы лекций Эйзенштейна во ВГИКе, а во-вторых, что еще важнее, он их понял. Таких я вообще почти не встречал. И все-таки спокойно подумайте, поступать вам в этом году или не поступать. Это я вам со всей симпатией говорю.
Я с Козинцевым был не согласен, но говорить с ним мне понравилось. Еще до встречи с ним из всех вгиковских педагогов, про которых я слышал, я почему-то заочно уважал его и Ромма. Ну а уж раз Козинцев мне отказал, то вроде как и к Ромму ехать особого резона уже не было. И все же отчаянная моя решимость поступать, и именно в этом году, и именно в этом «нежном возрасте», не убавилась. Я уже был поглощен тонкими и главными для любого вгиковского абитуриента вопросами: какую вступительную работу писать, как вообще готовиться к экзаменам? Известно, какое количество легенд окружает процедуру вступительных экзаменов на режиссерский факультет ВГИКа. Абитуриенты пугают друг друга, рассказывая, что кто-то представил в качестве вступительной работы экранизацию «Капитала» Карла Маркса, а у кого-то спросили, сколько ступенек на Одесской лестнице и какого цвета набедренная повязка кого-то из незначащих фигурантов в ивановском «Явлении Христа народу». Все эти страхи, помноженные еще на мрачное предупреждение Козинцева, не могли меня не мучить. Как запомнить количество ступенек на лестнице из эйзенштейновского «Потемкина» и нужно ли вообще это запоминать? Вероятно, дело мое – дрянь, и я действительно провалюсь.
Пережив все эти ужасные муки, я пришел к выводу, что буду писать, говорить и делать только то, что знаю и умею. И только это. Поэтому в качестве вступительной работы написал не «режиссерскую разработку», не «случай из жизни», а очень простую историю, которую назвал «Светало». Рассказывалась в ней про то, как рано утром идет по берегу моря старик (обыкновенный, много и трудно поживший на белом свете старый человек, ничуть не похожий, скажем, на возвышенных, одухотворенных «дидов» из фильмов Александра Довженко). Он несет на руках мальчика, который еще не проснулся, а за ними ковыляет слегка ободранный петух. Вовремя и совершенно обыкновенно восходит солнце, старик садится на пляжную гальку, закуривает, мальчик входит по пояс в море, петух чуть фальшиво, но честно поет зарю. Все.
Изложено это было на шести страничках, раскадровано в восемнадцати кадрах. В любом из них я досконально знал каждый миллиметр пространства – все, все, все. И из какого материала штаны на старике, и на каком пальце у него сломан ноготь, какие пуговицы на его рубахе, что лежит в карманах, как он закуривает, какого цвета петух. Отослал эти шесть страничек заказной бандеролью «на творческий конкурс» и ждал ответа. Но тем не менее очень изумился, когда ответ наконец пришел. Мне сообщили, что предварительный конкурс, оказывается, я прошел и к экзаменам допущен.
Мама, которой я рассказал про предостережения Козинцева, собирая меня в дорогу, сказала: «Человек тебе желал добра, когда советовал не поступать. Но тем не менее ты, конечно, слетай туда денька на два, посмотри, как там все происходит, а уж по-настоящему будешь поступать когда-нибудь потом». Она положила мне в старую папку на молнии четыре бутерброда, чистую белую нейлоновую рубашку, трусы и две пары носков. Я сел в «Ту-104» и через час прилетел в Москву.
Доехав до ВГИКа, еще внизу, в толпе, окружавшей вахтера, узнал, что в этом году на режиссерский факультет в мастерскую художественного фильма было подано три тысячи заявлений, триста человек прошли конкурс, принято будет одиннадцать. Статистика была гробовая, очень ясная, никаких надежд не оставлявшая. На душе тем не менее сразу даже стало легче. Я пошел наверх, в кабинет режиссуры, – отметиться все-таки на всякий случай. Не зря же вообще приезжал.
Добравшись до кабинета, сказал фамилию и номер, под которым были работы, девочки стали отыскивать документы, нашли и вдруг зашушукались: «Это тот, который про петуха…» Значит, какая-то известность, пусть и подозрительная, которую некогда снискал с помощью чтения «Стихов о советском паспорте», у меня уже есть и, чем черт не шутит, может, не все еще окончательно потеряно, может быть, какие-то покуда непонятные мне шансы у меня все же имеются. И уже только потом я узнал, что на моей вступительной работе карандашом стояла приписка Михаила Ильича с просьбой довести меня до третьего тура.
Девочки тут же поинтересовались, есть ли мне где жить. Жить мне было негде – они выписали мне квиток – как потом оказалось, квиток в будущую жизнь. А тогда я думал – просто место на койке, где смогу переночевать. Мне назвали адрес вгиковского общежития, объяснили, что надо сесть на 56-й автобус, доехать до городка Моссовета – я аккуратно все записал на бумажке. Сел в указанный автобус, доехал до остановки «Почта», вышел у почтового отделения И-128 (куда потом я ходил получать денежные переводы от мамы), было шесть вечера, лето, теплынь. Окна домов были открыты. На подоконниках стояли (тогда была такая мода) проигрыватели, магнитофоны, неслась музыка. Было жарко.
На газоне шумели дети, плакали голые малыши в колясочках. У большой бочки с квасом толпился народ. Разливала квас тетка в нечистом халате, возле нее стоял парень в сандалиях на босу ногу, в синих подвернутых тренировочных шароварах, голый по пояс. Грозным, хотя и красивым, хорошо поставленным голосом, выразительно вращая глазами, он говорил, обращаясь к продавщице, но одновременно беря в свидетели и очередь:
– Ай-ай-ай, за жалкую кружку кваса тебе дают в залог комсомольский билет! А ты его брать не хочешь! Комсомольский билет! Тебе не стыдно? Совесть у тебя есть?
Монолог этот произвел на меня впечатление. У продавщицы совести не оказалось, комсомольский билет она не взяла, но кружку кваса отцедила. Какая-то интуиция подстегнула меня, я обратился к полуголому атлету:
– Не скажите, как пройти к общежитию ВГИКа?
– Пойдем вместе. Я там живу…
Так я познакомился с будущим последним министром культуры Союза ССР, замечательным актером и режиссером Николаем Николаевичем Губенко…
На первом экзамене Ромма не было – экзамен принимал Лев Владимирович Кулешов.
Это само по себе было страшно: про него говорили, что в молодости он вообще изобрел кинематографический монтаж. Кулешов попросил меня почему-то рассказать ему, как я представляю «детский сад летом». «Где – в городе или в деревне?» – опешил я, а Кулешов пожал плечами: «Ну, пусть будет в городе». Срывающимся голосом я изложил такую картину: мол, раскаленный, полопавшийся асфальт, пересохший фонтан, из которого не брызжет вода, и черная кошка, расхаживающая по бетонному кругу около фонтана. «А где дети?» – спросил Кулешов. «Нету детей, – ответил я. – Жара, пылища. Их увели куда-нибудь в тень». – «До свидания», – сказал Кулешов без всякого восторга, но и без осуждения, и мы мирно с ним расстались. Я был убежден в том, что экзамен я провалил, однако карандашная почеркуха Ромма делала свое дело – мне велели прийти на письменную работу.
К ней оставили нас ровно столько, сколько могли напихать в самую большую вгиковскую аудиторию – не то шестьдесят, не то семьдесят претендентов. Главный экзаменатор (как я потом узнал, это был Евгений Николаевич Фосс, очень славный человек и хороший педагог, ученик Эйзенштейна) предложил нам для написания тему: «Встреча на дороге или в поезде, при которой самый главный разговор не смог состояться». На написание всего этого давалось шесть часов.
Первые два из них я провел в каком-то сумеречном и удушливом бреду сочинительства. Сюжеты, упорно лезшие в голову, были ужасающи, но избавиться от них никак не удавалось. Помню, все мерещился почему-то какой-то однорукий фронтовик-циркач, который что-то демонстрировал на трапеции в уездном городе (именно так я думал – не в районном, не в провинциальном, а почему-то именно в уездном), где вдруг его узнавала любимая девушка, по случайности оказавшаяся среди публики. Я до сих пор помню вязкую тяжесть этого тяжелого, навязчивого кошмара. Одновременно помню и ясное понимание того, что ничего, кроме стыда, этот сюжет мне не принесет; никогда я не знал ни циркачей, ни цирка, в уездных городах не бывал, и каким образом все это втемяшилось мне в голову, да еще в такой ответственный момент, я не мог себе представить и ощущал позорное бессилие сойти с этого гибельного пути. После двух часов изнурительной борьбы с самим собой и с одноруким циркачем, я отпросился покурить, и вдруг на лестнице все мгновенно сообразилось, будто бы даже помимо моих мозговых усилий.
Вернувшись, на полутора страничках я изложил примерно такую историю: зима, у дверей сельпо стоят запряженные сани, в санях маленький мальчик, мать которого ушла в магазин. Улица пуста, солнце, полдень, мальчик хочет, чтобы лошадь сдвинулась с места, но не знает, как это сделать – «тпрукает», «нукает» – лошадь стоит. Он пытается с ней разговаривать, пробует наклонить ей морду, что-то шепчет ей на ухо, цокает, но ничего сделать не может. Выходит мать, целует мальчика, кидает его в сани, дергает вожжи, и лошадь трогается, бежит… Все условия задания соблюдены – есть и дорога, и встреча, и самый главный разговор, который, конечно же, не мог у мальчика с лошадью состояться. И даже праздник какой-то, из другого условия проникнувший, тоже, кажется, получился: синий снег, отражающий ясное небо, одеяльце из разноцветных кусочков, которым перевязан мальчик, мороз, тишина…

Коля Губенко
История сама по себе, как видите, скромная, и если и есть у нее достоинства, то они в том, что в трудных, если хотите, экстремальных условиях выживания мне удалось избавиться от навязчивого циркача.
Впрочем, какие-то маленькие кусочки в ней, пожалуй, и взаправду получились. Я сдал работу первым и ушел из института в полной уверенности, что написал хорошо. Через два дня, когда перед сочинением выдавали экзаменационные билеты и я хотел получить свой, мне сказали: «А вам нет». – «Как нет?» – «У вас два». Я немного поприставал с расспросами к счастливцам, допущенным к экзамену: о чем писали? Выяснилось – в основном об одноруких циркачах. Но делать было нечего. Все пошли писать сочинение, я – забирать документы. На душе было исключительно погано.
Подоплеку всего случившегося я узнал значительно позже. Оценки по письменной работе выставлял Евгений Николаевич Фосс, бывший ассистент Эйзенштейна, очень эрудированный человек. Прочитав мой рассказ, Фосс споткнулся о фразу «От нее пахло яблоками» и решил, что все целиком я где-то списал. Ему показалось – у Пришвина (это могло быть даже лестно, если бы не было так нелепо), за что он и выставил мне два балла.
Однако судьбе было угодно распорядиться так, что к началу третьего тура я так и не успел вернуться в Ленинград и на собеседование все же был вызван. Я мог бы так и остаться при своей двойке, если бы, внеся мой экзаменационный листок, Фосс не поделился своей радостью с Михаилом Ильичем.
– Сейчас зайдет парень, – предупредил он, – совсем молоденький, но большой жулик. На предложенную тему ухитрился просто целиком списать пришвинский рассказ. Уж не знаю, как он его заучил или с собой принес…
– Постойте, – заинтересовался любопытный Ромм, – так все-таки заучил или с собой принес?
– Этого я не знаю, – сказал Фосс, – знаю только, что списал.
Ромм взял мою работу, почитал, говорит:
– Евгений Николаевич, чтобы наша совесть была чиста, пойдите сейчас, пожалуйста, наверх, в библиотеку, найдите рассказ. Лишние десять минут ничего не значат, а нам будет интереснее экзаменовать.
Спустя какое-то время Фосс вернулся из библиотеки и сказал:
– Мне кажется, это не у Пришвина.
Тут Ромм рассердился, хотя Фосса любил, они работали вместе много лет.
– Вы понимаете, что делаете?! Вы подумали о том, что сейчас у парня на душе происходит? Может, мы сейчас нанесем ему такую травму, после которой он вообще до конца жизни не встанет…
Фосс подумал и сказал:
– Я спутал. Это не у Пришвина, а у Паустовского. Точно, у Паустовского.
От неловкости создавшейся ситуации писательские мои стати на глазах росли. Если бы Константин Георгиевич знал, какую в общем-то невинную чепуху, стремясь во что бы то ни стало отстоять ошибку, записали в его прозу!
Ромм отправил Фосса искать у Паустовского или у любого другого писателя – не важно, лишь бы рассказ был найден – и объявил обед. Фосс перекопал всю библиотеку, но никакого такого рассказа, конечно, не нашел, поскольку быть его там не могло. И когда он сказал об этом Ромму, тот вспыхнул:
– Если вы, образованный человек, могли писания этого мальчика, пусть и в запале, принять за Паустовского и Пришвина, то, наверное, его все-таки стоит взять… Что мы теряем? Вам приходилось когда-нибудь слышать, как поют под Утесова… Или под Шульженко… Иногда так похоже, что жуть берет. Но занятно. Ей-богу, занятно… Если даже его способности только этим и ограничиваются, пусть и нам некоторое время будет занятно… А может, и нет – не только этим… Как знать…
Я вспомнил эту историю не только потому, что в тот миг решилась моя судьба. Меня поразил Ромм. Ну кто я ему? А Фосс – многолетний товарищ. И абитуриентов в коридоре – пруд пруди. Сомневаться, докапываться, сердиться, ссориться, тратить время, нервы… Зачем?
Конечно же, не в моей испуганной абитуриентской писанине, которую с переляху приняли бог знает за что, было дело. А только в этом – чтобы совесть была чиста. И передо мной – неизвестным ему мальчишкой, и перед многими другими, с которыми прожил Ромм свой трудный век. Этим он и жил все последние годы – те, в которые я имел счастье его знать.
Что же до Евгения Николаевича Фосса, то с ним у меня установились самые добрые отношения, но каждый раз, когда мы встречались, уже и после института, он непременно спрашивал: «Так от кого там пахло яблоками?» Экзаменационный листок с переправленной Роммом двойкой и его росчерком я из института выкрал и храню дома как дорогую реликвию, как память о том, что предсказанная мне Григорием Михайловичем Козинцевым травма, которая по всем законам античной драмы должна была на меня обрушиться, уже почти меня настигла, но только благодаря Михаилу Ильичу, вовремя успевшему ее отвести, просвистела рядом с виском. А сколько таких травм он отвел! И сколько людей об этом благодарно помнят! Так что уже по одному этому чту его своим крестным отцом, не говоря уже обо всем, чем ему обязан.
МАСТЕРСКАЯ РОММА
Годы, когда я учился во ВГИКе, были довольно хорошим временем. В институте, по существу, несмотря на вечное внешнее вгиковское раздолбайство, все-таки царила серьезная, деловая атмосфера художественной требовательности – школярством не пахло. А те дипломные работы, которыми защищались тогдашние выпускники, демонстрировали не просто ремесленное умение смонтировать общий план со средним или наоборот, но зрелость головы, уверенность мастерства, неповторимость индивидуальности. Тогдашние вгиковские дипломы и экранные дебюты одновременно составляли главную гордость текущей продукции кинематографии тех лет. Это были «Зной» Ларисы Шепитько, «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!» Элема Климова, «Эй, кто-нибудь!» Андрея Смирнова и Бориса Яшина, «Свадьба» Михаила Кобахидзе, «Живет такой парень» Василия Шукшина. Помню первоклассные актерские работы Губенко в спектаклях «Карьера Артуро Уи», «Борис Годунов», которого он ставил (эта постановка в силу разных причин, к сожалению, не была доведена до конца, но по всему чувствовалось, что могла бы быть действительно впечатляющим художественным произведением). Все это рождало ощущение, что нас взяли сюда не затем, чтобы начетнически заучивать навыки ремесла, но для того, верно, чтобы вместе с нашими учителями мы попытались всерьез жить в искусстве, приносить какие-то новые идеи, методы, образы, мысли.
И микроклимат внутри мастерской тоже был хорошим. Озонным, что ли. Любая художественная удача нашего товарища восхищенно воспринималась нами, но вдобавок к тому же больно била по твоему самолюбию, заставляла и тебя тянуться к тому же уровню. В мастерской вился дух живой творческой конкуренции, возникали и рушились авторитеты и опять-таки не по-школярски. Всерьез. Подчас все это имело характер по-настоящему драматический. Иногда мне кажется, что секрет вот такой атмосферы ныне напрочь и навсегда утерян – во всяком случае, ничего подобного позднее наблюдать мне не доводилось. А было все это необычайно полезно для формирования наших душ. Каждому из нас выпало пережить тяжелые, иногда казавшиеся безнадежными времена в арьергарде. И вдруг – удача, пусть робкая, малая, но твоя…
В недолговременные лидеры первого курса я выбился случайно.
Скорее всего просто от отчаяния. Мы ставили этюды. Поскольку у Станиславского есть постулат, что чувство играть нельзя, а играть можно только действие, через которое оно выражается, то Евгений Николаевич Фосс давал каждому из нас какое-либо чувство, а мы должны были перевести его на действие. Мне выпала «тоска». По обыкновению, поначалу в голову полезла какая-то унылая ерунда; вот-вот должен был явиться однорукий циркач на трапеции, отчего я действительно все больше приходил в состояние беспросветной тоски. И уже накануне предъявления этюда, доведенный до отчаяния собственным бессилием, в поисках спасения, попросил своих дорогих однокурсников лечь на кубы. Легли Володя Акимов, Митя Крупко, Валерий Сивак, Давид Кочарян. Я сам закрыл им глаза, сложил на груди руки. Среди этого антуража и выходил Витя Титов, в ватнике, с фонарем в руке и с колодой карт. Он тасовал колоду, совал карты в неподвижно сложенные руки сокурсников и начинал с ними резаться в подкидного дурака.
Перед объявлением каждого этюда Ромм просил нас сообщать, где происходит действие. Когда дошла очередь до меня, я вышел бледный и срывающимся гробовым голосом произнес: «В морге». – «Где?» – переспросил Ромм. «В морге», – цепенея, повторил я. После того как показ был закончен, Михаил Ильич встал и со свойственной ему безоглядной увлеченностью заявил, что это не просто хорошая студенческая работа, но… Дальше он говорил такое, что повторять это теперь невозможно, – когда Михаилу Ильичу что-нибудь нравилось, в своих похвалах он границ не знал. Под мое скромное, если не сказать убогое, творение он тут же подвел теоретический фундамент, отчего мне и впрямь на мгновение показалось: «А может, и в самом деле я набрел на золотую жилу?» И ведь верно – они, мои сотоварищи, напридумывали что-то там на вокзале, в театре, в кафе, а я, гляди-ка, – в морге!

Ученье – свет! ВГИК. 1962 год
Так я выбился в лидеры. Пусть случайно и ненадолго, но какая-то польза от этого тоже была. На крыльях этого нежданного лидерства я сделал первую серьезную работу. Ромма тогда увлекал документальный кинематограф, он считал, что каждый режиссер игрового кино должен пройти школу документалистики, и потому дал нам задание придумать репортаж. Тут я и сочинил сюжет с «Мадонной Литта» и с ее зрителями, который поначалу предполагалось снимать на учебной студии ВГИКа. Но в те годы существовала какая-то странная общегосударственная рачительность, по причине которой учебная студия ну никак не могла оплатить наши командировочные в Ленинград. У меня было продумано все – и как снимать, с каких точек, как скрыть от зрителей камеру, но денег у студии не было…
Об этой частной подробности я вспомнил в восьмидесятых, когда подобное грозило вновь произойти с моим студентом Рашидом Нугмановым. Он хотел снимать в Ленинграде тогда еще не известных почти никому молодых музыкантов-рокеров, но следом пришла бумага от Учебной студии, где объяснялось, что студия снимает только в Москве по причине отсутствия средств на командировки. Тут уже я взбеленился – и за себя (спустя четверть века), и за Нугманова – и сочинил в ректорат официальный ответ: «Знаю, что мы снимаем только в Москве, но на этот раз снимем в Ленинграде». Так появилась на свет картина «Йах-ха», героями которой впервые стали Борис Гребенщиков, Виктор Цой и другие славные ныне герои.
Ну а что касается сюжета с «Мадонной Литта», то Ромму было все равно – учебный ли это этюд или студийная работа, ему нравилась сама идея, и он считал, что она должна быть реализована. Возможно, что и «морг» тут свое дело сделал, и ошибка Фосса, но главное все же, думаю, было в самом сюжете. Он велел мне изложить все на бумаге в виде сценария, позвонил Соловцеву, тогдашнему директору Ленкинохроники, отрекомендовал меня и мой сценарий, и я поехал в Ленинград.
Встретили меня исключительно приветливо. И позднее, в пору моих крушений и бед, меня не переставало удивлять то, что всюду меня почему-то поначалу на редкость хорошо встречали. Мне дружески подмигивали, хлопали по плечу, говорили: «Сейчас договорчик подпишем» – почти как в «Театральном романе» Булгакова. Уже одно это магическое слово «договорчик» казалось решением всех моих проблем. Всех. В заготовленном договорчике, куда я краешком глаза успел заглянуть, стояла ошеломляющая цифра – 500 рублей. Немыслимые, невозможные деньги! Оставалось пойти к Соловцеву – получить его подпись.
Соловцев также встретил меня приветливо.
– История мне нравится, – сказал он. – Это свежо. Необычно. Хочу предложить только одну поправочку.
– Какую? – слабым голосом спросил я, мгновенно ощутив нехороший холодок ниже пояса.
– Ну, почему именно «Мадонна Литта»? – игриво спросил Соловцев. – Почему? Не лучше ли, чтобы они смотрели «Бурлаков на Волге» Репина?
Возразить вроде как было нечего.
– Ведь все же остается как у вас и было, – продолжал он. – Но зато какая тут трагедия народа! Вы понимаете, насколько поднимется вся картина? Там что? Религиозный сюжетец. А здесь – могучая трагическая правда русской жизни…
Я молчал.
– Ну как, автор согласен?
– Не-ет! – почти жалобно протянул я, не зная, как выразить свой хилый диссидентский протест.
Я действительно не знал, впрочем, как не знаю и сейчас, почему нельзя было поменять «Мадонну Литта» на «Бурлаков на Волге». Знаю только, что с «Литтой» будет хорошо, а с «Бурлаками» – плохо.
– Ну что вы молчите?
А на столе у него – мой договор, и в нем заветная пятерка с двумя нулями. Черт с ним, с двумя, и один бы, но сразу и без разговоров – тоже было бы неплохо. Стоит только мне кивнуть головой, и эти безумные деньжищи у меня в кармане.
– Сергей Александрович, – продолжал Соловцев, – ну, не нужна вам эта несговорчивость в самом начале творческого пути. У вас все так хорошо складывается! Вас так замечательно охарактеризовал Михаил Ильич! Мы так вас приняли! Ну, соглашайтесь на «Бурлаков», и я подписываю.
– Нет. Не могу.
Это был самый диссидентский поступок за всю мою кинематографическую жизнь.
– Но почему?
– Не знаю почему. Знаю, что не могу.
– Ну, тогда мы с редактурой еще подумаем, а пока я договор не подпишу.
– Хорошо, – согласился я, – пусть так!
Не могу сказать, что я этим поступком гордился. Скорее напротив, было ощущение, будто муху сжевал.
Через день мне позвонили, сказали:
– Зайдите. Соловцев подписал договор.
Сценарий «Взгляните на лицо» был принят, поставлен.
Снимали начинавшие тогда Павел Коган и Петя Мостовой. Им я очень благодарен за эту картину, за то, с какой любовью, серьезностью, вкусом она снята. И все же не могу не вспомнить, что в следующей же своей работе они сделали ту трагическую ошибку, к которой склонял меня Соловцев и допускать которой было никак нельзя. Они взяли из «Взгляните на лицо» прием и перенесли его на сюжет о смотрящих в Мавзолее на мумию Ленина. Есть все-таки разница между двумя этими художественными объектами. Каким-то интуитивным образом я все же ощущал, что снимать людей, смотрящих на «Мадонну Литту», интересно, забавно, можно, нужно, но с «Бурлаками на Волге» то же приобретет характер дураковатый. А тут уже был самый сомнительный вариант: лица людей до того, как они посмотрели на мертвого Ленина, и после того. Якобы значительность и якобы масштабность – вещи достаточно губительные. Думаю, эта ошибка все же как-то вывернула, искривила так блистательно начинавшийся творческий путь Когана и Мостового. Ну а в моей судьбе «Взгляните на лицо» оказалось той стартовой точкой, с которой можно было вести реальный отсчет своего профессионального пути, сопутствовавших ему удач, неудач, полуудач…
После начальной, довольно благостной поры моего ученья, успехов, возросших на дрожжах «Морга», у меня началась длительная полоса серьезных, тяжелых, даже сокрушительных, хотя и очень полезных для дальнейшего, неудач. Быть может, часть их произрастала от все более ощущавшегося мною несогласия с Михаилом Ильичом Роммом, благодарность и признательность которому я храню всегда, неизменно восхищаясь им как человеком. И все-таки, если вправду, мне очень нравился Ромм, но не очень нравилось то, что нравилось Ромму.
Скажем, однажды Михаил Ильич пришел на лекцию и рассказал нам, с присущим ему блеском, умом и артистизмом, что совсем недавно видел удивительно скучное и бессмысленное произведение одного итальянского режиссера, от которого все на Западе приходят в восторг и провозглашают гением, хотя на самом деле он, в лучшем случае, всего лишь мастер средней руки. «Гений» снимает историю, которую можно изложить коротко, четко и ясно, но ему почему-то хочется изложить ее медленно, вяло и бессмысленно, а «фокус» в том-то и состоит, что, если бы все это рассказать живо, внятно, всем бы стало очевидно, что история немногого стоит. Речь шла о «Затмении» Микеланджело Антониони, которое то усыпляло Михаила Ильича, то приводило в состояние полнейшего раздражения. «Говорить с экрана надо просто, говорить надо ясно», – учил он нас, и мы, слушая его, не просто верили каждому его слову, но знали, что это и есть истинная, неоспоримая правда.
Но потом я посмотрел это самое «Затмение», и оно произвело оглушительное впечатление. Поразили именно ясность, естественность, сердечность миропонимания картины. Никаким иным способом, мне было очевидно, история эта не могла быть изложена, форма ее совершенна, потому что точно отражает сущность. Как же Ромм, такой умный, такой тонкий человек, не понял, что это за фильм! На почве этой внутренней полемики с Роммом я настолько принял сторону Антониони, что, завороженный, просто начал тупо имитировать антониониевскую манеру, в общем-то, мне совершенно чуждую.

«Взгляните на лицо»
В запале и безоглядности этой полемики я снял удивительно беспомощную, худосочную картину по превосходному рассказу Юрия Павловича Казакова «Вот бежит собака». Живой, естественный и подробный рассказ писателя я перенес в некое интернациональное пространство автобуса «Икарус», которые тогда только что появились, снял все на фоне довольно изысканного, но почти марсианского пейзажа, сильно смахивавшего на пейзажи еще неизвестной у нас «Красной пустыни» Антониони и к России не имевшего ни малейшего отношения (найти такой пейзаж было практически невозможно, но я все же исхитрился где-то его разыскать), в качестве музыки взял редкий по неорганичности и противоестественности структуры модный тогда «Модерн-джаз-квартет». В главных ролях снимались Ольга Гобзева и Родион Нахапетов, работал я с ними трудно и бездарно, но в глубине души явные свои недостатки списывал на то, что на самом-то деле вместо них должны были быть Моника Витти и Ален Делон.
В фильме почти не было диалога, сплошь музыка и несколько туманных, достаточно бессмысленных реплик, которым я придавал необычайно многозначительный смысл. На тонировке почти на протяжении двух смен мы с Радиком Нахапетовым, тонким человеком и артистом, вымучивали одну фразу, воспроизводя с разными интонациями: «Вот бежит собака…», «Вот бежит… со-ба-а-ка…», «Вот… бежит… собака…». И что самое страшное, мне казалось, что мы действительно заняты чем-то серьезным, достойным, полезным для кинематографа.
Это была катастрофическая, постыдно манерная работа, и если бы я не преодолел этот этап «молодежного маразма» и всерьез поверил, что это «поиск», что меня просто не поняли, то работать уже никогда бы не смог. Меня бы поглотило царство имитаций, конца и краю которому нет. Ведь любое, основанное на имитации искусство никогда не способно достичь уровня оригинала – сам же оригинал претерпевает изменения, поэтому можно пытаться копировать лишь уже пройденную им стадию.

Микеланджело Антониони

ВГИК, первый курс
Спасла меня «пустяковая работенка» – надо было помочь друзьям, актерам третьего курса, подготовить самостоятельные работы. Они выбрали для постановки чеховского «Иванова», а я, чувствуя свою полную безответственность в этом деле, шутя-играя, часа за два мизансценически развел с ними первый акт. В процессе этой работы я вдруг поразился радостному удовольствию, которое испытываешь, когда делаешь что-то близкое, понятное тебе, не требующее насилия ни над собственной душой, ни над умом, ни над сердцем. А потом я поставил и второй акт, и всю пьесу, вновь и вновь ощутив радость вольного режиссерского сочинительства, когда твою фантазию не гнетут и не ограничивают никакие из головы привнесенные концепции. Когда придумывается прямо на самой площадке исходя из конкретного материала, который у тебя есть, – из этой пьесы, этих актеров, этой декорации.








