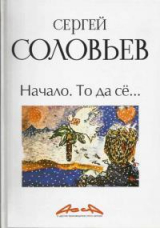
Текст книги "Начало. То да сё…"
Автор книги: Сергей Соловьёв
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Случайно, поскольку, по стечению обстоятельств, та девушка была моей соседкой, я знал и дом, и подъезд, где она живет, на только-только начавшем строиться Юго-Западе. Мы с Никитой поехали. В те времена тридцать четвертый троллейбус (денег на такси у нас уже не оставалось) ходил только до конца проспекта Вернадского. Мы вылезли на последней остановке: перед нами простиралось колоссальных размеров поле, засыпанное свежим, несколько дней назад выпавшим снегом. Ночной пейзаж смахивал на полярный. Крутились снежинки. Над головами, в разрывах туч, светили яркие звезды.
– Где? – спросил Никита.
– Вон там, – я показал пальцем через поле и стал объяснять, как нам нужно будет по асфальту пройти в обход.
– Нет, – отвечал Никита. – Напрямую.
Он в бушлате я, в чешских штиблетах на тонкой подметке, оба поперли напролом, через все поле, иногда по пояс проваливались в снег. Мне несколько раз неудержимо хотелось дать задний ход, но Никита был неумолим: уроки взятия безбрежных полярных пустынь врезались в него намертво. Поле мы переходили около часа, идти в снегу было тяжко, сказывались и усталость, и количество взятого перед тем на грудь. Время от времени то он, то я даже падали – но он падал исключительно головой вперед. Куда-то еще дальше, но только вперед откатывалась его бескозырка, мы послушно ползли за ней… Наконец дошли. Позвонили в дверь. Открыла та девушка. Девушку звали Таня. Изумлена она была невероятно. Через какое-то время я ушел к себе домой – греться. А они уже давно муж и жена. Таня родила Никите трех замечательных ребят, со старшими я сегодня уже самостоятельно, без Никиты и Тани, дружен. И дай Господи всем им здоровья, удач и счастья.
Окончилась служба. Никита вернулся, немедленно стал снимать. Первый фильм, второй, третий. Мы работали на одной студии, рядом, все происходило на глазах друг у друга. Каждая новая его картина вызывала поначалу общее удивление, я бы даже сказал, некую общественную оторопь, а в общем-то – непонимание. В устоявшемся советском кино зарождающееся Никитино было непривычным. Мне же в ту пору в голову все невольно приходило сравнение Никитиной режиссуры с прыгуном, который способен взять планку, скажем, два сорок, но для разминочки начинает с двух. И все равно на стадионе все ахают от изумления: он берет эту высоту с такой легкостью, с таким ощущением запаса… А главное, было ясно: в наше кино пришло новое сообщество профессионалов высочайшего класса – «группа Михалкова».
Группа эта претерпевала изменения, теряла своих членов, обретала новых, развивалась, временами чуть ли не разваливалась, заново формировалась, сейчас она существует под вывеской михалковской студии «ТриТэ»; но в любой свой период она была отмечена главным свойством своего лидера – не прорываться в одиночку, хоть для того лидеру Богом отпущено сверхдостаточно, а воспитывать, тренировать бригаду соратников, некое «поколение победителей», в среде которых существование Никиты наиболее органично.
А дальше?.. Дальше они уехали в Одессу и привезли оттуда «Рабу любви». У картины этой тоже долгая и замысловатая история, ее окутывают многие легенды, частью – злобные и лживые. Я знаю эту историю из первых рук.
Сценарий картины писал Андрон Кончаловский с Фридрихом Горенштейном для Рустама Хамдамова. Хамдамов когда-то сотрудничал с Кончаловским на «Дворянском гнезде». В частности, для этого фильма Хамдамов сделал женские шляпы. Сделал их с тем потрясающим чувством вкуса и пластической одаренности, какими отмечено все, что он когда-либо сочинял. Андрон к тому времени уже видел хамдамовскую картину «В горах мое сердце», она ему понравилась, он пообещал написать для Рустама сценарий и с этим сценарием привести его на «Мосфильм» для самостоятельной постановки.
В первоначальном варианте сценарий назывался «Нечаянные радости»: «Рабу любви» придумали уже позже Никита с Адабашьяном.
Прообразом героини сценария была замечательная актриса русского немого кино – Вера Холодная. Рустам очень ждал этого сценария. Однажды, придя ко мне в гости (поводом было случайное, после долгих лет «невидения», столкновение в толпе на улице Горького, а также и недавно просмотренный Рустамом «Станционный смотритель», который ему почему-то понравился), он рассказал, что сценарий у Андрона готов и он этот сценарий, наверное, все-таки будет снимать.
– Замечательно, – обрадовался я. – Начинать, имея такого союзника, как Андрон…
К своему удивлению, я услышал в ответ:
– Ну, что вы, что вы. Я не смог дочитать сценарий даже до середины. Но все же я, наверное, запущусь, поскольку Кончаловский – человек, по-настоящему одаренный, и я надеюсь все-таки когда-нибудь найти с ним общий язык…
И Рустам начал рассказывать мне какие-то чудные эпизоды: один из них, более всего запомнившийся, был связан с ковром – героини все пытались не то спасти, не то сплавить, продать его кому-нибудь, но ковер уже был заражен вирусом инфлюэнцы…
– На самом деле интересна не столько даже история Веры Холодной, сколько история этого ковра, его преображений…
– А с кем вы будете снимать?
– Может быть, с Рербергом, но точно не знаю. Пока мне с Рербергом очень трудно…
– Ну, что вы, Рустам! Рерберг – гений…
– Возможно. Но я не убежден, что тут непременно нужен гений. Хотелось бы просто культурного оператора, который бы меня понимал.
Я с изумлением взирал на Рустама, с такой невозмутимой легкостью расшвыривающего перед решающей партией колоду козырных карт. Потом Рустам уехал в экспедицию. О съемках я питался всеобщими досужими слухами, частично доходившими до меня от прелестной Наташи Лебле, игравшей сестру героини. Человек она странный, достаточно нелепый и трудный, но актриса все-таки по природе своей особенная. Знал, что снимают они это кино в Одессе, что со всеми звездами-операторами Рустам расстался, взял мало кому известного, но талантливого и необыкновенно душевно-деликатного профессионала Илью Миньковецкого и работал с ним душа в душу.
Но гроза вскоре все-таки разразилась. Тогдашний генеральный директор «Мосфильма» Сизов внезапно вызвал Рустама и всю группу из Одессы грозной телеграммой. Кто-то, уж не знаю кто, настучал, что Хамдамов снимает вовсе не по сценарию, а неизвестно что и неизвестно про что. Сизов потребовал немедленно отчитаться.
Представляю, какой кошмар пережил Николай Трофимович, глядя на разрозненные куски материала, ничего общего с коллизиями сценария Кончаловского не имеющие, где таскали какой-то скатанный в трубу ковер, да еще под неотчетливый черновой звук, где никаких слов понять было нельзя, а то и вообще без звука. Ничего общего с принятыми на «Мосфильме» канонами рабочего материала, с тем, что считалось нормальным или просто приемлемым, тут не было и в помине. Снятое Хамдамовым было возмутительно художественным, ошеломляюще новым, свежим, словно снятым кем-то и впрямь свалившимся к нам сюда с луны. Чухрай, продолжавший оставаться руководителем Экспериментальной киностудии, только уже присоединенной к «Мосфильму» и теперь именовавшейся Экспериментальным объединением, где и снимал свою картину Хамдамов, стал собирать в его защиту кинообщественность, позвал «до кучи» и меня, вроде как молодого режиссера с довольно хорошей репутацией. Я, как и другие, пытался убеждать Сизова, бубня, какой это, мол, прекрасный материал.
– Ты чего защищаешь? Ты кого защищаешь? – не на шутку сердился Сизов. – Ты с ума не свихнулся? Понимаешь, что начнется на студии, если мы позволим режиссерам работать без утвержденного сценария? Это для меня самое главное! Черт с ним, с материалом! Я хочу знать, о чем он снимает фильм! С меня за это спросят!..
Сизов потребовал немедленно предъявить сценарий. Пусть и про ковер. Но чтобы что-нибудь ясно было.
– У меня нет сценария, – честно сознавался Рустам. – Я снимаю просто так. Я сам не знаю, чем это все закончится про ковер…
Могу вообразить, как ползли на лоб глаза Сизова, когда ему рассказали, что на государственные деньги уже два месяца снимается кино не по утвержденному сценарию, а «просто так». Тут уже было не до качеств материала как такового – дело касалось «основополагающего принципа».
Любого другого Сизов, без сомнения, замочил бы разом, и дело с концом. Но тут каким-то тонким милицейским сверхчутьем он понял, что случай неординарный, Рустам, вероятно, шибанут мозгами не на шутку. Сизов мужественно и даже по-своему благородно взял себя в руки.
– Пусть напишет любой сценарий, – сказал Сизов, – мы его почитаем, наверное, утвердим, и он будет продолжать снимать дальше. Но чтобы всем было ясно, чем там дело с этим ковром кончится…
По тем временам это было либеральнейшее из решений. Обрадованный, я позвонил Рустаму:
– Пишите сценарий! Сизову нужен хоть какой-нибудь сценарий, практически любой.
– Да-да, – неуверенно отвечал Рустам. – Но нельзя ли ему как-нибудь объяснить, что на самом деле сценарий у меня в голове есть. Помните, кое-что из него я когда-то вам рассказывал…
– Ну, напишите ему все что угодно… Ему для отчетности надо…
– Ладно, – сказал Рустам. – Напишу.
И исчез. Прошли неделя, две, месяц, три… Найти Хамдамова было невозможно. Через много лет я пытался выспросить у Рустама, что тогда случилось. Он объяснил, что после скандала действительно хотел писать сценарий, но потом понял, что если он его все-таки напишет, то ни Сизов, ни кто другой попросту ничего ни про какие инфицированные ковры не поймет («я и сам пока с трудом понимаю») и картину все равно придушат. После чего Рустам улетел к себе домой в Узбекистан, оттуда еще куда-то, а половина отснятой картины так и повисла в воздухе. В воздухе – не в воздухе, но уж точно на финансовом балансе студии.
Как-то утром у меня раздался звонок. Говорил Андрон:
– Слушай, сними мой сценарий. Хороший… Хамдамов его просто не понял, да и не хотел понимать.
К тому времени я, уже слегка вовлеченный во всю эту склоку, сценарий Андрона прочитал, и совсем он не показался мне таким уж неинтересным, как рассказывал Хамдамов. На самом деле сценарий был написан хорошо. Профессионально сверхкрепко.
– Сними! Я с Сизовым уже предварительно договорился…
– Я не могу. У меня уже есть свой сценарий… Я с ним почти запустился.
Я начинал «Сто дней…».
– Хочешь, я тебе посоветую режиссера, который снимет это потрясающе… – отвечал я Андрону. – Блистательно…
– Кто?
– Никита.
Андрон молчал.
– Андрон, отдай ему сценарий, я готов тебе хоть кровью расписку написать, что все будет тип-топ…
– Ладно, – слегка обиделся Андрон. – Не хочешь – как хочешь…
Разговор закончился, со временем забылся, месяца через три я встретил Адабашьяна.
– Начинаем «Рабу любви»…
– А что это такое?
– Обыкновенный индийский фильм. Мы даже решили бланк заказать: «Объединение советских индийских фильмов». «Раба любви»…
Выяснилось, что речь идет о бывших хамдамовских, андроновских, горенштейновских «Нечаянных радостях»…
Вскоре со всей своей командой они исчезли со студии: в то время у Никиты была такая сверхэффективная партизанская тактика – забрать со студии технику, уехать куда-то «с концами» и возвратиться с уже отснятой картиной. Никаких павильонов, редакторов, обсуждений материала. На «Мосфильме» практически делались только монтаж, озвучание, перезапись и титры.
Встретились мы с Никитой уже в перезаписи. Обнаружилось, что мы работаем в соседних ателье: я перезаписывал, кажется, «Сто дней после детства» (странно, но правда, числа и дни недели, даже часы и даже минуты я помню, года отчего-то напрочь забываю), он – «Рабу любви». Пока звукооператоры мотают пленки на начало, всегда образуется минут двадцать свободных: режиссеры в это время слоняются по коридору, тупо изучая пол. Во время одной из таких перемоток в дверях нашего ателье вдруг появился Никита, рассеянно посмотрел какую-то из частей моей картины.
– Красиво! – похвалил он, когда часть закончилась, и неожиданно добавил: – Слушай, а ты когда-нибудь пил коньяк со сливками?
Я никогда не пил коньяка со сливками.
– Ты не пил коньяка со сливками?! Ну, как же можно?..
Кто-то из ассистентов тут же был послан в магазин, коньяк и сливки доставлены, мы маханули по маленькой – действительно, вкусно необычайно. Но главный эффект состоял в другом: экран вдруг волшебно преобразился. Оказалось, что на нем идет что-то завораживающе-прекрасное, исключительное, невиданное – а вовсе не знакомый до каждой клетки, затрепанный позитив с параллельной фонограммой кваканья каких-то тупых лягушек. Нет, нет! Перед тобой словно бы внезапно распахнулось окно в гармонически прекрасный мир совершенных людей и их совершенных, почти божественных взаимоотношений. Это с нами происходило уже в ателье у Никиты.
Мы не сразу поверили своему ощущению и добавили еще по одной. Потом махнули еще…
Под конец второго дня активной перезаписи мужественный человек, звукооператор Женя Базанов, сказал:
– Ребята, кончайте!..
А мы действительно разошлись уже без всякого удержу: то пускали на полную катушку одну музыку, то убирали все реплики напрочь, сладострастно глуша их любовным стрекотанием кузнечиков, сольное исполнение которого казалось нам очень и очень милым…
Тут, на наше счастье, настала суббота, за два дня мы отдохнули, в понедельник спокойно и здраво послушали, что перезаписали. Ужаснулись, все немедленно уничтожили, все перезаписали заново, на том тогда и расстались.
На первый просмотр «Рабы любви» меня позвали Никита и Григорий Наумович Чухрай, как руководитель объединения. Дело было с утра, и хотя я был абсолютно трезв (никакого коньяка, никаких сливок и в помине не было), но то же самое ощущение ослепительного праздника, творившегося на экране, опять со всей силой вернулось во время этого просмотра. Когда зажегся свет и настала пауза, Чухрай почему-то первым попросил высказаться меня.
– Сколько бы я ни старался, сколько бы «творчески ни рос», все равно мне никогда так не снять…
И действительно, для тогдашней мосфильмовской «молодой режиссуры» это был удачный год. Коля Губенко закончил «Подранков», мне кажется, лучшую свою картину. Я – «Сто дней…», Никита – «Рабу…». Мы вроде бы «материализовались» – стали не поколением надежд «Мосфильма», а как бы этими самыми уже отчасти свершившимися надеждами.
Посыпались премии. Никита поехал с «Рабой любви» в Тегеран. И публика, и шах Ирана были в полнейшем восторге. Никита привез оттуда диковинную «Золотую раковину», мы, прицокивая языками, как первобытные туземцы, рассматривали и ощупывали ее; позже я даже сильно переживал, когда началась эта заваруха с аятоллой, закончившаяся, как известно, тем, что с престола безжалостно сбросили Никитиного кореша.
А пока все длилась счастливая полоса – мы разъезжали по фестивалям, искренне радовались друг за друга. Мы опять на какое-то недолгое время стали «баловнями судьбы» и с этим славным ощущением въехали в какой-то новый жизненный период, увы, оказавшийся уже совсем по-другому очень трудным и сложным.
Как-то, очень давно, Никита говорил мне:
– Помяни мои слова: нас обязательно постараются поссорить. Это всем очень выгодно – нас с тобой поссорить. Не поддавайся на провокации. Не поддавайся… Я тоже не буду…
Тогда я не очень прислушался к этим словам.
Увы, Никита оказался прав. Нас часто и довольно удачно ссорили. Природы этого, причин и следствий понять я так и не могу. Сначала вроде бы за что-то, видит Бог, мне и до сих пор неведомое, обиделся на меня Никита. Сужу по холодности, выказывавшейся при редких случайных встречах… Неизвестно по какому поводу вдруг надувался и я… Потом вдруг, как бы само собой, все проходило.
Никита монтировал «Неоконченную пьесу для механического пианино». По случайности, мы опять работали по соседству в монтажных. Никита по старой памяти вдруг позвал меня посмотреть какую-то из только что смонтированных частей. Я восхитился тем, как замечательно это сделано…
– Не скучно? – несколько раз за короткие десять минут просмотра спросил Никита. – Самое страшное, что может быть для Чехова, это узаконенная скука…
Тем не менее подозрительное наше охлаждение, занявшее лет шесть-семь, увы, продолжалось. Тут и я стал от обиды и для баланса выискивать в Никите черты, которые мне несимпатичны, неприятны, и как бы убедил себя, что не такой уж он и безупречно-солнечный талант, вспомнил и про знаменитые пятна на могучем светиле. Но тут произошла одна запомнившаяся мне история…
Трагически скончалась моя сокурсница Динара Асанова, замечательный режиссер, очень и очень хороший человек, близкий мой друг. Я поехал в Ленинград на ее похороны. Гроб стоял в ленфильмовском зале для записи музыки. Кто-то подошел ко мне, попросил, чтобы я что-то сказал на панихиде – я, конечно, был не в состоянии ничего говорить. И вдруг увидел Никиту. Он тоже стоял в толпе и тоже не говорил никаких слов. Когда прощались с Динарой, он подошел и тронул рукой угол гроба. Потом мы столкнулись в коридоре:
– Ты что в Ленинграде делаешь? – поинтересовался я.
– Ничего. Приехал попрощаться с Динарой…
Это удивило: с ней вместе он не учился, саму ее, по-моему, практически не так уж хорошо и знал… Просто знал ее картины. И этого было достаточно для искренней дружеской печали…
Из той схемы, которую я сконструировал у себя внутри по поводу Никиты и которая в тот момент так была мне удобна для внутренних с ним подсчетов и пересчетов, такого рода вещи явно выламывались, рушили возведенную мною элементарную, тупую и, в общем-то, несправедливую конструкцию.
Значительно позже революционная кинообщественность, к которой случаем прибился и я, победив на V съезде, сняла Никиту со всех видов общественного довольствия – всего лишь за несколько добрых, уважительных слов, сказанных с кремлевской трибуны в защиту профессионального достоинства выдающегося актера и режиссера Сергея Федоровича Бондарчука.
Увы, но и дальше по-прежнему у нас с Никитой все шло врозь и порознь, опять мне со стороны вдруг приходилось слышать, что у Никиты я в новой немилости, за что именно – опять не знал.
Еще через несколько лет мы случайно столкнулись в Канне. Был день премьеры «Утомленных солнцем».
– Ты идешь? – спросил Никита.
– У меня билета нет.
– На…
Напялив смокинг, нацепив ритуальную бабочку, я пошел и, честное слово, стал счастливым свидетелем его поразительной победы. Зал устроил Никите двадцатиминутную овацию. Я поймал себя на том, что, вместо нормальной и совсем не стыдной в такой ситуации профессиональной ревности, испытываю искреннюю гордость, словно аплодируют не только Никите, но и мне, нам.
Еще до этой каннской премьеры был один памятный и опять многое для меня объяснивший и удививший меня эпизод. Со студентами вгиковской мастерской мы поставили «Три сестры». Поставили их в старом дворянском доме на Басманной улице, в реальном интерьере, где было всего ну пятьдесят, может быть, зрительских мест. Спектакль играли мы полтора месяца, пустых мест в зале все это время не наблюдалось. Всех, кто приходил, я знал практически поименно.
Как-то перед началом очередного спектакля среди зрителей я увидел на лавке Никиту. У него действительно было ко мне какое-то недлинное дело, но, оказавшись здесь, поглядев на нашу декорацию, протянутые шнурочки с табличками «Просьба актеров руками не трогать», он остался смотреть спектакль до конца. В перерывах, когда зрители покидали зал, а мы переносили скамейки в соседнее помещение, где игрался следующий акт, Никита из зала не уходил.
– Чего ты здесь? – говорил ему я. – Пойди погуляй. Там в фойе музыка, народ тусуется…
– Я тебе тут помогать буду, смотреть, чтобы чего не сперли…
Досмотрев спектакль до конца, Никита был растроган до слез. И я очень обрадовался тому, что рядом со мной тот же необыкновенно живой и душевно подвижный, отзывчивый, нежный человек… После спектакля был небольшой банкет. Никита и на него остался, разговаривал с ребятами, просидел до двух ночи.
Сейчас нам с Никитой перемахнуло уже за шестьдесят лет, вместе со столетием кино мы могли бы на двоих устроить и собственное празднование. Иногда, встречая кого-то из давних знакомых, с удивлением думаешь: «Кто это? Господи, на что же были убиты годы жизни? О чем с этим человеком когда-то я мог говорить? Что нас могло с ним связывать?» Ужасно бывает жаль жизни, лет, ушедших на дурацкие приятельства, на идиотские романы, казавшиеся некогда необыкновенно значительными. Груды пустых и ненужных страстей, выброшенные на помойку годы… А с Никитой отчего-то все другое: дни, месяцы, годы, когда мы были вместе, общались, дружили и по сегодня мне кажутся золотым временем. Жаль, что было оно коротко.
Однако все есть так, как оно есть.
СТАРЫЕ СТРАСТИ
Я никогда не рассказывал про эту историю, но теперь, когда Иннокентия Михайловича Смоктуновского уже нет в живых, да и старые страсти улеглись, решаюсь изложить все как было.
Мы снимали «Егора Булычова». Наконец-то пришло ощущение, что дело пошло. На каждой картине до какого-то момента все идет мучительно, натужно, пытаешься как-то ее сдвинуть, столкнуть с места, а потом вдруг наступает момент, когда начинает как бы само собой сниматься. Возникает даже ощущение, что это ты уже однажды снимал. Причем картина не только идет сама, но и тебя уже тянет за собой в какую-то неведомую сторону.
«Булычов», естественно, шел особо тяжко. Первая полнометражная картина. Довлел страх, я ощущал себя Акакием Акакиевичем, полно нерешенных вопросов, причем вопросов очень важных.
Оставалось, в частности, нерешенным, кто сыграет трубача.
Ульянов вел себя и по-товарищески безукоризненно, и по-актерски изумительно, и по степени доверия к режиссуре лучшего желать нечего. Передо мной был маэстро такого высочайшего класса, что каждый раз, приходя на съемку, я удивлялся ангелоподобности ниспосланных мне обстоятельств.

Иннокентий Михайлович Смоктуновский
В какой-то момент, когда картина начала вроде бы уже сниматься сама, меня осенило: «Вот бы Смоктуновский согласился на трубача!»
Чем был Смоктуновский в то время, сегодня даже трудно объяснить. По славе, по значимости, по авторитету таких актеров сейчас нет. Он только что сыграл Гамлета, Деточкина в «Берегись автомобиля», не меркла великая слава «Идиота» – все знали: он гений. «Вот, – подумалось мне, – как здорово будет, когда два таких могучих актера – Ульянов и Смоктуновский – сойдутся на площадке! Какая искра высечется!»
– Как бы подступиться к Смоктуновскому, – спрашиваю второго режиссера.
– Идея замечательная. Но звонить ему не могут ни ассистенты, ни я – звонить должны вы.
С пересохшей гортанью и потрескавшимися от волнения губами, узнав номер ленинградского телефона, звоню Смоктуновскому.
Подошел он сам.
– Иннокентий Михайлович, вы меня не знаете, я молодой режиссер, снимаю свою первую картину, «Егор Булычов». Булычова играет Ульянов. Я понимаю, что совершаю великую бестактность, предлагая вам эпизодическую роль, но если вы читали пьесу или видели какую-то из постановок, наверное, как и все, вспоминаете, что там что-то такое было связано с трубой. Вот я как раз и хотел попросить вас сыграть трубача.
Он помолчал минуту.
– Что ж. Разговор серьезный. Приезжайте в Ленинград.
– Зачем?
– Как зачем? Поговорим.
Я приехал в Ленинград, подгадал так, чтобы попасть на субботу и воскресенье. Позвонил Смоктуновскому.
– Еде вы остановились?
– В «Октябрьской».
– Через полчаса я за вами заеду, поедем в Комарово, на дачу. Соломка нас покормит, поговорим о роли.
– А вы посмотрели пьесу? Извините, у вас текста там почти нет.
– Да, все прочитал. Абсолютно готов к разговору.
Через полчаса подъезжает роскошная по тем временам, новейшая белая «Волга», за рулем живой Смоктуновский, что тогда производило совершенно ошеломляющее впечатление на всех прохожих. Такого больше видеть не приходилось. Ну может, похоже реагировали на Тихонова после Штирлица. Люди просто окаменевали.
Смоктуновский роскошным жестом распахнул передо мной дверцу. Он был совершенно лыс. Как вскоре он объяснил мне, лысина необходима для роли Ленина. На лысую голову легче клеить монтюр, усы, класть грим.
К вопросу об исполнителе роли Ленина ленинградские власти подошли по номенклатурному принципу. Кто сейчас самый великий актер? Смоктуновский. Он и должен играть. Толстиков определил Смоктуновского в Ленины, спорить не полагалось, но получилась одна неувязочка: Ленин был небольшого роста.
– Как же вы с этим боретесь?
– Боремся двояко: на средних, на крупных планах я просто приседаю.
– Как?
– Ну, так. Просто подгибаю коленки, чтобы быть вровень со Свердловым и пониже Дзержинского.
– А на общих планах?
– На общих – тут, знаете, сложнее. Делают специальные полы.
– Как?
– Ну, мизансцена же ясна. Ленин, допустим, подходит к карте и идет по кабинету – к окну, к телефону. Там, где я должен идти, для меня в полу желоба проложены. Все стоят как на помосте, а я хожу только по желобам.
Кстати, Ленина он играл очень хорошо. Я видел какой-то фрагмент – очень неожиданный Ленин, интеллигентный, тонкий, с трепещущей пустой душой.
Итак, лысый Смоктуновский, в светлом пиджаке, светлой рубашке, роскошным жестом раскрыл передо мной дверцу. Была весна, летел тополиный пух.
– Здравствуйте, я – Сергей Соловьев.
– Кеша, – сказал он, протягивая руку.
– Как Кеша?
– Кеша. Очень прошу звать меня именно так. И на «ты».
– Мне будет трудно.
– Не важно. Пусть трудно. Надо преодолевать. Убежден, что искусство на «вы» не делается. С Козинцевым мы были на «вы», и ничего путного не вышло.
– Как не вышло?
– Да нет. То, что вы видели в картине, – одна десятая того, что могло бы быть. А все потому, что с режиссером я был на «вы» и много проиграл в этой игре. До беды.
– А что вы проиграли?
– Ну, прежде всего, перевод.
– Как перевод?
– Есть же гениальный перевод, а он взял достаточно пошлый, пастернаковский.
Мы ехали на малой скорости. Каждое следующее слово заворачивало мне мозги набекрень, наизнанку, не знаю куда.
– Да, пошлый. Он же весь – из поэтических пошлостей. А есть гениальный перевод гениального русского поэта. Знаете, кто это?
– Не знаю. Может, Лозинский?
– Не-е-т. Гениального русского поэта.
– Нет. Не знаю.
Он нагнулся ко мне и прошептал на ухо:
– Ка-Эр.
Мне это ничего не говорило.
– Ты не знаешь?
– Нет.
– Константин Романов. Великий князь.
– Никогда не читал.
– Я тебе дам этот перевод. Ты увидишь… И все я просрал из-за того, что с Козинцевым был на «вы». Я тебя прошу. Сейчас же, с первого момента, раз мы начинаем вместе, будем на «ты». Иначе не заметим, как просрем общую работу.
Я чуть не вывалился из автомобиля от счастья. Он как бы уже сказал, что согласен.
По дороге не раз пешеходы перебегали дорогу прямо перед машиной (такая, что ли, была в те годы мода). Перед каждым перебегающим Иннокентий Михайлович тормозил, останавливал машину, улыбался своей невиданной, до ушей, улыбкой, как бы говоря: «Переходите спокойно. Я, конечно же, подожду». При этом раз шесть нам чуть не смяли в лепешку задницу: я видел, что каждое торможение связано со смертельной опасностью для меня и для него, но понимал, что понты ему гораздо дороже денег, он этот номер долго репетировал и сейчас блистательно с ним выступает.
Выехали на Приморское шоссе. На скорости сто двадцать километров он вдруг бросил руль и стал биться в салоне, метаться, хлопать по потолку.
– Что случилось? – закричал я, не понимая, в чем дело.
– Как что случилось? Муха! Муха!
Не знаю, удалось ли ему убить ее, большая удача уже то, что убить нас ему пока не удалось. Мы приехали на дачу.
Там были чудесные дети, милая Соломка, лето, шумящие сосны. Замечательный обед. Вечером он повез меня на вокзал, ни о каком «Булычове» не было и речи. Единственное, что он спросил:
– Ничего, что я лысый?
– Вполне устраивает.
– Ну, я все равно приеду заранее. Даже на этой неделе просто так приеду. С Мишей поговорим о том о сем. Костюм померим, грим. Есть у меня всякие идеи, заморочки. Я вам все расскажу. Будет классно. Это вы отлично придумали. Я с такой радостью принимаю ваше предложение!
На обратном пути я не спал на полке, а просто от счастья парил над ней, как Рита Терехова в «Зеркале» Тарковского. Приезжаю в Москву, у нас вторая смена, к трем часам прихожу в костюмерную, хочу обрадовать Михаила Александровича – я пока ему ничего не говорил. Да и вообще ни об одном из партнеров я ему не говорил – он пробовался с разными.
– Михаил Александрович, – говорю ему, – представляете, какая мысль пришла мне в голову…
И рассказываю все со спертым в зобу дыханием, жду, когда он начнет меня обнимать, целовать и говорить: «Как здорово!»
Смотрю, реакция у него какая-то вялая, заторможенная. Он надевал штаны, ботинки; когда я закончил свой рассказ, пристегнул подтяжки, посмотрел на меня, и я увидел совершенно бледное лицо, свинцовые глаза смертельно ненавидящего меня человека. Я осекся на полуслове. Настала пауза.
– Что случилось, Михаил Александрович?
И тут ангельский, добрейший, тишайший Михаил Александрович сказал голосом Трубникова из «Председателя»:
– Выкинь из головы, не будет этого никогда. Ты понял?
– Чего не будет никогда? – Я даже и в голову не мог взять, в чем дело.
– Никогда Кеша не будет играть трубача в этом фильме. Никогда. Ни за что. Или Кеша, или я.
– Что такое? Почему? Что случилось?
– Как что случилось?! Я восемь месяцев горбатился над этим Булычовым! Сколько здоровья, сил положил! Я шел в картину к неизвестному режиссеру и не знал вообще, что из этого получится. Я всем рисковал. Теперь на два дня приедет Кеша, выйдет, улыбнется и ничего нет!
– Как ничего нет?
– Никаких моих трудов! Нет!
– Как, Михаил Александрович? Наоборот! Мы извлечем искру! Масса на массу! Плюс на минус!
– Ничего подобного! То, что я тебе говорю, то и есть на самом деле. Придет Кеша, улыбнется, дунет в трубу и меня нет!
– Я ж видел материал! Вы видели материал! Да вы что? Там такие тонкости! Обертоны!
– Я тебе в третий раз говорю: придет Кеша, ухмыльнется, дунет в трубу и меня нет! На хрен мне это надо!
И я понимаю, что это не вообще разговор – это катастрофа.
На меня двинулись с двух сторон по одноколейке два бронепоезда. Я стою на рельсах и понимаю, что никакой возможности уговорить Ульянова нет. Он стоит белый, губа трясется, руки трясутся.
– Выкинь из головы! Я сниматься не пойду! Если ты сейчас же не отменишь все это, я одеваюсь, ухожу, и никогда в жизни мы больше не встретимся!
– Михаил Александрович, вы извините, может, я чего-то не додумал…
– Звони ему немедленно. Говори, что он не будет сниматься. Я даже обсуждать не хочу!
– Михаил Александрович! А что же я могу ему сказать? – С языка чуть было не слетело: «А можно я ему скажу, что это вы требуете?» – но я тут же осекся: нельзя, и спрашивать нечего.








