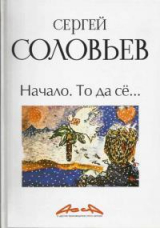
Текст книги "Начало. То да сё…"
Автор книги: Сергей Соловьёв
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
– А думай сам, что ему скажешь! Твое дело! Когда ты туда ехал, ты сам думал – вот и сейчас сам думай. Я ничего не знаю.
Если я и испытывал когда-либо подобный ужас, то уж не больше двух-трех раз в жизни. Ясно было, что все кончено. Меня просто раздавят, сомнут, ребра в крошево, легкие погнут и режиссера Соловьева больше нет.
А Кеша звонит в группу. Говорит:
– Давайте шлите вызов. В четверг я еду.
Я в группе ничего не говорил, они не знают, что отвечать. Тянуть нельзя ни секунды. Иначе он возьмет и приедет.
Что я тогда плел Смоктуновскому, уже и не могу вспомнить. Врал, что съемки внезапно прекратились. У нас с оператором разногласия. Съемочный брак. Все придется переснимать сначала. К сожалению, все наши договоренности полетели.
– Да не огорчайся, – дружески успокаивал меня Кеша, – у тебя ж первая картина. Брось. Выкинь из головы. Ну, переснимете. Не у тебя первого брак.
– Ну, ты ж потом будешь занят! – Смоктуновский действительно говорил, что начинает какую-то большую работу.
– Ну, не так занят, чтобы к тебе на три дня не приехать. Раз обещал, выполню. Железно можешь на меня надеяться.
Позорище! Вранье! Ужас! Словами не передать.
На трупе Кеши я выиграл дружбу с Ульяновым – он сразу стал со мной еще прекраснее, еще милее и добрее.
– Ты не расстраивайся! – успокаивал он меня. – Давай возьмем на трубача Катина-Ярцева. Он чудесный актер.
Тут уже я уперся и стал проявлять режиссерскую самостоятельность, хотя и знал, что Катин-Ярцев действительно чудесный актер.
– Да нет! Катин-Ярцев какой-то мультипликационный.
– Ни в коем случае не давлю. Кого хочешь! – Ульянов недоговаривал: «Только не этого!» – и повторял, чтобы слышала группа: – Кого хочешь!
Мне в голову пришел Лева Дуров, сняли его. Я врал, врал, врал Смоктуновскому: картина была уже закончена, а он все звонил: «Когда будем снимать?» Я уже что-то врал задним числом, что, когда он был в Болгарии, нам нужно было в эти три дня непременно снять…

Булычов – Михаил Александрович Ульянов
Он как бы сделал вид, что на меня не обиделся. Так бы все и забылось. А аукнулось года через два очень странным образом.
Я начал снимать «Станционного смотрителя», опять в голову шарахнуло: «Вот бы уговорить Иннокентия Михалыча! Елки-палки, как он это сыграет!» Директором был Цируль, прежде директорствовавший на «Неотправленном письме», «Анне Карениной» и «Чайковском». Кешу он знал как облупленного. Я только ему заикнулся о Смоктуновском, как он тут же схватился:
– О чем говоришь! Сейчас же ему позвоню!
– Да у нас там была одна история…
– Брось! Какая история! Мы с Кешей в тайге полтора года в одном вагончике спали. Что ты плетешь!
Приходит Смоктуновский, к тому времени уже перебравшийся в Москву, ведет себя, словно между нами ничего не было. Улыбка до ушей, «Здрасьте», «Наконец-то мы», «Я бы был счастлив, если бы вы…», «О, пушкинская проза!».
Как раз в это время Хуциев собирался снимать «Пушкина» и пригласил играть Смоктуновского.
– А как же рост?
– У нас на Ленине это отработано. Желоба построил – и пошел…
Мы мило светски поговорили.
– Значит, да?
– Значит, да!
Бюджет фильма всего был сто пятьдесят шесть тысяч рублей.
Ульянов за роль Булычова, отнявшую у него месяцев девять, получил на круг адскую сумму – полторы тысячи рублей (при бюджете картины пятьсот тысяч). После того как мы вроде как обо всем договорились, Кеша заходит к Цирулю.
– Витя, – говорит (мстил он иезуитски), – я согласен. Сережа – человек способный, я его знаю, давно хотел у него сняться, у нас разговоры всякие были, но был в наших взаимоотношениях и неприятный момент. Хотелось бы получить компенсацию за нанесенную мне моральную травму. Ты даже не представляешь, как сильно я переживал. Я как увидел «Булычова», просто четыре ночи не спал, хоть уже и был готов к этому…
– Какую тебе компенсацию, – не понял Цируль, – ты чего мелешь?
– Хочу получить за Вырина семь тысяч рублей.
– Почему семь, а не десять? – холодно спросил Витя.
– Семь я хочу чистыми, а на десять ты заключишь со мной договор. За другие деньги сниматься не буду. Я переехал в Москву, трудное материальное положение, нечем кормить семью, Соломка плачет. Я на эти деньги имею полное моральное право как на компенсацию за урон.
– Ты что дуришь? Какая компенсация? Сто пятьдесят тысяч на всю картину. Если мы тебе десять тысяч заплатим, всем придется играть в античном варианте, голышом – на костюмы не останется. Я тебе заплачу максимум, в бараний рог выкручусь, но больше полутора-двух тысяч все равно не получится. Тут кино телевизионное, дневная выработка совсем другая: если смогу натянуть две тысячи, можешь поцеловать меня в задницу.
– В задницу пусть тебя целует кто-нибудь еще, а если хочешь, чтобы я играл Вырина, придумай, как заплатить мне семь тысяч. Телефон мой ты знаешь. Адью! Пока!
И ушел.
Витя пришел ко мне совершенно остолбеневший:
– Ты какую ему травму нанес?
– Да никакой травмы не наносил!
– Он требует материального возмещения нанесенной тобой моральной травмы.
– А-а-а! – вспомнил я. Рассказал Вите про то, что было, он мне – про безумные семь тысяч. По тем временам это все равно что сейчас за такую роль семь миллионов долларов.
– Вить, а что же делать? Он же согласился! Лучше него на эту роль никого нет! Он гениальный актер…
– Таким я его никогда не видел. Он же нормальный парень, я с ним в одном вагончике полтора года спал. Он с ума сошел!
– Вить, ну напомни ему про вагончик! Пусть опомнится.
– Сейчас позвоню. Наверное, он просто слегка повредился, шарики за винтики закрутились. Вообще, я тебе скажу, – Витя стал показывать пальцем у виска, – ты с ним тоже будь осторожен. Ты его давно знаешь?.. А я с ним в одном вагончике…
Он позвонил Кеше. Соломка его позвала.
– Ну, ты в себя пришел? Ну может, я тебе сделаю две. Ну, две с половиной. Хотя я не имею на это ни малейшего права. Но я пойду куда угодно… С какой-нибудь другой картины тебе спишу. Давай! Две с половиной…
– Витя, я тебе ясно назвал сумму. Если подписываешь ее прописью, начинаем работать. Если нет – то нет.
И мы попадаем в чудовищный клинч. Начало съемочного периода. Снег тает. Все кареты стоят на санях, март месяц, снег стаивает, уходит просто на глазах. Карет сорок штук – «Станционный смотритель»! Начинаем снимать без Вырина. Снимаем какие-то общие планы – кареты, снега – все без Вырина. И в конце каждой смены приезжает какой-нибудь артист пробоваться на Вырина.
Полкартины уже было снято, когда появился Коля Пастухов.
Дай Бог здоровья Никите! Это он вспомнил, что у Андрона в «Дяде Ване» Вафлю играл замечательный артист. Так появился Коля, который теперь уже не просто Коля, а мой крестный отец. Это он устроил нам с Митей знаменитое по «Черной розе» крещение в тазике.
Никита всю картину подзуживал его. Коля – человек очень верующий, но вместе с этим тогда он был запойный пьяница, а помимо запойного пьянства и верования обладал еще какой-то почти экстрасенсорной способностью управлять своим весом.
Я пришел в гримерную, говорю:
– Как вы хороши! Вот только…
– Что вас смущает?
– Толстоваты вы. Вырин все же должен быть похудее.
– Сколько килограмм лишних?
– Много.
– Сколько много?
– Ну, пятнадцать.
– К какому дню сбросить?
– Через неделю.
– Взвесьте меня. Через неделю на пятнадцать кило будет меньше.
За неделю эти пятнадцать килограмм он сбросил.
…Замечательно трогательным был финал всей этой истории. Лет через десять, где-то уже в начале 80-х, ночью у меня дома раздался звонок.
– Але, здрасьте…
– Здрасьте, – говорю я, понимая по голосу, что это Смоктуновский.
– Сережа, это Кеша.
– Да, Иннокентий Михайлович. Что?..
– Сережа, извини меня, идиота. Как я себя бездарно вел! Когда ты меня позвал на Вырина, я такие глупости стал творить. Думал тебя наказать. Но как я наказал себя!
– Что случилось, Иннокентий Михайлович?
– Позавчера по телевизору показывали «Станционного смотрителя». Какая это прекрасная картина! И как мне жаль! Я не сыграл одной из лучших в своей жизни ролей! И все из-за моего кретинизма! Из-за мелочности! Из-за поганой нищеты, которая все время мучит! Все тут вместе сошлось. Извини меня, Сережа…
И минут сорок в полночь он извинялся передо мной за свою выходку. Еще через много лет мы встретились в телевизионной студии. Тогда телевидение устраивало как бы публичные дни рождения: собирало всех родившихся под одним созвездием. Саша Збруев попал в число поздравляемых и пригласил меня сидеть за своим столом. А за другим столом сидел «новорожденный» Иннокентий Михайлович. Когда дошло до него, он позвал меня и на весь эфир громко сказал:
– Я хочу рассказать всем, какой я идиот. В свое время он меня звал играть Вырина, в прекрасную картину! И я… Я себя наказал…
При всем юродстве этих слов я понимал, что говорит он их очень искренне. В этом был весь Иннокентий Михайлович. Конечно, это был уникальный человек.
Я сделал про него телевизионную передачу и назвал ее «Божьей милостью артист».
Думаю, он действительно был очень связан с какими-то запредельными силами, накатывавшими на него волнами. Жаль, что мы так и не поработали вместе. При встречах всегда говорили:
– Ну, давай! Что будем делать? Когда начнем?
Не сделали. Такие вещи не придумаешь, не спроектируешь.
АЛЕКСАНДР БОРИСОВ. ХУДОЖНИК
Дело было давно. Так давно, что иногда кажется, что этого не было вовсе. Но это было году, по-моему, в шестьдесят восьмом. А может быть, и в шестьдесят девятом. Я начинал «Егора Булычова». Одно время мы собирались снимать его с Пашей Лебешевым.
Стали думать о художнике. Паша предложил сразу:
– Борисов.
– ?
– Плохо, что не знаешь. Практически второго такого нет…
Такая репутация у Борисова была уже тогда. Среди тех, разумеется, кто понимает.
– Он только что закончил с Зархи «Анну Каренину», – продолжал Паша, – «Чайковского» с Таланкиным… Да погоди, – вдруг вспомнил он, – он, по-моему, с Довженко делал «Поэму о море»…
– Ему что, сто лет?
– Да нет, молодой мужик. Мой сосед…
– Как же тогда он мог работать с Довженко?
– Я сам не понимаю… Он вроде чуть старше нас.
Действительно, Саше Борисову было тогда сорок три года.
«Анну Каренину» Зархи в свое время я смотрел в кинотеатре «Россия» безо всякого снобистского чувства, с большим интересом. Конечно, совсем не все в картине мне нравилось. Очень жаль, что не Смоктуновский играл Каренина: потом я увидел его действительно гениальную пробу на эту роль, но, увы, врачи тогда запретили ему сниматься. От множества съемок у него, кажется, начинался туберкулез глаз. Гриценко в сравнении со Смоктуновским был, мягко говоря, грубоватым. Совсем по-другому представлял я себе и Вронского, которого играл тогдашний Павел Корчагин – Василий Лановой. Зато абсолютно счастливым был выбор главной героини: и хотя не все безупречно в том, что Самойлова в конечном счете сыграла, но это уже издержки всей картины – само же по себе наличие в то время актрисы, физиогномически столь схожей с великим толстовским персонажем, было исключительным везением Зархи. И все же более всего в картине меня впечатлила пластика.
Я смотрел отличную широкоформатную копию и временами просто рот открывал от восторга перед породистостью изображения. Мне нравились и декорации, и интерьеры, и костюмы, и пейзажи, и материальная плотность картинки, и движение камеры, и когда Паша сказал мне, что художник, сочинивший и построивший все это, живет на этой же лестнице, что мне как бы нужно всего лишь спуститься на несколько этажей вниз и поговорить с ним, я первым делом трусливо подумал: а не пошлет ли меня сразу маэстро с моим идейно сомнительным и весьма компромиссным «Булычовым»?
Тем не менее, махнув у Паши для храбрости стопку, я спустился с девятого этажа на пятый и позвонил в дверь. Александр Тимофеевич, как потом уже я хорошо усвоил, человек от природы крайне осторожный. Все его реакции на те или иные проявления внешнего мира проходят через жесткий и четкий фильтр исключительного здравого смысла, его собственного, борисовского, сильно отличающегося от общераспространенного. Различия эти в том, что борисовский «здравый смысл» обращен прежде всего на себя самого, на свое личное участие или неучастие в той или иной заморочке. Столь опасливо он относится к внешнему миру прежде всего, я думаю, из самых скромных, но и самых серьезных санитарных побуждений… Мало ли какая противная его естеству чушь и хворь может случайно проникнуть в него, все в нем неосторожно переломать, порушить, прорвавшись обыкновенным воздушно-капельным путем или любым другим способом?
Открыл он мне дверь с крайней осторожностью, долго выслушивал, в чем причина моего появления, потом позвал – нет, не в комнаты еще, конечно, – для начала только в кухню, где мы еще немного поговорили. И видимо, что-то стоящее в моих словах ему померещилось – он поставил на газ чайник, что, как теперь уже я понимаю, было знаком преогромного первоначального расположения. Но тогда-то всего этого я еще не знал.
Борисов осторожно стал выспрашивать, чего бы я хотел соорудить в этой работе. Я сказал, что представляю себе декорацию трехэтажной, и для образованности добавил, что хотел бы каждому этажу подобрать свою цветовую доминанту. Для пущей же важности уточнил, что первый этаж ощущаю зелено-модильяниевским, с красно-золотыми лицами персонажей. Второй этаж – серо-белый, слегка напоминающий больницу и офорты Остроумовой-Лебедевой. А третий наподобие скворечника – бурокрасный, в гамме и плотности Сутина, с отдельными мощными серо-синими поверхностями.
Александр Тимофеевич слушал меня очень внимательно, образованность немедленно оценил, в связи с чем в дополнение к чаю дал мне бутерброд с котлетой. Возможно даже, именно упоминание этих трех художников настроило его на столь положительное ко мне отношение. Наверное, не часто ему в ту пору приходилось обсуждать с режиссерами колористическую гамму Сутина и степень серебристости блеклых тонов в петербургском цикле Остроумовой. Я почувствовал, что и само мое предложение ему в чем-то небезынтересно.
– А оператор? – спросил он.
– Паша Лебешев…
– Он, говорят, способный человек… Способный… – почему-то тут же тоскливо вздохнул он и, долго посмотрев на меня с той же честной опасливостью, задал типично борисовский уточняющий вопрос: – А не грубый?..
– В каком смысле?
– Вы его лучше знаете… Впрочем, и я слышал о нем много хорошего… Но…
Я было подумал, что Борисова интересует грубость Паши в чисто бытовом смысле, ну например, часто ли он матерится, не дерется ли…
– Нет-нет, я совсем о другом. Художественно не грубый? Те вещи, о которых вы говорили, требуют от оператора тонкости и изящества…
Этим вопросом он поставил меня в тупик. На всякий случай я ответил, что Павлик, как мне представляется, художник тонкий.
– Ладно, – неожиданно для меня согласился на все разом Борисов, – давайте попробуем…
Это было так поразительно! Автор суперсложных сверхпостановочных мосфильмовских «продакшенов», с мировой известностью, после получаса разговора согласился работать со мной, новичком, еще только собирающимся снимать свою первую полнометражную картину, да еще воспринял мои режиссерские пожелания как вполне естественные и нормальные.
С этого момента я стал время от времени звонить ему, уже как участнику общей работы, и он начал общаться так, словно мы знакомы и работаем вместе уже долгие годы. При этом он сразу же включил свой сложный санитарный фильтр, не подпускающий ни к нам, ни к нашей картине никаких чужеродных мнений и влияний. Когда Пашу сложным маневром вышибли из наших рядов, Александр Тимофеевич недолго поудивлялся нынешним кинематографическим нравам, но таково уж свойство его характера, что в любых жизненных перипетиях он усматривает не смену жанров – трагедии на комедию или наоборот, но некую неукоснительную внутреннюю логику, в традиционные жанры никак не укладывающуюся. Когда я дорассказал ему о том, что учинили со мной и с Пашей наши так называемые товарищи по работе, Борисов так и не настроился на предложенную мною декадентскую покойницкую тональность. «Да», – согласился он, с точки зрения традиционной этики и морали кто ж такое одобрит? Но с точки зрения лишь ему ведомой логики развития всего сущего, может, случившееся не так и страшно?..
– Как ничего?.. С кем же мы будем снимать?..
– Ну, сейчас появились неплохие операторы…
– Рерберг?…
– И Рерберг… Есть еще несколько операторов очень сильных и понимающих…
– Например?
– Можно, допустим, поговорить с Леонидом Ивановичем Калашниковым. Я недавно отработал с ним «Анну Каренину». Если, конечно, он сейчас освободился: он уже второй год снимает очень дорогую и хитроумную советско-итальянско-французско-шведскую картину с Калатозовым – «Красная палатка»…
Я был в растерянности. Мне-то хотелось дебютировать со своими корешами и сверстниками, а жизнь перелопачивала все так, что выходило начинать с супермаститыми профессионалами. С одной стороны, это было, конечно, гарантией, что они помогут и в случае чего защитят, а с другой – не сожрут ли они со своим супермастерством меня и мои пусть скромненькие, но дорогие мне идеи типа сутинских красных рож?
Вдобавок ко всему директором «Булычова» был назначен Лазарь Милькис, супердиректор-суперкрокодил, только что освобожденный (кто говорил – справедливо, кто – нет) от должности начальника производства всего «Мосфильма». Собиралась группа, которой по рангу должно было снимать не меньше, чем «Войну и мир» с «Ватерлоо» в придачу, и эта масштабность участников постановки, конечно, меня сильно смущала…
Мы начали работать. Прежде всего – поехали выбирать натуру. Поездку эту вспоминаю как один из счастливейших моментов жизни. Выехали мы из Москвы в дикую слякоть, в рафике нас было пятеро – я, водитель, Борисов, Калашников и заместитель директора, лихой нескучный человек Дима Гризик. Мы долго ехали изрытыми московскими окраинами по покрытым тонкой коркой льда лужам, наст под колесами тотчас рассыпался в мелкие осколки, селевые потеки грязи оседали на бортах машины. Так уныло пробаражировали километров тридцать-сорок, и вдруг внезапно и бесшумно пошел за окнами белый-белый снег. На наших глазах все вокруг преобразилось… Мы долго ехали среди этой умиротворенной красоты, разговор стал клеиться, тоже весьма приятный, настраивающий на взаимопонимание и внутреннюю умиротворенность. Наконец въехали в Ростов Великий. Поели какой-то ресторанной гадости в сторожевой башне XV века, после чего зашли в музей. Делать там вроде было и нечего, но раз уж такие титаны, как Борисов и Калашников, заинтересовались этим культурным очагом, то и я послушно поплелся за ними, заведомо зная, что в музее снимать не придется, а драгоценное время мы, может быть, и теряем. К тому же я примерно знал, где какие объекты надо найти – торговые ряды, старые улицы, – мне задача была ясна, а им вроде как нет, больше того, по ходу она будто бы все сильнее размывалась.

Последний день съемок Булычева. Семейное фото. Оператор Леонид Калашников. художник Александр Борисов и дебютант – я
В музее провели часа четыре. Себя я считал человеком, достаточно искушенным в живописи. Дима Гризик, быстренько пробежавшись по залам, отправился по делам устройства в гостинице, а мы втроем (кажется, в музее, кроме нас, вообще никого не было) не спеша отсмотрели иконы и с ощущением того, что в запасе у нас вечность, неторопливо перешли к парсунам.
Собственно, парсуны смотрели Борисов с Калашниковым, я в основном наблюдал, как смотрят они. Они тихо между собой переговаривались о тоне, цвете, свете, валерах – уже в парсунном зале я. понял, что живописи всерьез, конечно, не знаю. Во всяком случае, такой уровень разговора был мне совершенно недоступен.
Затем мы перешли в зал, где в витринах стояли большие стеклянные рюмки. Ну, рюмки и рюмки, каких я много видел в ленинградских музеях. Никогда в жизни ни у каких рюмок не останавливался, хотя в институте считался довольно художественно образованным господином. «Конечно, – говорили все, – он из Ленинграда, там Эрмитаж… Оттуда и подготовка». У рюмок мои спутники задержались еще дольше, чем у икон и парсун. Саша что-то говорил о нематериальном существовании нематериальной формы и о том, как она перетекает в другую, материальную среду, преобразуясь, но и удерживая суть, потом отдельно о ножке рюмки – как чудесно она сделана, и о том, что самое душевное стекло, которое есть в мире – конечно же, петровское. Они согласно цокали языками. Меня ничему не учили, я просто болтался сзади и, как присосавшийся к отличнику двоечник, мало чего понимая, пытался прислушиваться, делать выводы. Разговор о рюмках напрочь выбил меня из колеи, я вообще перестал что-либо понимать. Рюмка всегда была для меня предметом сугубо утилитарного назначения, вполне привычным и полезным: маленькая – для крепких напитков, большая – для запивки, дальше мои познания в этой области материальной культуры не распространялись…
Простояв минут тридцать-сорок у рюмок, они неторопливо перешли к крашеному разноцветному комодику. Комодик тоже поначалу не показался мне объектом, достойным столь пристального интереса: я знал, что бывают комодики старые, бывают новые… Все вещи делились для меня на старинные, то есть дореволюционные, менее старинные, послереволюционные, и новые – эпохи Хрущева, «на тонких ножках».
– Ты посмотри, как все-таки принципиально отличается кованый ключ от ключа слесарного? – удивлялся Борисов, а Иваныч кивал головой.
Мне такие интеллектуальные разговорчики о ту пору и во сне не снились! Короче, дойдя до конца музея, я понял, что опять образовываться придется почти с нуля. На Сутине далеко не укатишь. Борисов же с Калашниковым в полном умиротворении сели в рафик, было уже темно, пора было ехать дальше. Поехали. Как в зачарованном сне, перед нами сменялись старые русские города, выбеленные первым снегом. Я стал открывать для себя вещи, на которые никогда прежде не обратил бы внимания. Сам бы я никогда не увидел, не оценил, не понял, не запомнил набережную в Кимрах, сплошь всю застроенную деревянными домами, каждый из которых – шедевр уникальной деревянной русской бытовой архитектуры.
– Пожалуй, это единственная оставшаяся в неприкосновенности русская провинциальная набережная середины XIX века, – рассуждал для себя Саша, неторопливо покуривая на ветру сигарету «Ява».
Я тоже приглядывался и впрямь начинал видеть, как красивы, как исключительно красивы, необыкновенно пропорциональны эти небогатые дома с мезонинами, наличниками, рублеными стенами. Мне словно бы сделали промывание глаз или даже операцию по излечению ранней катаракты. Та, первая операция на глаза была, так сказать, операцией общекультурной, крупнопомольной, теперь же Саша Борисов ювелирнейшим образом принялся оттачивать мое бытовое тонкое зрение, словно надев мне очень специальные, очень борисовские очки на глаза.
Я стал различать детали материального устройства белого света и жизни людей. Естественно, я еще не понимал, как соотносятся эти детали со всем глубоким пластом культуры, который за ними высвечивается, но тем не менее вот эта набережная в Кимрах навсегда оставила в памяти впечатление самостоятельного великого художественного произведения.
Дальше мы стали попадать в какие-то прекрасные музеи, о существовании которых я даже не подозревал. Не знаю, сохранились ли они сейчас, не растасканы ли, не закрыты ли из-за безденежья или вечного российского равнодушия и раздолбайства, но тогда они были разбросаны по всей стране и назывались «краеведческими». Думаю, по совокупности они составляли один из самых великих музеев России.
Устроены они были почти все одинаково, по-своему очень трогательно: почти сразу за входом можно было обнаружить топорно сделанного не совсем трезвым местным таксидермистом мамонта, вроде как тоже спьяну забитого когда-то в округе, затем следовал обломок каменного топора, которым первобытный человек данной административной единицы сразил того самого мамонта. Затем следовал раздел, посвященный установлению советской власти в крае: можно было нажать кнопку – и на карте тут же вспыхивали лампочки, отмечающие очаги революционных выступлений, то есть особо разбойных нападений и поджогов местных усадеб и других очагов русской национальной культуры. Далее шли портреты самих поджигателей, местных павликов морозовых и фотографии останков отданных ими чекистам на растерзание пап, и уже затем начиналась так называемая мемориальная часть.
В этих почти всегда гениальных «мемориальных частях» мне стали открываться предметы, тоже прежде не привлекавшие моего внимания: ну скажем стоит под окошком секретер и один стул, на секретере какие-то предметы – подсвечник, может, обшитый бисером бронзовый письменный прибор, сверху – английские часы в деревянном футляре… Все предметы настоящие, редкой душевности, и в отличие от больших музеев, где они теснятся, мешают друг другу, тут они существуют как бы по отдельности, проникают внутрь сознания также отдельно и избирательно. А в целом под тем окошком – выдающийся онегинский мемориал, материализация того, что увидела когда-то Татьяна в усадьбе странного соседа…
Тогда же в этих музейных помещениях я увидел и старые русские портреты, которые почти все либо принадлежали кисти «неизвестного художника», либо изображали неизвестного (неизвестную) в армейском мундире (в кружевной шали). Я тут и обнаружил для себя, что, может быть, самый великий русский художник – пусть самый душевно близкий мне русский художник – это «неизвестный художник». Такого живописного своеобразия, такой отдельности человеческих лиц, как на этих портретах, не было даже у самых лучших живописцев России. Пусть те ставили себе более высокие, более сложные задачи и блистательно их решали… И в этих музейчиках часто попадались копии, а то даже и прелестные подлинники то Брюллова, то Шишкина… Но завораживали меня по-настоящему отчего-то эти «неизвестные» люди, изображенные «неизвестными» художниками. Я говорю именно об этой части русского портрета, зачастую выполненного крепостными, как об уникальном явлении русского искусства, впервые приоткрывшемся мне в ту поездку.
В достопамятной той поездке случилось и много смешного. Суперас мосфильмовского административного корпуса Дима Гризик, незадолго до этого на «Красной палатке» по указаниям Калашникова гонявший туда-сюда по Северному Ледовитому океану атомные ледоколы, а также не раз переворачивающий вверх ногами айсберги, почему-то вдруг не смог в каком-то из маленьких городов достать нам номер в гостинице (и это зимой, когда никаких командированных там в помине не было!); в итоге нам пришлось заночевать в таинственном лесном не то притоне, не то пансионате. Дима привел нас в комнату, где стояло штук сорок прикрытых каким-то рваньем панцирных сеток, на некоторых уже возлежали не то полусонные, не то полупьяные, но весьма внушительные тела водителей-дальнобойщиков.
– Дима, ты в своем уме? – только и вымолвил Калашников.
– Заклинило. Ничего не смог сделать, – покаялся Гризик.
Мы идиотически захохотали и повалились на койки в притоне-сорокаместнике. Как наутро выяснилось, Саша Борисов от усталости не заметил отопительную трубу, шедшую вдоль стены… Сам он комплекции вовсе не дальнобойной и во сне не заметил, как под эту трубу нечаянно закатился, протиснулся… Проснулся вкрутую сваренным и полуошпаренным, но и это отчего-то показалось нам только смешным – ничто не могло уже испортить настроения ни ему, ни нам…
Наутро мы продолжали свое путешествие по зачарованной белой стране. Более прекрасного облика России, чем тот, в котором она предстала нам в поездке по «Булычову», никогда не видел.
Мы подъехали к городу Кологриву, но оказалось, что попасть в город можно только по тонкому и неверному льду, минуя полузатонувший причал. Над въездной дырой в причале красовался плакат, повешенный, наверное, аж в тридцатые годы, «Привет кологривцам-стахановцам, победителям соревнования!». Машина въехала в ампирную сталинскую дыру причала, через ту же дыру аккуратно сползла на молодой лед… По пути на тот берег разговорились с заикой-смертником, перегонщиком автомобилей с одной стороны Волги на другую. «Каждая ездка, – признавался он, – как п-п-п-последняя…» Он не знал, с кем вместе пойдет ко дну. Гарантий, что непременно дотянем до того берега, героический заика благородно не давал.
А на том берегу стоял в тишине еще один восхитительно прекрасный русский город, тоже весь усыпанный белым снегом. В городе этом, как мы потом выяснили, последние годы по каким-то таинственным российским причинам вообще ничего не производилось. Тем не менее все взрослое население по будням было сосредоточено на главной площади, где шла интенсивная торговля. Приезжий тут был редок и дик, как мы, заносило его сюда по неведомым надобностям, потому жители продавали собственные изделия исключительно друг другу. Одна половина города вязала искусные кальсоны, другая – носки. И кальсоны, и носки были замечательные, из толстой прочнейшей шерсти – я себе купил и то и другое, сносу не было. Вязальщицы кальсон, придирчиво выбирая, покупали носки, вязальщицы носков – кальсоны, это была единственная замеченная в Кологриве форма товарообмена и единственная сфера деятельности тамошних обитателей. И все же, все же… Более волшебного ощущения зачарованной тишины и странной осмысленности этой бессмысленной торговли, а также все той же неувядаемой красоты первого белого снега ни до, ни после мне не приходилось испытывать.

«Егор Булычев». В «уазике» на выборе натуры
В этой поездке я прошел первую школу очень внимательного и подробного отношения к одухотворенному материальному миру, окружающему нас. Я и раньше понимал, конечно, сколь значима и в искусстве и в жизни та самая одухотворенная материальная среда, которую обычно попросту кличут «атмосферой». Но такой степени сложности и значительности ее существования, перспектив ее экранного или сценического воссоздания даже не мог себе и вообразить. В Париже, к примеру, не нужно большого ума, чтобы хорошо, выразительно, художественно снимать кино. Больше того, нужно, я думаю, быть большим болваном, чтобы снимать его плохо. Куда ни поставь камеру, куда, почти произвольно, ни ткни взор ее объектива, он всегда упрется в некую сверхнасыщенную, сверхплотную, веками создававшуюся живописную пластическую среду, которая и на экране выглядит и цивилизованно, и красиво. В брежневской же Москве, куда б ты аппарат ни поставил, он неминуемо упирался в среду хамскую, гнусную, антихудожественную, от которой разве что повеситься тут же не хотелось. Без даровитого художника в нашем кино, да и в бытовой жизни, ну никак не обойтись…








