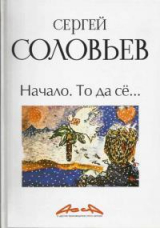
Текст книги "Начало. То да сё…"
Автор книги: Сергей Соловьёв
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
После гулаговских условий первого года своей жизни я перекочевал в роскошное строение старой японской архитектуры, перегороженное внутри ширмами из тонкой шелковой бумаги. Дом стоял на главной улице, в самом центре Пхеньяна. И дом, и обслуга могли бы послужить хорошей моделью для разоблачительных антиколониальных фильмов. У нас были повара, шоферы, садовник, свой врач, опекавшая меня старая нянька, японка Арита.
Много лет спустя, снимая в Японии «Мелодии белой ночи», я вдруг с изумлением обнаружил, что из меня вываливаются целые обороты японской речи, хотя по-японски я не знал ни единого слова – видимо, Арита впечатала в подсознательные тайники моего мозга свои старояпонские «С добрым утром!», «Спокойной ночи!», ошметки каких-нибудь старых японских сказок, рассказывавшихся мне перед сном…
В Корее у отца был шикарный американский джип – знаменитый «Виллис» с опускающимся на капот ветровым стеклом – и при нем личный шофер отца, старшина Уваров, с которым связано одно из самых волнующих моих детских воспоминаний. Вкатив машину на тротуар, Уваров сажал меня за руль, включал первую скорость. Машина двигалась по тротуару, за рулем сидел я не то трех, не то четырех лет. Для меня было истинным счастьем сидеть за баранкой и с ужасом наблюдать, как шарахаются в стороны, норовя убежать кто куда, изумленные раскосые граждане страны победившей социалистической демократии. Уваров в форме старшины Советской армии шел рядом и, покуривая папироску, с удовлетворением оглядывал новый порядок на главной улице новой социалистической столицы.
Вскоре после того на горе Марамбо под Пхеньяном произошло и еще одно событие, пополнившее скорбный список моих физических ущербностей. На этой самой горе и по сей день стоит старая многоярусная пагода, место паломничества туристов, что-то вроде корейского Петергофа. Когда папа и мама отвлеклись, созерцая древние красоты, я свалился головой вниз со второго яруса храма, получив при этом еще одно тяжелейшее сотрясение мозга. Меня усадили в джип, Уваров на страшной скорости погнал домой, вследствие чего меня продуло, так что к сотрясению мозга добавилось и двустороннее крупозное воспаление легких.
Врач сказал маме: «Комбинация очень печальная. Попрощайтесь с ребенком. Скорее всего дело кончится летальным исходом». Вопреки его прогнозам изворотливый мой организм вновь поборол напасти – я, как видите, выжил.
Вскоре последовала новая, уже послевоенная перемена судьбы. Перетряхивая в очередной раз кадры победителей, Иосиф Виссарионович вспомнил проступок отца, недостойный партийца и контрразведчика, в результате чего Соловьева Александра Дмитриевича выставили из органов. Так мы попали в Ленинград, на Невский, 5, квартира 8, в невероятную коммунальную квартиру, где кроме нас жило еще тех самых, по Высоцкому, человек сорок. Уборная, толчков на пятнадцать, никогда не забуду, была с мраморными кариатидами – старый, высокого класса архитектуры дворянский дом обосновавшиеся в нем после революции и «уплотнений» жильцы перестроили под коммуналку. Мы занимали в этой коммуналке одну комнату, в которой жили ввосьмером – отец, бабушка, папина сестра, ее муж, их дочка и мы с мамой. Года три так и жили.

1948 год. Пхеньян. Гора Марамбо. Перед падением с храма
Из тех лет в памяти сохранилось, как я еду на трехколесном велосипеде по саду возле Адмиралтейства, в матроске, с надписью «Смелый» на ленте бескозырки. Последствия ужасающего младенчества все еще сказывались на мне: я был не просто худ, но тощ как скелет. Какая-то женщина, прочитав на моей ленте «Сме-» («-ЛЫЙ» было на невидимой для нее стороне), толкнула в бок свою соседку по лавочке: «Смотри, смотри, смерть едет!»
В это время у меня появилось необычное увлечение, объяснить которое не берусь и ныне. Включив на полную громкость радио во время исполнения музыки, предпочтительно симфонической (почему симфонической? – семья была весьма далека от элитной культуры), я начинал под ее звуки дирижировать обгрызенным карандашом. Стоя посреди комнаты, в бескозырке с надписью «Сме…», я с наслаждением махал в такт, причем занимался этим длительно и постоянно. Родители поняли, что у меня какие-то смутные музыкальные наклонности, вследствие чего решено было учить меня играть на рояле. И тут-то я показал себе и окружающим нечеловечески неправдоподобное отсутствие способностей к этому делу и вообще каких бы то ни было музыкальных талантов. Семь лет я учился игре на рояле два, а то и три раза в неделю. Поначалу инструмента у нас не было, и первые годы я учился на доске – большой фанере с нарисованными на ней клавишами. Звуков фанера, естественно, не воспроизводила, но тренировать руки на ней при желании было можно. Насколько велика была моя любовь к самостоятельному дирижированию, настолько ненавистной с первого же момента показалась мне эта глухая, насильно впихнутая мне под мышку доска. Я плакал, умоляя родителей прекратить надо мной издеваться, но они, видя меня с дирижерским карандашом, еще больше утверждались во мнении, что ребенок может и не понимать, в чем заключено его истинное счастье.
Бывая сейчас в Санкт-Петербурге и проходя мимо Аничкова дворца на Невском, я всегда со сложным и по сей день живым чувством смотрю на пятое от угла окно. В Аничковом помещался тогда Дворец пионеров имени А.А. Жданова, а в нем моя музыкальная школа. Пятое от угла окно – моя пыточная, где семь лет надо мной измывались педагоги, ну и я, как мог, над ними. За семь лет обучения, клянусь, я не уразумел отличия басового ключа от скрипичного и физиологически не мог усвоить, почему, когда правая рука играет одно, левая должна играть совсем другое. Года три, наверное, я посвятил изучению «Камаринской» Глинки. К этому времени уже был куплен инструмент, и когда мама говорила: «Сыграй гостям французскую песенку», отец тут же откликался: «Умоляю, не надо. Под эту песенку меня понесут хоронить». Действительно, играл я ее с нечеловеческим унынием и превеликим множеством ошибок.
В музыкальной школе ко мне уже привыкли, хорошо относились, по-человечески жалея, но когда после семи лет обучения дошло до выпускного концерта, моя учительница Виктория Андреевна, которую до сих пор с нежностью вспоминаю, была в совершеннейшем ужасе. Она понимала, что сыграть я органически ничего не в состоянии: «Камаринскую» уже забыл, Шопена – так и не выучил. Выход она нашла гениальный, хотя и бесконечно для меня унизительный. Свидетельство об окончании семи классов музыкальной школы я подтвердил на выпускном концерте, объявляя в роли конферансье выступающих и их номера.
В 1951 году я пришел в первый класс 167-й особо образцовой школы. Класс был интересный. Все десять лет я отсидел на одной парте с Левой Додиным, ныне одним из самых крупных театральных режиссеров. Другим моим близким школьным товарищем был Лева Васильев, замечательный поэт, по жизни предельно неприкаянный и очень одинокий человек. В сравнении с тем, как жил он, образ жизни бомжа, наверное, покажется добропорядочным мещанским существованием. Связи, образовавшиеся у меня уже в первом классе, как оказалось, имели для будущей жизни существеннейшее значение. От того, с кем учишься, с кем болтаешься по жизни первые пятнадцать-двадцать лет, зависит очень многое.
Руководил нашей школой Марк Семенович Морозов. Название «образцовая» оправдывалось следующими его нововведениями. Все вплоть до седьмого класса (я пришел в школу, когда она была еще мужская) ходили подстриженные под ноль. До сих пор помню зрелище поблескивающих черепов, особенно впечатляющее в сумеречные часы. Можно было отвлечься от того, что говорили учителя, и погрузиться в изучение форм черепов. Колоссально интересное занятие! Одни черепа были круглы, как бильярдные шары, другие впечатляли нестандартностью изломов. Какой выразительный череп был у мальчика по фамилии Мехельсон!

Ежегодная трудовая повинность в колхозе с Левой Васильевым. 1957 год

Ленинград. С Левой Додиным. Эпоха «чеса»
Другое нововведение заключалось в том, что одеты все мы были в сталинские мундиры, только черненькие: френчики с двумя карманами на груди. До седьмого класса мундирчики были с отложными воротничками, начиная с седьмого – со стоячими. С седьмого класса допускались послабления по части шевелюры: можно было стричься под легкий бобрик.
Начальные классы школы размещались на первом этаже, а под ними, в подвале дома – ликеро-водочный завод, который, по-моему, не могут выселить и по сей день. Все десять лет обучения мы проходили слегка пьяноватыми, поскольку дышали чистейшими спиртовыми газами, проникавшими в классы сквозь щели. Какое же, наверное, замечательное сюрреалистическое зрелище являли собой мы со стороны: маленькие черепастые человечки в арестантских сталинских мундирчиках, и все как один вроде бы слегка выпимши. Что же до освоения знаний, то по этой части успехи мои были довольно убогими.
Самым близким моим товарищем по школе был уже упомянутый Лева Додин.
Если социальный облик моей семьи представлял собой смешение несовместимых укладов, то у Левы семья была изумительная и превосходно интеллигентная. У моих родителей разница была в семнадцать лет, у Левиных возрастной разницы не было, но они казались мне людьми очень пожилыми. Левин отец, Абрам Львович, был профессором геологии, романтически влюбленным в свою профессию. Каждый год в начале апреля он уезжал в Туву и возвращался где-то в конце октября, чтобы за зиму систематизировать результаты своих поездок, почитать лекции студентам и снова отправиться в путь. Левина мама была врачом-педиатром, прекрасным, как все говорят, врачом – во всяком случае, работала она в этой благороднейшей профессии до восьмидесяти, по-моему, лет. Еще в их семье жила замечательная женщина, Левина тетя, звали которую Люба – она-то, собственно, и занималась повседневным воспитанием Левы, заодно и моим. Воспитание это было самым что ни на есть изысканным.
У них была по тем временам прекрасная квартира, выходившая окнами на Овсянниковский сад, на тот самый сад, где когда-то сломали шпагу над головой не то Достоевского, не то Чернышевского. По-моему, все-таки Достоевского. Квартира, естественно, была коммунальная (других тогда не было), но двухуровневая, почти двухэтажная – из одной комнаты в другую можно было перейти, поднявшись по скрипучим высоким ступенькам.
Воспитание началось с курева. Мы учились тогда во втором классе, но уже потянуло нас поинтересоваться, что это такое. Лева был случайно пойман в уборной с дымящимся остатком папиросы, которую оставил ему докурить я. Тетя Люба огорчилась и сказала: «Ребята, курить в уборной вредно – там тесно, мало воздуха. Курите в комнате».
От этих слов мы с Левой похолодели. А тетя Люба стала регулярно покупать для нас «Беломор», выкладывала его на стол вместе со спичками.
Не остановившись на этом, тетя Люба дала нам как-то по тридцать копеек сходить в кафе «Мороженое». Тогда заведения эти по воскресениям посещали родители с ополоумевшими от счастья детьми, посредине недели в этом самом кафе, закинув ногу на ногу, сидели «стиляги» с коками на голове и зелеными галстуками с обезьянами. К ним-то и мы, лысые третьеклассники, однажды и присоединились. Кафе было рядом с кинотеатром «Титан». Мы уселись за столик, заказали по сто пятьдесят грамм мороженого и почти сразу закурили «Беломор». Но тетилюбиного духа либерализма здесь не оказалось и в помине, почти сразу нас выставили, не дав нормально доесть мороженое, я уже не говорю про курево. Тут мы поняли, что у жизни все-таки две стороны – либеральная личная и жестокая общественная, где нужно весьма осторожно выказывать свои привычки и наклонности.
Первые два года обучения Лева был мне очень дорог еще по одной причине. Я приносил с собой из дома завтраки с сыром, который не любил (то, что я не любил, мама почему-то считала особенно для меня полезным), Леве же тетя Люба нарезала бутерброды с твердокопченой брауншвейгской колбасой. Несмотря на то что Лева, по-моему, сыра тоже не любил, он щедро угощал меня своими бутербродами, уныло сжевывая мои. Лева был очень благородным и совсем невеличественным мальчиком. И выражалось это совсем не только в дележке бутербродов. Проявлялось это во всем.
Эпоха упорядоченного тоталитарного детства рухнула в один день. 5 марта 1953 года в шесть утра меня разбудил отец: «Вставай! Немедленно вставай! Умер Сталин!» Я встал, включил лампочку и почему-то почти сразу от какого-то смертельного ужаса сел писать «рассказ», который к смерти Сталина никакого отношения не имел, но страх, переполнявший меня, в нем отразился. Написав две страницы (впервые, до этого момента никаких «рассказов» я не писал), я прошел через коридор и в утреннем сумраке большой родительской комнаты увидел плачущего отца. Он сидел у стола на венском стуле боком, в белой нижней рубашке, в кальсонах, босиком, и плакал. Таким я не видел его ни разу. Отец обладал такой волей, силой, энергией жизни, и все это вдобавок всегда было скрыто за спокойствием манеры держаться, что представить его вот таким было просто невозможно.
Помню, мы с ним как-то ехали в трамвае – он первый раз повез меня на каток. Был страшный мороз, градусов тридцать, окна трамвая были покрыты коркой льда. Ехали мы довольно долго – с Херсонской на Кировский остров, отец заснул, прислонившись головой к стеклу, а когда приехали, левая половина трамвая отпотела – не только стекло, к которому он прислонился, но весь ряд окон с его стороны. Какое же горячее у него дыхание, подумал я, это же надо обладать такой нечеловеческой энергетической мощностью организма. И то, что вот этот человек сейчас сидел и плакал, было для меня потрясением.
Потом мы пришли в школу и нас с Левой поставили у портрета Сталина, причем сначала велели сходить домой и переодеться – белый верх, черный низ. Мы стояли, подняв руку в салюте, в белых рубашках и красных галстуках, синие от холода, стоять нужно было чуть ли не час – рука отваливалась. Я сцепил зубы и, как мог, старался вытерпеть это невиданное иезуитство преданности и любви.
И, уже стоя там, у этого самого портрета, мы почему-то точно ощущали, что в это утро от всех нас, от целого народа, хилой частью которого в то утро мы тоже, наверное, себя впервые ощутили, уходит целая эпоха, о которой, как ни странно, воспоминания остались чистые и простые.
Помню почему-то белый-белый пушистый снег, мы собираемся с отцом покупать мне к Новому году подарки, идем в ДЛТ (Дом ленинградской торговли), там в центре огромного торгового зала стоит невероятных размеров елка, пушистая, вся в огромных белоснежных комках ваты. Наверное, это не только мое детское впечатление: в те послевоенные годы казалось, что и вообще вся жизнь начинает белоснежно налаживаться и с каждым днем будет все белее, все лучше и веселее.
Помню, как дома все рядком садились у радио и слушали торжественным голосом зачитываемый Левитаном «Указ о снижении цен», и при каждой оглашаемой цифре («изделия из хлопка – на восемнадцать процентов!») изо всех родственных ртов само по себе вырывалось счастливое «А-ах!». Одновременно продолжали стоять в очередях за мукой с написанными на ладонях номерами. Меня тоже приводили «стоять»: на человека давали по три кило – получалось, я тоже уже человек, муки насыпали больше.
Вот это ощущение праздника, белизны снега, радостного убранства елки, вообще радостного убранства жизни – было столь сильным, что казалось, настоящая жизнь происходит от Нового года до Нового года и ничего, кроме радости, судьба тебе в будущем не подарит. Даже невеселые стороны жизни казались какими-то светлыми, что ли. Помню журнал «Крокодил», на обложке которого добрая русская женщина в белом халате врача вытряхивала из мусорного ведра много-много длинноволосых, неприятных, в грязных, кровавых халатах людей. Я не слишком представлял, кто эти люди и что это за «дело врачей», но от картинки веяло силой, задором, весельем, чувством справедливости. Слова «еврей» я вообще никогда до поступления во ВГИК не слышал, вплоть до той самой, знаменитой, наделавшей много шума речи Михаила Ильича Ромма в ВТО. До нее, так уж у меня складывалась жизнь, я не ведал ни про антисемитизм, ни про «еврейский вопрос». Так что, глядя на картинку в «Крокодиле», никак не отождествлял карикатурных носатых уродов с евреями – это были просто какие-то скверные, неприятные люди, от которых надо было очистить жизнь, чтобы они не пачкали белый-белый снег вечного праздника.

Крым. Артек. «Близится эра светлых годов, клич пионера – всегда будь готов!»
Помню, мне страшно хотелось увидеть портрет замечательной женщины, разоблачившей таинственную носатую нечисть, но портрета нигде не печатали. Писали только, что она белокурая и похожа на Любовь Орлову. Уже этим она была так мила моему сердцу.
И вот все это кончилось со смертью прекрасного Генералиссимуса в белом мундире, осененном геройской звездой. И в оперную нарядность этой бесподобной, беспечной жизни почти тут же стал поддувать нехороший, ледяной, промозглый ветерок. Началось со страшного известия, которое принес хулиган и двоечник Щукин. Мы случайно встретились по дороге в школу, на улице стояла обычная ленинградская утренняя темень, вокруг – пейзажи не то Достоевского, не то Чернышевского, зябко, страшно. От пешего пути в школу и обратно всегда оставалось ощущение безотрадности, единственная светлая точка – желтое окошко, возле которого я всегда останавливался то на десять, то на пятнадцать минут поглазеть, как люди в белых халатах делают вафли. Они поднимали огромный раскаленный чугунный лист в чугунную клеточку, лили на нижний неподвижный лист белый сироп, прижимали верхним листом, поднимали его опять вверх и снимали готовый вафельный лист: огромный золотисто-желтоватый прекрасный вафельный лист. И это окошко, и то, что за ним происходило, казалось воспоминанием об ушедшем празднике, так внезапно и несправедливо оборванном смертью восхитительного вождя.
Возникший среди этого глухого Достоевского реализма двоечник и хулиган Щукин велел мне немедленно свернуть с ним во двор. «Зачем?» – пытался отвязаться от него я. «Поссать…» – «Но я совсем не хочу».
Но Щукин был суров и неумолим. Он заставил меня пойти с ним во двор, вытащить из штанов на мороз посиневшую сразу пипку и затем, справляя рядом свою малую нужду, охрипшим заговорщическим голосом произнес: «Ты знаешь, что Сталин – предатель?» От ужаса и мороза пипка у меня в то мгновение чуть не отпала. «Сталин – предатель!» – настырно повторил он. Мне словно нагадили в душу: неужели на самом деле настоящая взрослая жизнь совсем не так светла и прекрасна, какой казалась в детстве, да и снег вот тоже не так уж чист и бел…
С этого момента можно было исчислять новый кусок моей жизни – период созревания, всяческого, полового и нравственного одновременно.
Период созревания полового резко обозначился введением в четвертом классе совместного обучения. Сообщение о том, что с первого сентября это произойдет, оставило во мне след не менее глубокий, чем впоследствии полет Гагарина в космос. До того времени представительницы противоположного пола казались всем нам, конечно, реально существующими, но все-таки чем-то смутным, неясным, внематериальным и малоуловимым. Хотя, возможно, я просто по природе, так сказать генетически, был влюбчив. В смутных, еще почти младенческих воспоминаниях бестелесно маячит какая-то вроде соседка по даче, на которую в трехлетием возрасте я подолгу таращу глаза. Но со вступлением моим в социальную жизнь, а именно – в первый класс образцовой мужской школы, женщины как биологический вид вообще отдалились, а любые взаимоотношения с ними отложились на некие весьма и весьма смутно прогреваемые послешкольные времена.
Любимым моим фильмом в те годы был фильм «Счастливого плавания», выдающийся соцреалистический гимн во славу юных моряков, нахимовцев. Одновременно меня посетила страстная мужественная мечта – стать офицером-подводником. И тут, совсем ни к селу ни к городу, – либеральное известие о слиянии с женской школой.
Мы с Левой немедленно отправились в ту самую школу, с которой нам предстояло соединиться, посмотреть наших будущих одноклассниц. Страшно краснея и держа самим себе неведомый фасон, мы с каким-то новым чувством реальности разглядывали юные создания, скакавшие через веревку и не выказавшие к нашему появлению ни малейшего интереса.
И тут в наших взаимоотношениях с Левой начался первый драматический период: по какой-то причине некоторое время мы влюблялись в одних и тех же девочек. Для начала, прямо во время первого постсталинского кастинга во дворе женской школы, нам с ходу приглянулась Наташа Горбатовская, и весь первый объединительный год прошел под ее знаком – потом наши чувства одновременно переметнулись на Люсю Виноградову.
Я и до всего до этого еле-еле учился, но тут уже вся образовательная программа и вовсе пошла насмарку. За все десять лет сидения в школе, вот хотите верьте, хотите нет, но я клянусь, у меня ни разу не сошлась ни одна задачка с ответом. Уже тогда, когда воду из одного бассейна через трубу только начали переливать в другой, я сразу честно капитулировал перед арифметикой. А с началом «иксов» и «игреков» наступил полный умственный коллапс: я не в состоянии был решить ни одного уравнения и вообще не понимал, что это такое: до десятого класса все именовал «икс» – «хэ», а «игрек» – «у». Все десять классов с этими таинственными премудростями за меня справлялся Лева Васильев, я уже говорил, будущий замечательный поэт и одновременно выдающийся математик.
Несмотря на доходившую до крайней грани тупость к учению, все школьные годы тем не менее я проходил каким-то образом в «ударниках». По введенной нашим директором табели, учащиеся делились на отличников, ударников (это те, у кого были пятерки и четверки), троечников и двоечников. Как я попал в ударники, мне и по сей день не совсем ясно – может, произошло это благодаря бойкости и некоторому нахальству, с которым я изъяснялся по устным предметам. В моих тетрадях в основном писали другие. Сомнительные мои эти качества дополнялись умением нелживо смотреть в глаза педагогу, как бы от собственного лица объясняя им чужие решения.
По всем правилам фрейдистской науки одновременно с пробуждением пола обнаружилась и тяга к святому искусству. Началось с того, что Елена Владимировна, наш классный руководитель и преподаватель литературы по кличке Пипин Короткий, которая досталась ей за почти карликовый рост, однажды сказала:
– Вот что, Лева и Сережа. Вы приготовьте-ка нам к седьмому ноября «Сказку о рыбаке и рыбке». Тебя, Лева, я назначаю дедкой, а ты, Сережа, будешь бабкой.
Я очень благодарен этой чудесной женщине, которая пережила блокаду, одно это уже внушало к ней уважение. Седые свои букли, которые и впрямь иногда казались ненастоящими, она укладывала под сеточку. Говорили, что букли на самом деле не букли, а парик, под париком же она вчистую лысая: в блокаду от голода у нее повыпадали волосы.
С ее легкой руки за какую-то неделю я, недавно еще едва ли не самый забитый ударник-совок, каким-то волшебным образом переместился вместе с Левкой в самую крутую интеллектуально-артистическую элиту средних школ того времени. Успех у нас был оглушительный. Нас сразу вместе с неводом поволокли по каким-то невероятным конкурсам, отчетным выступлениям, но главное, что и Наташа Горбатовская, и Люся Виноградова, которым ранее мы были, в общем-то, до лампочки, вдруг остановили на нас свои задумчивые взоры.
Тут я впервые стал догадываться, какая страшная жизненная сила – это самое будто бы бесплотное и далекое от жизненных стихий и схваток «искусство». Выучив каких-нибудь удачных двадцать строчек и понахальнее напирая на публику, ты в какой-то момент ощущаешь, что от этой публики уже как бы и отделился. Публика тут, где-то у тебя под ногами, внизу, а ты… Чувство этого непостижимого и нахального парения по-серьезному испытывало душу. Я видел, что и Лева переживает нечто подобное. Он тоже понимал, что это какой-то иной кайф, нежели курение «Беломора» в кафе «Мороженое». Не будь дураки, мы эти свои нежданные достижения стали немедленно и очень активно развивать. С пушкинской сказкой мы устроили по школам города какой-то бешеный чес. Успех был явным и крутым. Параллельно, неявно и скромно продолжалось наше тайное любовное соревнование.
Приближался очередной Новый год. В классе мы были, по-моему, в четвертом, вряд ли в пятом. Накануне школьного маскарада тетя Люба отвела нас в Мариинский театр, и там, в костюмерной для массовок, за дикие деньги, за три с чем-то вроде бы рубля, нам позволили взять все, на чем остановится наш восхищенный взгляд. Я выбрал костюм гусара, в предчувствии близящегося бала ощущая в душе нечто прямо-таки роковое, нечто лермонтовское. А Лева, как бы еще до начала битвы примерив на себя грядущую неминуемую победу, взял дворцовый костюм пажа. На моем мундире золото было гуще, но, с другой стороны, у Левы была шпага. Правда, перед самым выходом в свет обнаружилось, что Лева позабыл взять трико. Поэтому выше колен на нем были хитроумные полосатые штаны буфами, а под ними голубели голые, но уже довольно волосатые его ноги, помню, с темно-сизыми от холода коленками.
Когда мы, повторю, уже овеянные элитной славой, вышли в зал в своих роскошных нарядах, то, конечно же, мгновенно затмили всех прочих самодельных зайчиков, белочек и даже каких-то там арлекинов в домино. Зал завороженно провожал нас глазами, мы поняли, что грянул наш час. В каком-то удачно подвернувшемся ему танце Лева оказался удачливее меня и буквально вырвал из моих цепких ревнивых когтей Люсю Виноградову.
Разумеется, страдания мои были неимоверны. Душа разрывалась на части. В голову лезли отчаянные мысли. Хорошо бы, думал я почему-то, поседеть мне за одну ночь, чтобы завтра все увидели, до чего я был доведен ветреностью, неверностью да и дуростью моей избранницы, в конце-то концов. Был бы у нее ум, она бы сообразила, кто Лева и кто я. И почти тут же возникал совсем не детский прямой вопрос: а кто, собственно, я? Перебирая ответы, один печальнее другого, я испытывал разрывающие душу тягостные мысли о своем ничтожестве, от чего и вправду можно было поседеть. Что, кстати, от подобных мыслей, верно, в свой час, довольно ранний, все-таки и произошло. Но это было уже где-то ближе к пятидесяти, и привычная седина моя никогда не была мне в особенную радость, а тогда, в тот миг, я отдал бы за нее все на свете, как говорится, хоть руку на отсечение.
Обуреваемый желанием немедленного реванша, я решился на дьявольский трюк. Перед следующим школьным вечером я потребовал для своего выступления минимум двадцать минут, поскольку заявил, что намереваюсь сыграть собравшимся на фортепиано ни больше ни меньше, как «Поэму экстаза» Скрябина. Где я вычитал это название, до сих пор точно не могу вспомнить. Все были ошарашены. Лева, по-моему, слегка смятен. Уж он-то превосходно знал все мои так называемые успехи в занятиях музыкой. А занятия эти все больше и больше заходили в безнадежный тупик. За инструмент я садился лишь тогда, когда мама по длинному нашему домашнему коридору уходила в глубь его, на кухню. Тут я ставил на пюпитр какую-нибудь интересную мне книжку и, с увлечением читая ее, без разбора лупил по клавишам, лишь бы маме там, далеко на кухне, было слышно, что инструмент тренькает, издает какие-то там звуки – это значило, что я музицирую.
Настал вечер экстаза. Я надел цивильный костюм, нацепил, помню, даже галстук. На сцену выкатили рояль, срывающимся от ужаса голосом я велел поднять крышку. В зале собралась вся школа – даже десятиклассники и педагоги. Я нагло обвел собравшихся глазами, объявил: «Скрябин. „Поэма экстаза“», сел и, покачивая корпусом из стороны в сторону, задербанил по клавишам нечто вовсе бессмысленное, ну просто бил, куда пальцами попаду. Что-то похожее на игру на фортепиано я, конечно, умел сымитировать и свой дикий пианистический бред и абсурдную какофонию по временам прерывал невесть откуда взявшимся гармоническим арпеджио, в эту же секунду выжимая педаль вдохновенно закатывая глаза. Минут через восемь я закончил и, к невиданному моему изумлению, был встречен шквалом благодарных аплодисментов. В тот достопримечательный вечер мне стало ясно, что иногда публика бывает не просто «дурой», но какой-то немыслимой патологической идиоткой: под видом эксклюзивного откровения, немыслимого и неконтролируемого художественного экстаза, ей запросто можно впаривать, наверное, любую чушь. И для меня самого это открытие было потрясением, я не сомневался, что на первой минуте исполнения найдутся нормальные люди, которые вышвырнут меня со сцены. Да и решился-то я на всю эту сомнительную и сверхопасную аферу только от отчаяния. Закрепляя успех, сразу же после окончания выступления я с умным видом пояснил публике, что это была не в чистом виде скрябиновская «Поэма экстаза», но некие фрагменты из нее с моими вариациями и импровизациями на трагические темы. Так сказать, Скрябин-Соловьев, по аналогии с Бахом-Бузони.
С этих пор начался недолгий период авантюрного моего счастья, основанного на той или иной успешной халтуре. Уже по школьным коридорам пошла слава, что я – своего рода вундеркинд. Тут Лева позвал меня в ТЮТ. Где-то он накопал сведений, что при Дворце пионеров имени А. А. Жданова существует некий Театр юношеского творчества. Руководил им и вправду удивительный человек и педагог – Матвей Григорьевич Дубровин. Авторитет Станиславского среди сотрудников и актеров МХАТа был, я думаю, ну во всяком случае не выше в сравнении с тем обожанием, каким пользовался у своих учеников Матвей Григорьевич.
Меня поразило и то, что рядом с нами, пятиклассниками, у Дубровина занимались люди, уже окончившие школу, студенты каких-то там престижных вузов, ныне ставшие хорошими режиссерами – Веня Фильштинский, Женя Сазонов… Удивительно было общаться с ними на «ты», со взрослыми, серьезными людьми. Но были тут и свои серьезные «но».
Атмосфера ТЮТа была пронизана священным трепетом обожания театра, и каждый вступающий в тот круг должен был трепетать постоянно, все время контролируя достаточную силу собственного трепета. Не скрою, трепетать до зубовного стука мне как-то никогда не очень вроде бы и хотелось. Я, честно сказать, не так уж и понимал, зачем столь всерьез и с таким упорством надо выполнять огромную, невидимую для других и очень тяжелую черновую работу, если гораздо быстрее и проще, да и «материально перспективнее», прокричать в разных аудиториях какие-нибудь «Стихи о советском паспорте» какого-нибудь Владимира Владимировича Маяковского. Чем параллельно с ТЮТом я тогда иногда и занимался. Это мое чтение, как я сейчас понимаю, производило на людей впечатление не слабое, скорее сюрреалистическое. Роста я всегда был небольшого, тогда худой, с вздувшимися от напряжения синими жилами на лбу, я отчаянно закатывал глаза и выкрикивал сомнительные для моего возраста паспортные сентенции Маяковского. Что-то про бюрократизм. Но тем не менее уже как бы даже и закономерным результатом этих моих публичных художественных бдений было то, что, после награды какой-нибудь новой грамотой, меня тут же посылали в разного рода детские оздоровительные учреждения, однажды, помню, даже в Артек. В ответ на трогательную заботу старших я с еще большей дьявольщиной в глазах продолжал: «К любым чертям с матерями катись любая бумажка…»








