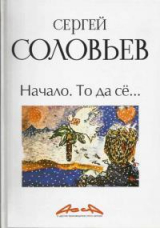
Текст книги "Начало. То да сё…"
Автор книги: Сергей Соловьёв
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
Картине дали ничтожный тираж, и если бы не телевидение, дважды показавшее ее по первой программе, то встреча со зрителем практически бы и не состоялась. Но, пусть хоть и так, она все-таки спустя время произошла. И не только в нашей стране.
После показа фильма в Беркли, яростно хваля и ругая, спорили студенты, придерживавшиеся самых различных взглядов – и леваки, и хиппи, и интеллигентные «центристы». Но все они чувствовали в картине интонацию не только горьковскую, но и толстовскую, заставившую их вспомнить «Смерть Ивана Ильича», и чеховскую, со свойственным писателю отказом от любых однозначных социологических характеристик. Демонстрация картины закончилась в полночь, но спор еще долго продолжался – и это был один из самых интересных разговоров по поводу моих картин, какие мне когда-либо доводилось слышать.
А вскоре после выхода бяликовской статьи подоспело Первое совещание творческих работников кинематографии. Съехались гости со всех республик, обставлено все было крайне торжественно, Дом кино оцеплен, сам Филипп Тимофеевич Ермаш приехал в окружении цековских инструкторов и завотделов. Мне специально позвонили, чтобы я обязательно на совещании был. Это настораживало: я даже не член Союза кинематографистов, с чего такая забота? Не к добру это.
Подъезжаю к Дому кино: вокруг все праздничные, радостные, охрана, девятка, только что выпущенные «ЗИЛы» с голубыми стеклами, а у меня – страшный комплекс преступника, которого не сегодня завтра посадят. Причем посадят за дело, за какое-то действительно страшное преступление: то ли пол-эрмитажа сжег, то ли несовершеннолетнюю изнасиловал. Позднее, читая про то, как вел себя на суде Чикатило, я вдруг вспомнил, что когда-то сам испытал подобное чувство. Ну, конечно – на том самом кинематографическом совещании!
Я зашел в зал, потом вышел, потом не выдержал – опять зашел, потом вышел, выпил сто пятьдесят коньяку (до лигачевской антиалкогольной кампании было еще далеко) и, слегка захмелевший, раскрасневшийся, вернулся в зал под суровейшую тираду Ермаша:
– И вообще хотелось бы выяснить, у кого получил лицензию на отстрел классики этот так называемый молодой режиссер Соловьев?
Я вернулся в буфет, принял еще двести коньяку, закусил конфеткой и пошел домой, понимая, что самое страшное, что должно было со мной в случае неудачи свершиться, а именно – возвращение на улицу Горького, уже произошло.
В это время у меня уже налаживались дела с телевизионным объединением «Мосфильма», я писал сценарий «Станционного смотрителя», но тут мне, конечно, стало ясно, что после речи Ермаша дело кончится не меньше как отсидкой и никакого кина не будет. Но Сеня Марьяхин, директор «Экрана», меня успокоил:
– Не-не-не, это даже хорошо, что Ермаш тебя поругал. Самого Ермаша терпеть не может Сергей Георгиевич.
– Какой Сергей Георгиевич?
– Лапин. Телевизионный министр.
Я понял, что ухожу в стан врага – не на улицу Горького, но все равно туда, откуда назад в кино не возвращаются.
ДУ-НЯ
«Станционного смотрителя» меня позвали снимать в телевизионное объединение. Заказ этот исходил не от Гостелерадио, а от Сергея Александровича Гамбарова, западногерманского продюсера, давшего под это дело деньги и пленку. Меня уже подыскивали под этот заказ.
Когда картина была закончена, настал момент ее сдачи.
Наши взаимоотношения с директором «Мосфильма» Николаем Трофимовичем Сизовым складывались достаточно странно. Мое художественное творчество он на дух не выносил. Не выносил, кстати, не идеологически: просто физиологически не выдерживал четырех склеенных мною кадров – настолько это ему казалось уродливо, нелепо и дико. Лично же ко мне он относился замечательно. Мне рассказывал Арнштам, что слышал от Сизова обо мне вообще невероятные слова. Они ехали в машине из Кремлевского дворца с какого-то кинематографического съезда, разговор зашел обо мне, и Сизов со вздохом сказал: «Ах, Лев Оскарович, вот был бы у меня такой сын, как Сережа». Лучшего отношения, наверное, вообще не бывает, но на то, что я снимал, оно не распространялось.
На сдаче «Станционного смотрителя» он заснул на первой же части, потом, проснувшись, закурил, потом закурил еще раз и снова заснул, но, засыпая, опрокинул жестянку с окурками себе на колени. Части полторы вслед за тем он отряхивался от пепла, отдувался, пепел летел по всему залу. На пятой части Сизова вызвали к телефону: из Италии звонил Рязанов, снимавший там «Необыкновенные приключения итальянцев в России». Обычно в таких случаях Сизов говорил: «Пусть позже перезвонит: я на просмотре». Но тут он, не сдерживая радости, помчался к телефону, на ходу отдав команду сделать перерыв и проветрить помещение. Говорил он с Рязановым минут сорок: только бы оттянуть минуту возвращения на экзекуцию досматривания моего детища. Договорив, согбенный, вошел в зал и, вздохнув, сказал: «Давайте дальше».
Наконец-то кончилось. В зале было все объединение: момент серьезный – сдача картины. Сизов мрачно осмотрел зал и изрек:
– Сергей, пройди-ка ко мне в кабинет. Обсуждения не будет.
За всю историю телеобъединения такого не случалось.
Закрыв за мной дверь кабинета, он сказал максимально сердечным тоном, на какой тогда был способен:
– Сережа, сколько стоит твоя картина?
– Сто пятьдесят шесть тысяч.
– У меня двести пятьдесят тысяч экономии по «Укрощению огня». Давай твоего «Смотрителя» спишем.
– Как спишем?
– Спишем и смоем. Будто ничего не было.
Я остекленел. Что он имеет в виду?
– Как смоем! Я столько работал!
– Никто про картину не знает, рекламы не было. Ничего ты не снимал. Вот и все. А телевидению я деньги погашу за счет экономии. Согласен?
Происходило что-то невероятное.
– Да забудь ты про этот позор. Забудь!
– Как же так?!
– Воля твоя, но тогда завтра в двенадцать будем обсуждать. Решай!
Я помолчал:
– Завтра в двенадцать будем обсуждать.
– Ладно, – сказал Николай Трофимович голосом, ничего хорошего не предвещавшим.
Пораженный, я ушел со студии. Всякое можно было себе представить, но только не такое! Зашел в шашлычную, заказал шашлык и в ожидании его спустился вниз купить какую-нибудь газету – отвлечься. Подходя к «Союзпечати», вздрогнул от ужаса: с витрины киоска на меня смотрела тысяча Сизовых. Что это, обморок? Оказалось, нет. В «Роман-газете» вышла его эпопея «Наследники» – на всех обложках портрет автора.
Ночью, сминая простыни, я видел страшные, леденящие душу кошмары. Когда к двенадцати часам кое-как добрался до студии, чувствовал себя абсолютно разбитым, пожилым инвалидом.
Все были в сборе. Сизов начал обсуждение:
– Соловьев, ты где нашел эту чахоточную?
– Какую чахоточную?
– Ну, эту, которая у тебя Дуню играет?
– Она не чахоточная.
– Чахоточная. Ты понимаешь, что такое Ду-ня? Ну, что такое пушкинская Ду-ня?
И он изобразил Дуню. Не знаю, видел ли он когда-нибудь полотна Кустодиева, но Дуня рисовалась ему огромных размеров, пышнотелой, грудастой обнаженной бабой, каких художник живописал с особой любовью.
– А эта-то, чахоточная, откуда взялась? Она что, актриса?
– Нет, не актриса, – тут же стукнул кто-то из доброхотов.
– Еще и неактриса! – сказал Сизов. – Ты понимаешь, что ты делаешь? Ты на пушкинскую Ду-ню берешь какую-то чахоточную неактрису.
Оглядев всех орлиным взором, он спросил:
– Где Михалков?!
– В армии.
– И хорошо. Этот хотя бы ушел от позора. Тоже мне Минский!
И, обращаясь еще непосредственно ко мне, спросил:
– Ты когда-нибудь Белинского читал?
– Нет, не читал.
– Так вот почитай! Он тебе объяснит, что такое пушкинский «Станционный смотритель»! Что такое боль за маленького человека! Что такое поэзия женского характера в пушкинской Дуне! То, что ты нам показал, не провал. Это хуже любого провала. Это наш коллективный позор. Раньше был только ваш, объединения, и только его, режиссера. Была возможность этот позор смыть с себя, я предлагал это режиссеру и объединению, но вы меня не послушали, и теперь наш коллективный позор мы всей студией должны будем еще долгие годы отмывать. Обсуждение закончено, все свободны.
Все, оторопев, встали.
Сеня Марьяхин, директор объединения, тихо спросил:
– Я не понял, принят фильм или не принят.
– Я тоже не понял, – отвечаю.
– Пойду к нему.
Он ушел в кабинет к Сизову. Из-за двери неслись вопли, ругань, Марьяхин вышел красный, в потеках пота:
– Старик сошел с ума. Что орет – понять невозможно. Но из того, что понять удалось, вот что надо сделать. Вырежи из картины все, что связано с Богом. У Сизова, помимо всего, есть и цензурные претензии. Если вырежешь – он картину примет и выставит ее на третью категорию по оплате. Тогда хоть что-то получишь. А показывать ее будут по какому-нибудь учебному каналу в утреннее время. И то, наверное, не сразу, а лет через пять.
– У меня никаких сил нет что-либо резать. И вообще я просто не понимаю, что происходит. Нет там никакого Бога! О чем он говорит! Мне сейчас надо поехать куда-нибудь отдохнуть, в санатории полечиться.
– Иди к Сизову, сам скажи ему это.
– Да не пойду я! Мы вчера с ним поговорили.
Пока мы препирались, подошел Хуциев, замещавший тогда в объединении худрука:
– Не понимаю, при чем здесь Бог? О каком Боге речь? Тут что-то не так.
И он сам пошел к Сизову. У него была потрясающая манера разговаривать с начальниками. Когда он входил к ним, те сразу понимали, что имеют дело с человеком, минуту назад свалившимся с Луны.
– Я что-то не понял, что вы про Бога говорили, Николай Трофимович!
– Отстань, Марлен! Хватит дурака валять! Ты сам понимаешь, что это за гадость! Не хочет вырезать про Бога – пусть не вырезает. Все! Хватит! На третью категорию! Сейчас звоню Лапину, чтобы нигде и никогда картину не показывали! Никому! Мы с ним договоримся!
Но Марлен не сдался, а, проявив недюжинную силу воли и настойчивость, поехал на телевидение и, заходя в разные кабинеты, стал говорить:
– Из-за чего Сизов привязался к картине? Понять не могу. Кричит: «Бог! Бог!» Ну, нет там ничего религиозного! По-моему, неплохая картина.
Было лето, стояла жара: Марлен ходил в свитере, в теплом твидовом пиджаке и, заходя к разным начальникам, первым делом закрывал форточки, чтобы вообще стало душно до обморока.
Спасаясь от удушья, начальники тут же готовы были согласиться с чем угодно!
– Марлен! Марлен! Марлен! Да! Да! Нет, нет, нет Бога! Все, все, все хорошо!
Так, долго и нудно переходя из комнаты в комнату, он сбил волну вселенского провала, за который студии надо расплачиваться годами.

Марианна Кушнерова
Мне дали третью категорию, денег не заплатили ни копейки, и на остатки зарплаты вместе с печальным Белкиным из нашего «Станционного смотрителя», Геной Шумским, я поехал в Судак, где устроились работать на научно-фантастическом фильме «Молчание доктора Ивенса» остатки группы уже трубившего свой срок в армии Никиты – Паша Лебешев и Саша Адабашьян. Каким образом Паша, как огня боявшийся воды, ухитрился устроиться оператором подводных съемок, для меня одна из великих загадок его биографии.
Мы побултыхались в море, просадили в два дня свои жалкие рубли, от выпитого портвейна по утрам во рту было скверное ощущение иссосанного пятака, на душе было гадостно, словно я прилюдно, принародно сделал что-то непоправимо стыдное. Скажем, вышел на трибуну Дворца съездов и при полном зале оглушительно пукнул. Теперь все об этом знают, на меня оглядываются. Отвратность иссосанного пятака и вселенского срама давила невыносимо.
Когда «Станционному смотрителю» давали категорию, Хуциеву сказали, чтобы он вообще забыл о картине – покажут ее в лучшем случае года через два-три в каких-нибудь образовательных программах. Забыть так забыть, я забыл. И вдруг кто-то приносит газету, говорит: «Смотри-ка, твоего „Станционного“ показывать будут!» Не веря глазам, гляжу в программу: действительно, будут показывать, да еще и 25 августа, в день моего рождения, в 19.30, по первой программе – как сейчас помню. Мелькнула даже мысль, а не старую ли экранизацию Желябужского вытащили из Столбов – нет, моя. Все расписано, в ролях – Михалков, Кушнерова, показ приурочен к пушкинским дням.
С опаской озираюсь на мосфильмовцев, живущих в гостинице: все же слышали про мой принародный позор, теперь еще и увидят.
Гостиница вшивенькая, телевизоров – ни одного. Пошли в прокатный пункт. Нам дали старенькую «Юность», но предупредили, что контакты слабенькие, могут забарахлить.
Притащили в гостиницу приемник, кое-как включили. Смотрю, народу в номере уже полно. Наверное, пришли навсегда убедиться в моем сраме. Ну, может, кто-то и разубедится. А самое страшное, пришли меня пожалеть, выразить сочувствие, соболезнование.
А на экране, как из космоса, какие-то полосы, ни хрена не видать. Мы и кулаком стучали по телевизору, и колдовали с розеткой, и чуть не зубами держали эти проклятые контакты – эффект тот же. Разряды, полосы, треск, время от времени, к моему ужасу, выплывала физиономия Михалкова (лучше бы уж вообще ничего не было видно), Михалков говорил какие-нибудь полфразы, потом все опять срывалось в помехи, потом кто-то что-то пел и снова – треск, черные полосы. Да, подумалось мне, дыма без огня не бывает. Тут же вселенская постыдность моего срама у всех на глазах.
День рождения после этого отмечался словно бы в инвалидном доме: мне отрезало трамваем две ноги, но товарищи подбадривают: «Ничего, купим тебе коляску, научишься с ней управляться». Состояние мерзости все крепчало.
В этом самом состоянии я вернулся в Москву, с ясным и твердым сознанием безвыходности тупика. Жить не на что. Что делать дальше – непонятно.

Марианна и Коля Пастухов
Я заметался по мосфильмовским коридорам, всюду натыкаясь на стеклянную преграду снисходительного безучастия.
– Старик, куда ж ты лезешь? После такого дела надо передохнуть – годок, а то и два, и три.
Впрямую этого никто не произносил, но и глаза, и повороты голов, и слегка переменившееся выражение лиц показывали, что к тебе относятся как к тяжелобольному. Мне уже померещилось, что люди переговариваются у меня за спиной, показывают в мою сторону пальцем:
– Смотри-ка, вот тот парень, который снял «Станционного смотрителя».
В таком состоянии измазанности в дерьме я провел еще месяца два или три. Однажды валялся дома, уже не имея моральных сил оторвать голову от подушки, морда вспухла от безделья и неясности дальнейшей жизни. Раздался звонок, говорил Лев Оскарович:
– Что делаешь?
– Ничего. Лежу.
– Ну, лежишь, а делаешь-то что?
– Читаю.
– Что?
– Книги.
– А газеты не получаешь?
– Получаю.
– «Правду» получаешь?
– Нет. Сосед получает. Дает почитать.
– Вчерашнюю давал?
– Давал. Вчерашнюю я читал.
– Ну и что вычитал?
– Ничего не вычитал.
– Ну, мудак! Читать надо, где Чили.
Как раз в это время в Чили происходил переворот, все следили за последними днями Альенде.
– Про Чили я читал.
– Плохо читал, внимательнее читать надо. Возьми газету.
Я взял газету, открыл, где Чили.
– Нашел?
– Нашел.
– Правее смотри.
Правее – большая заметка «Победа советского киноискусства». Читаю. На Венецианском фестивале телевизионных фильмов главный приз «Золотой Лев святого Марка» – При-Италия «за высокое художественное достоинство и красоту» получила картина молодого советского режиссера Сергея Соловьева «Станционный смотритель». Пресса высоко оценила изящество ленты, совершенство мастерства ее создателей… Выше похвал уже не придумаешь.
– Что это значит? – спрашиваю, совершенно ошалев.
– Ничего не знаю. Буду узнавать. Позвони мне к вечеру.
Я позвонил. Выяснилось, что после того, как мне дали третью категорию, приехал Гамбаров, которому картина очень понравилась. Он ее забрал, занялся ее продажей, а накануне Венецианского фестиваля позвонил Лапину:
– Выдвиньте «Смотрителя» от СССР на Венецианский фестиваль. У картины очень хорошие шансы.
Лапин, естественно, отказался, сказал, что есть другая, гораздо более выдающаяся картина, а у этой третья категория, ее еле-еле приняли.
– Не нужна никакая другая, – сказал Гамбаров, – поверьте моему опыту. У вас очень хорошие шансы.
– При чем тут шансы! Мы выдвигаем другой фильм.
Гамбаров позвонил на следующий день:
– Вы не хотите выдвигать «Станционного смотрителя». Но я ведь ваш сопродюсер. Могу я выставить картину от ФРГ?
– На здоровье. Пожалуйста.
Гамбаров выставил фильм от ФРГ. Правда, в момент, когда пришла пора получать приз, представитель «Совэкспортфильма» попытался выскочить на сцену, но Гамбаров очень твердо отпихнул его плечом, вышел сам, сам получил приз из рук председателя жюри и сам передал его Лапину. Лапин поставил его к себе в кабинет, меня же года через полтора тайком завели туда посмотреть на своего Льва.
Гамбаров очень хорошо продал «Станционного смотрителя», а затем выставил его на приз Евровидения, опять от ФРГ. На этом конкурсе картина получила очень трогательный приз – Христианского Воскресения, а вместе с ним – высокую честь быть показанной по всей Европе в Пасхальный вечер в самые лучшие часы.
Прошло еще время. Надо было как-то выправлять свое положение, определяться со следующей работой. Не миновать было разговора с Сизовым. Но идти к нему было еще страшнее, чем в день моего принародного срама. В виде блудного сына, припадающего к коленям всепрощающего отца, как на картине Рембрандта, явиться я не мог – виниться вроде как не в чем. Заявляться со словами: «Ну, что, дурило, кто прав оказался?» – было и того глупее. Как вести себя, я не знал, но идти было надо. Ужасно переживая за Сизова, не за себя, пошел к нему с этой газетой, выдумал какой-то вопрос, требующий срочного разговора. Он вел себя как всегда, будто ничего и не случилось. Обсудив сочиненный мной и ни ему, ни мне не интересный вопрос, я дрожащим голосом спросил:
– Николай Трофимович, слышали про историю со «Станционным смотрителем»?
Он так же ровно, не меняя голоса, ответил:
– Слышал. Читал. От души поздравляю.
Я замолчал, не зная, что говорить дальше. Он перебирал еще какие-то бумаги, посмотрел на меня и, прервав тяжкую паузу, сказал:
– Что молчишь-то? Ничего удивительного, ничего страшного нет. Видишь? Разные бывают у людей мнения.
Я от души за него порадовался. Сколько встречалось мне тех, кто за подобное же на всю жизнь затаил бы злобу и при любом подходящем случае вонзал бы в меня свой гнилой, зловонный зуб. Тут же было незлобивое, приветливое равнодушие и к собственным амбициям, и к моей престижной победе. Это меня и потрясло, и исполнило неизмеримо большего к нему уважения. Во все последующие годы, открывая дверь сизовского кабинета, я знал, что, когда он будет изничтожать мой следующий сценарий, я смогу ему его же словами незлобиво и достойно возразить:
– Ну, что ж. Разные бывают у людей мнения.
НИКИТА
Не помню уж, когда, где и по какому поводу мы познакомились. Первое, что возникает в памяти, – на закате солнечного майского дня мы сидим в ресторане ВТО, в маленьком круглом зальчике, выходящем окнами на улицу Горького. Мы с ним вроде уже приятельствуем, почти что дружим. Сидим за превосходно накрытым столом. Я еще живу недавними примитивными студенческими понятиями о том, что такое превосходный стол, а тут – все другое: белые крахмальные скатерти, шампанское во льду, свежайшая черная икра, лоснящееся масло, водка, изысканные закуски, и мы, так во всяком случае помнится, все в белом. И улица Горького – вся тоже почему-то почти белая. Может быть, потому что в ту пору раннего московского лета кружит над ней белый тополиный пух.
Сидим втроем: я, Никита и тогдашняя его жена – Настя Вертинская. По какому именно поводу мы тут вместе – вспомнить не в состоянии. Я, начинающий режиссер, еще ничего не снявший; Никита, уже сыгравший в «Я шагаю по Москве», узнаваемый всеми на улице (его не просто узнавали, но уже тогда, открыв рот, останавливались и долго смотрели, как бы не веря своим глазам); и Настя, совсем заоблачное существо, окруженная ореолом еще совсем свежей отцовской славы, да еще и снявшаяся в пользовавшемся невероятным успехом «Человеке-амфибии», только что сыгравшая Офелию в «Гамлете», маленькую княгиню в «Войне и мире», Кити в экранизации толстовской «Анны Карениной»…
Настя только что вернулась с Каннского фестиваля – ездила туда вместе с Зархи и Таней Самойловой представлять «Анну Каренину». Вещи рассказывает удивительные. Какой революционный кошмар там, на этом фестивале, творился! Какие-то студенты, ворвавшись в зал, кричали Годару: «Если ты революционер, отдай яхту, купленную тобой на прибавочную стоимость, уворованную у трудящихся!» (Годар пришел в Канн на своей яхте, и та стояла напротив Круазетт.)
– Ты представляешь, – повторяла Настя, вскидывая то на Никиту, то на меня свои потрясающе оливковидные глаза, – да, так они кричали! «Верни ворованное!..»
Никита намазывал на свежий пахучий хлеб масло, черную икру, разливал ледяную водку:
– Насть, прошу тебя, не бери в голову!
– Как же не брать?! Никита, ты не понимаешь! Отменили наш показ! Мы так хотели показать нашу «Анну»! Это ж не ерунда какая-нибудь, это все-таки Толстой! Но они говорили: «Это буржуазное, старое, никому не нужное искусство. Мы должны на этом фестивале смотреть и обсуждать ролики, инструктирующие, как снаряжать динамитом бомбы!» Ты понимаешь, какой ужас! Они не хотят никакой культуры! Они хотят взрывать, взрывать и взрывать!
Никита опять намазывал бутерброд, наливал:
– Насть, я тебя умоляю! Ну, не бери же ты в голову. Не принимай всякую ерунду так близко к сердцу…
– Да как же не принимать близко к сердцу! – горячо возражала Настя, с надеждой на поддержку заглядывая в мои слегка уже осоловелые глаза. – Вы хоть представляете себе, что там творилось! Нас же отказались везти назад в Париж! И я, Таня Самойлова и Зархи должны были пешком идти из Канна по обочине…
Даже при моем слабом знании французской географии, было понятно, что расстояние не из близких.
– Да! Да! – с жаром продолжала Настя. – Мы пешком с вещами шли в Париж. То одна машина нас немного подвозила, то другая.
Никита опять любовно намазывал бутерброд:
– Насть, умоляю тебя!..
Спустя какое-то время кто-то показал мне во ВГИКе маленькую учебную картину студента-режиссера Никиты Михалкова «А я уезжаю домой», снятую в Ялте. Я к тому времени уже, по-моему, сделал «От нечего делать» и «Предложение», чувствовал себя едва ли не мэтром, и вдруг – пожалуйста. Совершенно не помню сюжета, помню ошеломляюще великолепно играющих знакомых артистов – Конюхову, Стеблова, Никоненко, помню замечательнейшее черно-белое изображение и силу впечатления от просмотра. Для меня во ВГИКе и до того просмотра случалось несколько навсегда оставшихся в памяти потрясений настоящим большим искусством – «Колодец» Мити Крупко и его превосходные отрывки на площадке, «В горах мое сердце» Рустама Хамдамова и Иры Киселевой, великолепнейшая сценическая работа Славы Говорухина по чеховской «Аптекарше», где поразительно играли Валерий Рубинчик и Оля Гобзева; и вдруг вот эта неожиданная картина, произведшая на меня столь же сильное, почти шоковое впечатление, едва ли не затмившее все прежние. Я толком даже не понял, кто там кем кому приходится, кто куда едет или остается, вообще – кто чего от кого хочет, но отлично понял, что все это изумительно хорошо. Не исключаю, что фильм показывал мне сам Никита. Может быть. Или кто-то другой. Не помню.
Но помню, что то ли сразу после просмотра, то ли разыскав его через какое-то время, оказался с ним в стекляшке «Олень» у Кудринской площади. Дело было часа в три дня, лето шевелило листву тополей, светило солнце. Я сказал Никите, что картина его грандиозна. Другими категориями мы тогда не очень пользовались: или гениально, или маразм… Никита обрадовался. Я видел, от сердца. Кажется, великодушно и он в ответ сказал мне что-то подобное про мои чеховские короткометражки. Конечно же, все это мы должны были как-то отметить.
Сначала выпили бутылку коньяку, заев его сарделькой и крутым яйцом. Сжевали лимон. Затем, восторженно стуча друг друга по плечам, пересекли Садовое кольцо, зашли к нему домой: первоначальные деньги, естественно, на сардельке уже кончились, но ясно было, что события развиваются так энергично, что компромиссом тут не обойтись.
Тут я впервые оказался в огромнейшей квартире Михалкова-старшего. Никита провел меня к себе в комнату, где (по тем временам редкость невероятная) стояла стереоустановка. Никита опустил иглу на диск. Рахманинов, рояль…
Было часа четыре дня; в комнате Никиты белела свежими простынями неубранная постель, в беспорядке были набросаны какие-то открытые книги, газеты, ярчайше светило солнце, и мы, счастливые и слегка пьяные, опять почему-то в чем-то слепяще-белом, стоим посреди всего этого прекраснейшего бедлама и слушаем пущенную на всю мощь нечеловечески прекрасную музыку, а на улице останавливаются и задирают головы вверх ошарашенные прохожие. Помню, оба мы при этом почему-то плакали – тоже не могу объяснить почему. То ли от восторга, как играет Рахманинов, то ли от того, какие мы ласково-пьяные, счастливые, молодые и все у нас впереди…
Потом Никита достал вещь, для меня по тем временам совершенно диковинную – сберегательную книжку. Необходимости сберечь что-то при помощи обозначенной книжки в моей жизни пока что не возникало. Никита же раскрыл ее и показал значившуюся там совершенно немыслимую для моего воображения сумму – рублей, может, пятьсот или что-то около того.
– Это мое киноактерство меня кормит и поит…
Вообще-то, по тем временам на такие деньги вполне можно было начинать какой-нибудь безумный десятидневный загул, запой… Но мы, почти полностью протрезвев, чинно пошли напротив, в ЦДЛ – все там Никиту знали и любили как родного сына, а меня, естественно, никто…
И тогда, и позднее я не переставал удивляться адаптированности Никиты к Москве, к московской жизни, вообще к жизни и к людям любого ранга, знаменитым и безвестным, знакомым и незнакомым, вообще ко всему белому свету. Даже у себя дома, мне иногда так казалось, он чувствовал себя менее свободно и раскованно, чем на любой московской улице, в любом людном общественном месте. То ли чувства человеческой толпы дома ему не хватало, то ли зрителей и участников массовых сцен; с близкими Никита становился подчеркнуто вежлив и деликатен (с редкой любовностью и почтительностью относился к маме, обожал старшего брата Андрона), а здесь, в богемном Цедээле шестидесятых, наверное, само по себе приходило к нему легкое и счастливое ощущение раскованности, свободы, полета, своего особого места в своей особой Москве.
В тот день он устроил мне веселый фейерверк такой светской московской жизни, о существовании которой я и не догадывался: нам, помню, жарили каких-то не то малых курей, не то переростков-куропаток, затем, кажется, зачем-то запускали их в стерляжий бульон, несли заливную осетрину, наливали какие-то рубиновые вина, которые мы вливали в себя…
С трудом, уже почти среди ночи, мы расстались, и, как почему-то всегда оказывалось, достаточно надолго.
За это время я снял «Булычова», начинался «Станционный смотритель». Как-то так получилось, что в эти годы мы почему-то не виделись, а следовательно, и очно почти «не дружили».
Вот тут я позвонил Никите, пригласил играть Минского, что решил для себя еще тогда, когда писал сценарий. Никита подумал и согласился. Приехал на пробу, зашел в гримерную, всех немедленно охмурил, обаял, очаровал. Я тоже старался шармерствовать как мог… Ну скажем, для начала заказал ему к пробам не какой-нибудь пошлый гусарский ментик или жалкие, опереточные венгерские штаны в шнурованных разводах – нет, ему принесли и накинули на плечи благороднейший полный полевой офицерский мундир Тегинского полка, который некогда носил и поручик Лермонтов. То был безукоризненного вкуса костюм: и воротник, царственно державший шею, и два ряда тусклых медных пуговиц, а еще попросил Лену Калеву, замечательного гримера (она давно, увы, сгинула где-то в Америке), сделать ему, тогда еще черноволосому и юному, легкую печальную романтическую проседь. Мы пошли в фотоцех, сняли пробу. Никита сказал, что на следующий день приедет фотопробу посмотреть, чего актеры практически никогда не делают, да и режиссеры обыкновенно фотопроб артистам не показывают…

Ротмистр Минский – Никита Михалков
В тот день я видел, как глядел на себя в зеркало Никита, как породисто и значительно переменялось его лицо, когда он застегивал красный ворот ротмистрского мундира, оправлял зеленый сюртук, поводил плечами с тусклыми золотыми эполетами. Я и сам на него любовался: как же все это на самом деле красиво! Да и седина в черных волосах придавала молодому знакомому лицу некое незнакомое, с трудом определяемое, демонически-таинственно-страстное выражение.
Никита приехал, посмотрел фотопробы. Картинки ему явно понравились: с этого момента наша поувядшая было дружба упруго крутанулась на новый виток.
По этому случаю немедленно поехали в Дом кино, в ресторан, сели за стол.
Никита уже тогда был тот самый Никита, которого и сегодня все так хорошо знают. Уже тогда весь ресторан на нас смотрел, а я прекрасно понимал, что эти взгляды вовсе не к моей персоне относятся. Со стороны, наверное, мы, еще ничего не сделав, всего лишь только начав вместе работать, в глазах других уже образовали некое странное содружество таких, знаете ли, московских суперкомильфо, золотой, знаете ли, московской молодежи тех лет… Нечто на манер сегодняшних «новых русских», но совсем-совсем других.
Все наши разговоры во время «Станционного смотрителя», с чего бы они ни начинались и чем бы ни заканчивались, в конечном счете, помнится, почти всегда неминуемо сводились к тому, что Никита по-режиссерски рассказывал (изумительно артистически попутно проигрывая все роли: мужские, женские, детей, животных, облаков и деревьев) какую-нибудь картину, которая ему нравилась или которую сам собирался когда-нибудь поставить (тогда он впервые поделился со мной, что хочет на какое-то время сильно притормозить свое актерство и профессионально заняться одной режиссурой).
Мне кажется, нам было интересно друг с другом. Потому почти каждый день мы сходились вновь – по делу или так. К тому же по стечению обстоятельств оба мы недавно развелись. Наша жизнь текла столь необременительно, весело и свободно, что чуть ли не каждый день мы клялись друг другу, что обстоятельств ее не переменим: никогда, ни за что, ни на ком больше не женимся.
Тем временем начались съемки. Съемки нам тоже были в радость. Никита не играл Минского, а играл в Минского, что, как мне кажется, замечательно верно им было угадано, да и как бы отвечало стилистике той романсовой картины. Вообще все происходившее на съемочной площадке и вокруг нее тоже было полно некоего романтического и таинственного очарования молодых дней, недосказанностей, забавно рифмуясь с нежной пушкинской историей соблазнений, тайных увозов кем-то кого-то куда-то. Мы были самонадеянны, молоды, смелы, полны веры в себя, друг в друга, в свою звезду, в удачу…








