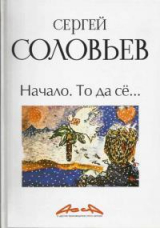
Текст книги "Начало. То да сё…"
Автор книги: Сергей Соловьёв
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
Снимали только во вторую смену – утром отсыпались. Наш директор Виктор Исаакович Цируль уже хорошо знал, что первые смены нечего и пытаться назначать. Зато ровно в два Никита, свежий, отменно выспавшийся, уже был на гриме, в четыре – съемка. Но уже к восьми у Никиты, а вслед за ним и у меня, загорался в глазах шальной, куражный огонек. «Перерыв, – просил Никита. – Поправим грим». Мы выходили из павильона, звонили в ресторан Дома кино. Никита заказывал ужин, я зачарованно слушал, как диктует он в трубку сегодняшнее наше меню, понимая, что немедленно нужно сворачиваться. Заказ был полон всевозможных подробностей и уточнений: чтобы икра обязательно была паюсная, а не зернистая, чтобы в салат натерли сыру, и не вздумали тереть пошехонского, а обязательно советского, твердого, а если уж нет советского, чтобы обязательно послали в Елисеевский, там точно есть швейцарский, тоже в дырках, и чтобы не вздумали бухнуть в салат майонезу, а сметану, конечно же, в отдельном соуснике… Пока Никита излагал все это, мое слюноотделение набирало такую силу, что меня начинало пошатывать; продолжать дальше съемку ни у него, ни у меня не было никаких сил: сверхматериальные картины предстоящего напрочь вытесняли легкокрылые, воздушные, почти бесплотные образы незабвенного Александра Сергеевича…
Мы кое-как завершали дела текущего съемочного дня, с разбегу впрыгивали к Никите в машину. «Обстоятельства суть наши деспоты…» – извинительно по отношению к столь стремительно покинутому нами великому автору, обращался в историческое пространство Никита. Он очень любил эти нащокинские слова, с которыми тот некогда разменял сторублевую ассигнацию, подарок Пушкина, к тому времени покойного уже его друга.
Эвакуировались мы с огромной скоростью. Никита едва успевал сбросить сюртук, часто так и оставался в остатках грима с проседью. Ехали в Дом кино, там в углу ресторана уже ждал нас затейливо накрытый стол. Усаживались, говорили много, и было много чего рассказать друг другу. Заканчивалось всегда тем, что вокруг нас собиралось довольно большое и весьма пестрое общество, часть которого составляли невесть откуда бравшиеся очаровательные барышни. И дальше все продолжало катиться какими-то непреднамеренными, веселыми, но и таинственными ходами. То мы оказывались дома у Никиты, то у меня, то вдруг даже и где-то за городом… К пяти-шести утра разъезжались, на следующий день к двум – вполне протрезвев, приняв душ – как вороненые штыки снова были на студии. Перед съемкой я заходил в гримерную, Никита уже сидел в лермонтовском сюртуке нараспашку, в красной русской рубахе под сюртуком, со вкусом пил крепкий чай. Мы делово направлялись снимать, работали с удовольствием, быстро, со страстью и отдачей. Вечером все повторялось.
Редко-редко случались похмелья. Но они тоже были легки и в радость. Одно из них счастливо запомнилось мне во всех подробностях. Мы не разъехались, как обычно, посреди ночи, а, засидевшись в гостях, очнулись в девять утра непонятно в чьей малосимпатичной квартире. Судя по тяжести головы, накануне, вероятно, допущено было безграмотное и варварское смешение напитков. В четверть десятого мы вдвоем уже стояли на улице, засунув руки в карманы пальто, не в силах успокоить нещадно бивший нас колотун, понимая, что, если не предпримем что-то немедленно, ни за что дальнейшее ручаться уже будет нельзя.
– В «Жигули», – решил Никита.
В этот пивбар в переулочке между старым Арбатом и Калининским проспектом в те целомудренные времена попасть возможно было либо по очень большому блату, либо после четырехчасового стояния в очереди на промозглой московской улице.
– «Жигули» открываются с часу!.. – слабо соображал я.
– Другого выхода у нас нет…
Подкатили к «Жигулям», время раннее, заглядываем через витрины внутрь – весь огромный стеклянный сарай ресторанного зала пуст, перевернутые столы на столах, стулья – кверху ножками, какая-то бабка в дальнем углу уныло швабрит пол. Стучим в дверь. Минут через пятнадцать появился швейцар. Увидев Никиту, уважительно взял под козырек, пустил внутрь.
Пришел не то метрдотель, не то замдиректора. Увидев Никиту, тоже расплылся от радости.
– Накрой нам…
– Где хотите? В уголочке? У окна?
– В самом темном уголочке. Как можно дальше от окна.
Для нас оттащили стол в дальний темный угол, накрыли белоснежной скатертью, принесли тяжелые мельхиоровые вилки – в «Жигулях» я таких сроду не видел.
– Давай сделаем так, – сказал официанту Никита, – триста грамм икры, черной. Два масла. Свежий, свежий хлеб…
Официант качал головой, записывал.
– …Две осетрины. Осетрина свежая? Сделай идеальную осетрину, иначе нам ее не проглотить. Две идеальные осетрины. Два ледяных пива. И Это.
– И Это? – невольно пряча испуг в голосе, переспросил официант.
– И Это, – уверенно подтвердил Никита.
Какие ж мы были молодые, и что за бычье здоровье надо было для всего этого иметь!
Как сейчас помню принесенный официантом поднос. В мельхиоровом поддоне – намытая хрустальная вазочка. В ней влажно-серая, словно только что из вспоротого осетрового живота икра. Бледно-золотое масло, свежайший хлеб, две кружки превосходного, с шапкой пены, жигулевского, безо всяких поганых иностранных консервантов. И рядом – еще два островка, целомудренно прикрытых пирамидками из крахмальных салфеток.
Официант снимает тряпочные пирамидки и ставит перед нами две стандартные пивные кружки. Внутри каждой – запотевший тонкого стекла стакан, до краев налитый прохладной водкой. Водку в «Жигулях» подавать строго запрещалось, потому и применялась столь сложная механика.
– Ну, – говорит Никита и, ловко просунув пять пальцев внутрь кружки, захватывает ими тонкое стекло стакана. Я, как умею, повторяю изящный жест свободно владеющего этой техникой человека и тоже вытаскиваю на свободу ледяной сосуд. Мы смотрим друг на друга с нежной ласковостью, выдыхаем, залпом выливаем в себя содержимое, немедленно закусываем икрой, с жадностью запиваем пивом. Глаза наши одномоментно счастливо влажнеют. И никакого опьянения! Состояние волшебного преображения сознания, возврата сил, полной ясности мысли, душевного покоя, уравновешенности…
Какое-то время мы находимся в ощущении этого блаженного, незабываемого момента. Но, конечно же, потом сами себя и сгубили.
Возвращается официант:
– Как?
– Очень хорошо.
– Может быть, еще?
О, кошмар! Дальше я не вспоминаю…
А съемки продолжались. Картина двигалась по ощущению довольно пристойно, но, вправду сказать, без каких-либо сильных художественных эффектов. Отчего Никите время от времени начинало казаться, что он «ничего не играет».
– Я все время дремлю! Ну, дай хоть что-нибудь сделать! Не могу я так! – Для его темперамента моя малахольно-сдержанная портретная манера была почти непереносимой.
Я же все время тупо твердил:
– Делать ничего не надо!.. Просто гляди, и все!..
Всю картину на съемочной площадке то и дело воспалялась эта вялая энергетическая перебранка. Никите даже стало казаться, что я не даю ему сделать ничего экстраординарного оттого, что экономлю на нем кодаковскую пленку, снимаю по одному верняковому дублю.
– Ты давай решай, – подозрительно мрачнел он, – я или «Кодак». Я так не могу. К третьему дублю я только вхожу в форму.
Я по-прежнему дублей не снимал. Попросту пленки у меня на то не было. Всю картину мы исполнили на восьми тысячах метрах. Профессионалы знают, что это такое. Это ничего.
Наступил день съемок сцены, где Минский увозит Дуню. Снег уже почти сошел, стояли лужи с какими-то талыми ошметками серого хрупкого льда. Изморозь, сырой воздух, промозглый холод.
Еще в начале съемок наш художник Александр Тимофеевич Борисов привинтил к возку Минского огромный настоящий бронзовый каретный фонарь. Каждый вечер, уходя со съемок, он дергал его, недовольно покачивая головой:
– Ну, хоть бы кто-нибудь следил! Ведь на соплях же держится! Я же говорил – нужно укрепить, поставить на шайбы с прокладками… Неужели трудно сделать как следует?
Все кивали головами и аккуратно пропускали его слова мимо ушей.
В тот день в возок были впряжены три серых орловских рысака в яблоках – резвых, молодых, горячих. Леонид Иваныч Калашников приболел, у камеры его заменял Володя Чухнов, вместе с которым мы работали на чеховском «Предложении». Снимали кадр: Никита прощается со смотрителем, тот под руку ведет Дуню в возок…
– Дальше садись сам, – рассказывал я Никите, – кричи: «Пошел!» Ямщик дергает вожжи, вы уезжаете…
– Гитару он увозит с собой? Он же с гитарой приехал?
– Ну…
– Дай я ее к чертям об облучок раскрошу! Чтоб вдрызг разлетелась. В пыль.
– С одного дубля – кроши, – соглашаюсь я без энтузиазма. – Гитара все равно только одна.
– Значит, «Пошел!» – и в лоскуты гитару об облучок…
– Давай, если хочешь. А не будет внешне? Минский, как ты его играешь, он больше человек чаадаевского склада. Станет Чаадаев шибать гитарой об облучок?..
– При чем тут Чаадаев? Чаадаев сам по себе, Минский сам по себе…
Кадр был сложный. Володя Чухнов, замечательно добрый и талантливый человек, с ручным «Конвасом», с навешанным на плечо тяжелым аккумулятором, долго ходил вокруг героев, делая нечто вроде нескольких круговых панорам… Потом смотритель подводил Дуню к кибитке. Володя с камерой переходил мимо лошадей на другую сторону, садился верхом на край облучка. Тут к возку подходил Никита, крестился, брал гитару – Володя к этому времени уже сидел с камерой на оглобле. Никита одним ударом разносил инструмент вдребезги, быстро впрыгивал в кибитку, кричал: «Пошел!» – «Пошел!» – кричал на лошадей ямщик, кибитка трогалась, камера панорамировала, продолжая снимать с движения удаляющуюся станцию с одиноким стариком-смотрителем.
Репетировали мы часов пять или шесть. По-прежнему было очень холодно. Каждый спасался от мороза, как умел: ямщик, как потом выяснилось, – путем приема внутрь ограниченных доз – по пятьдесят, по сто грамм. Лошади всё это время стояли на промозглом ветру, гитару на репетициях ни разу не били, она действительно была одна. Наконец вроде как все утряслось, сложилось, можно снимать.
Оператор готов, фокусы разметили, группа отошла в сторону. Снимаем. Герои прощаются, Володя отходит за лошадей, смотритель крестит Никиту, Дуня садится в возок, все как по нотам. Точно, тик в тик, подходит Никита, крестится, берет гитару, Володя синхронно садится на оглоблю, Никита взмахивает гитарой – за четыре часа беспрерывных технических репетиций на морозе в нем скопилось столько не выплеснутой игровой энергии, что – удар, и только мелкая щепа летит в стороны, дико звенят разорванные струны.
Вдруг вижу, от неожиданного звона и грохота три рысака встают на дыбы, ямщик, выпучив глаза, пытается натянуть поводья, лошади без всякой команды дергают, бегут, я тоже почему-то бегу за ними. Близко вижу, как Володю мотает из стороны в сторону, лошади несут куда-то совсем не туда, куда должны были, мы – за ними, понимая, что творится что-то невразумительное, невероятное, неостановимое, страшное. Возок скачет по колдобинам совсем в другую сторону поля, и дальше все видится уже как в замедленной кинопроекции, на рапиде. Володя Чухнов подлетает вверх, плечом и головой сшибает бронзовый фонарь. Какое счастье, что Саша Борисов так и не собрался прибить его! Если бы он его закрепил, фонарь, без сомнения, снес бы Володе полчерепа. Сокрушив фонарь, Володя на наших глазах падает в лужу; тяжеленный аккумулятор, напиханный свинцовыми батареями, начиненный кислотой, выписав в воздухе дугу, опять еще раз с налету бьет его по голове. В довершение сверху по нему проезжают острые железные полозья возка. Мысленно мы уже попрощались с ним; к счастью, на этот раз обошлось, но примета, увы, оказалась зловещей – актеры не зря боятся репетировать сцены смерти. Через несколько лет чудеснейший человек и превосходный оператор Володя Чухнов погибнет вместе с товарищами на съемках картины Ларисы Шепитько…

Коля, Никита, и я
А мы все тупо бежим за возком; возок, завалившись набок, скачет по колдобинам наперекосяк – то на левом полозе, то на правом, лошади неумолимо несут к роще. До рощи остается метров четыреста, я понимаю, что если они до нее домчат, то и кибитку, и Дуню – Марьяну Кушнерову, и Никиту ошалелые лошади разнесут о деревья так, как Никита только что разнес в щепу гитару. Лошади впрямь как обезумели. Потом мне объяснили, что они застоялись: нужно было два-три раза их прогулять, а ямщик, истинная скотина, думал только о себе. Ну, может, соображал он себе, чего там дрыгаться – еще двадцать минут, и поедем. А потом уже насосался и о чем-либо думать перестал вообще. И тут Никита разбил гитару – лошади перепугались, понесли…
А я все бегу за кибиткой уже неизвестно зачем: до берез – метров сто, не больше, конец близок, к тому же вижу, кибитку на постромках переворачивает вверх тормашками, потом каким-то чудом ставит с головы на полозья опять. Постромки у ямщика намотаны на руку, его давно выбросило с облучка и волочет бессмысленной физиономией по лужам и грязи, летят во все стороны, как от торпедного катера, брызги – хоть как-то сдержать упряжку он не в силах… За десяток метров до рощи, до страшного, неотвратимого, как мы все с ужасом понимаем, конца, о, чудо! – кибитка вдруг начинает будто бы притормаживать, чуть сбавляет бешеный ход, а затем медленно, как бы нехотя, останавливается у самого края рощи… Подбегаем – на мордах у лошадей, двумя руками вцепившись в сбрую, висит Никита. Как? Он же только что был в кибитке!..
Потом уже и от Марьяны, и от Никиты я узнал, что происходило внутри кибитки. Сначала они тоже были не в состоянии что-либо понять, просто видели, как горизонт вдруг бессмысленно закачался вправо-влево, влево-вправо. Когда первый раз возок крутануло на постромках, поставило на голову и тут же назад, на полозья, Марьяна, вскрикнув: «Ой, Никита!» – упала в обморок. Никита же мгновенно понял, что будет дальше. Теперь должна была появиться кровь. И это был бы конец. Секунда, другая, третья – кровь все не появлялась. То, что ее не было, вывело Никиту из недолгого оцепенения: он исхитрился уцепиться за дышло, каким-то чудом докарабкался до лошадиных морд и за три-четыре метра до рощи, повиснув на лошадиных мордах, остановил катастрофу – спас себя, Марьяну, всех нас…
Володю Чухнова со съемки мы привезли ко мне домой, он снял рубашку – вся спина была сплошной подушкой синяка. Жизнь ему спасли лужи, он попросту провалился в слякоть: если бы земля была твердой, его распороло бы полозьями проехавшего сверху возка…
…Где-то в середине съемок Никита подошел ко мне и с абсолютной серьезностью сообщил:
– Меня призывают! Если хотите закончить картину, немедленно что-нибудь предпринимайте…
Поначалу мне показалось это розыгрышем. В какую нормальную голову могло прийти, что Никиту Михалкова, который сам по себе уже Никита Михалков, да еще сына Сергея Владимировича Михалкова, кто-то так вот возьмет и заберет в армию. Я решил, что он пускает неясно зачем красивую дымовую завесу, может, хочет запараллелить с нашими свои долгожданные самостоятельные съемки или, может, еще к чему-то неожиданному меня готовит. Но армия-то тут при чем?..
– Займись, – время от времени повторял мне Никита. – Пойди к Сизову! Позвоните Ермашу!.. Картину мы не закончим…
Все кивали головами, не думая и пальцем пошевелить. К тому же Никите было уже чуть не под тридцать – призывной возраст у него в тот год заканчивался.
Смутно начав предчувствовать что-то нехорошее, я все-таки поплелся к Сизову. Начал канючить, чтобы тот «включил все свои связи», как-то помог.
– Михалкова в армию заберут, картина встанет…
– Хорошо бы, вас обоих забрали, – бурчал Трофимыч.
Тем не менее какую-то бумагу в военкомат он все-таки подмахнул.
Наш директор Цируль поехал в военкомат.
Вернулся оттуда бледный, хотя человеком был совсем не робким. В прошлом – морской офицер, капитан-лейтенант, войну прошел, был командиром торпедного катера, много чего повидал, испугать его было трудно.
– Что случилось, Витя?.. – глядя на него, заволновался и я. – Что с сизовским письмом?..
– Военком выкинул и меня, и письмо из кабинета…
Я понял, что дело приняло самый серьезный оборот.
– Никита, – спрашиваю, – а что, отец ничем помочь не может?
– Да перестань! Что вы все заладили: «Отец! Отец!»? Что отец? Что он, маршал бронетанковых войск? Он не маршал бронетанковых войск. Отец – это отец. Армия – это армия. Отсрочки кончились… Идти – значит, идти и служить. Не идти – значит, здесь работать!
Сам он в это время собирал группу, готовясь снимать впервые в жизни картину – «Свой среди чужих, чужой среди своих». Неактерская профессиональная кинематографическая среда принимала его не без настороженности.
Никита видел материал «Станционного смотрителя», фотографическое качество ему в общем нравилось.
– Поговори с Калашниковым, пусть пойдет ко мне снимать.
В минуту дружеской расслабленности я привалил Леонида Ивановича к стене:
– Слушай, по-товарищески тебя прошу. Ты меня вытаскивал. Теперь помоги Никите.
Леня уставился в пол.
– Никита очень хороший парень и замечательный артист, и я его очень люблю. Но с чего вы вдруг оба выдумали, что он – режиссер?
– Да я видел его картину. Гениальная! Пойди посмотри!
– Ну, это во ВГИКе. Это не в счет. Там все гении. А из вгиковских гениев знаешь, что на студии получается? Ни в какие вгиковские гениальности я не верю. Тут все совсем другое. Знаешь, найди способ как-нибудь ему сам аккуратно сказать, что я занят или еще что…
Стыдясь за Леню, я, пряча глаза, что-то плел Никите про занятость Калашникова, про его больные глаза.
– Да что ж это такое? – горько спрашивал Никита. – Что они как от чумы от меня бегают!..
– А кто еще бегает?
– Юсов. Он же меня снимал в «Я шагаю по Москве». Я ему предложил, он тоже не мычит, не телится…

Марианна и Никита. «Станционный смотритель»
На студии я столкнулся с Юсовым:
– Вадим, у меня Никита снимается. Я с ним давно хорошо знаком. Ты с ним давно хорошо знаком. Он собирается стать режиссером. Ему нужно помочь. Я видел его работу. Просто замечательно. Мы же все-таки его друзья…
Вадим Иванович тупил нежно-синие свои глаза, томно воздыхал, своими прерывистыми вздохами и пристальным вглядыванием в пол в этот момент очень напоминая Калашникова.
– Понимаешь, Никита очень хороший парень и, без сомнения, одареннейший человек. Но режиссура – это, понимаешь, несколько другая профессия… Ну, что тебе объяснять!..
Никита же очень серьезно – это еще тогда меня поразило – всегда относится к формированию группы. Сам я этому столько внимания и сердечных сил никогда в жизни не уделял. Конечно, и я всегда был рад возможности поработать с одаренными, профессиональными людьми, но…
Никита же подбирал людей так, будто собирался с ними до самой смерти не расставаться. Или, по меньшей мере, сейчас вот, немедленно уйти с ними партизанить в леса, а там с боями, прорываясь, дойти до самого Берлина…
Тогда, я помню, появился Саша Адабашьян. Обаятельный, одаренный, симпатичный Саша возник уже совсем незадолго до того, как Никиту все-таки призвали в армию, уже почти на самых проводах; хотя и были они друзьями чуть ли не с детства, со школьной скамьи. Про Сашу скоро стали почтительно говорить: «Он у Никиты и художник, и мозговой центр». Это слегка смущало. Лично я никогда, скажем, не смог бы понять, зачем помимо самого режиссера, единственного человека, который с самого начала превосходно знает «чем дело кончится», который все уже некогда продумал, выстрадал, выдумал, сообразил, на картине должен быть еще какой-то центр…
Вслед за Адабашьяном появился Лебешев: в скором будущем он снимет с Никитой лучшие свои вещи; преданнейший Саша Самулейкин, тогда же образовался, помню, у них и какой-то директор картины, группа разрасталась. Никита все меньше говорил об армии, все больше – о будущем своем фильме, о его темпе и ритме, о съемках ручной камерой, но не «под Урусевского», а таких, которые позволят передать настоящий темп и ритм взволнованной и энергичной живой жизни.
Как раз рассуждая об этом, мы ехали со студии на съемку в Мураново, ту, где старый смотритель, разыскав в Петербурге Дуню, заглядывает к ней в комнату и видит, как играет она кольцами кудрявых волос гусара. При виде отца Дуня падает в обморок, Минский же вышвыривает несчастного смотрителя: «Да пошел же ты отсюда вон!» Это и предстояло в тот день снять.
Уже настала весна, шел конец апреля, те его дни, когда только-только все расцвело. Деревья стояли в кудрявых, нежно-зеленых, трепещущих облачках юной листвы. Очень тянуло в кого-нибудь немедленно влюбиться. Вместо того или вместо обсуждения съемок предстоящей сцены со мной, с печальной и прекрасной Дуней, со смотрителем Никита все время подробно разъяснял мне и любым другим персонажам, оказавшимся рядом, вопросы темпо-ритма мизансцены, монтажа и свободной камеры…
В Муранове встречали нас с любовью, какая сейчас у музейных работников по отношению к киногруппам вообще вывелась. В музее работали доброжелательные, милые сотрудницы, директором был «потомок по прямой» самого Ф. И. Тютчева. Попав на второй этаж музея, я был совершенно сражен грациозной красотой и уютом маленьких комнат с очень низкими потолками: это так гармонично сочеталось с этажом первым, роскошным, музейным, так просто раскрывало бытовой уклад некогда обитавших здесь людей (становилось ясно, как они ложились спать, как вставали, ели, пили, жили). Я рассказал о своих ощущениях от второго этажа мурановского дома тютчевскому потомку – тот, подумав и внезапно растрогавшись, предложил мне даже заночевать в этих комнатах, чтобы понять что-то такое, что я начал там понимать, но уже по-настоящему. И действительно, одну из ночей я провел в постели гениального поэта на том самом мурановском втором этаже, что, конечно, произвело еще одну ощутимую перемену в моем «формирующемся сознании».
В этом мурановском доме мы в тот день начали с того, что стали готовить один из самых красивых кадров картины, который потом много раз повсюду воспроизводился. На стене, над диваном, висела большая картина, изображавшая Тютчева и его сестер в детстве, привезли роскошный букет свежайших алых роз, Марьяна, получившая в тот день двойку по английскому, была особенно томна, поскольку двойка грозила дальнейшему ее пребыванию на киноведческом факультете: мне предстояло что-то предпринять, чтобы ее немедленно не выперли из ВГИКа. Никита уже словно сросся со своим дивной красоты гусарским мундиром, повторю, не гусарским – в этом и была вся прелесть, – а армейским, офицерским, лермонтовским. Мы быстро сняли его кадр с Марьяной, начали репетировать следующий, где он вышвыривает смотрителя-Пастухова из передней. Отрепетировали – сняли первый дубль, второй… Все, хватит. Опять была легкая перебранка по поводу кодаковской пленки, которую, мол, я на Никиту жалею, а на Колю – нет. Никита вроде бы хотел третий дубль. Но тут снаружи постучали. Сначала мы подумали, что это дурит выкинутый по ходу съемки за дверь Пастухов. Но постучали еще раз, очень твердо и решительно, как Пастухов не умел.
Открылась дверь: за ней обнаружился вовсе не Николай Исаакович, а мужественный майор Советской армии и с ним два солдата.
– Вы Михалков? Никита Сергеевич?
– Никита Сергеевич.
– Год рождения – сорок пятый?
– Сорок пятый.
Ни вопросы мужественного майора, ни ответы ротмистра Минского в комментариях не нуждались. Было ясно, что пришла пора прощаться. Никиту увезли.
В этот же вечер я позвонил ему домой.
– Завтра утром на медкомиссию, – сообщил Никита, – послезавтра – призыв…
Назавтра проводы начались у него дома, потом переехали еще куда-то, потом, конечно же, мы обнаружили себя в ресторане Дома кино, ночью – вроде бы у Адабашьяна… На рассвете, снарядив Никиту ложкой и кружкой, все повалили на призывной пункт.
А там пляски, песни, все братаются, обнимаются – не то война, не то репетиция войны. Все косые, никто не знает, кого куда повезут. Никому ничего не известно. Кто-то говорит – в Тулу, кто-то – в Туву, – потом я повторил всю эту ситуацию, как ее запомнил, у себя в «Спасателе», Никита – в «Родне». А в тот день после долгого ожидания выходит на крыльцо военкомата уже знакомый нам майор, замвоенкома, кричит в мегафон: «Отправка, назначенная на сегодня, переносится на завтра!»

Марианна и Никита в Муранове
Ужас! Все понимают, что проводы необходимо начинать сызнова. Мы провожали Никиту в армию, наверное, недели две. Съемки «Станционного», естественно, встали. Организм был разбит, при нажатии на любой участок кожи из пор сочилась чистейшая водка – хоть собирай во флягу и дуй во второй раз. Каждый день изматывающе повторялось одно и то же: уже все, начиная с самого Никиты, молили Бога и военкома, чтобы в этот раз забрали его уже окончательно. Но армейское иезуитство не прекращалось. Если в первый день проводов Никиты на сборном пункте провожать его нас собралось человек сто, то к концу оставалось нас совсем немного. Остальные спились, изнемогли, кто-то загремел на пятнадцать суток за мелкое хулиганство, большинство же просто морально разложилось…
И наконец грянул тот счастливый, ликующий и для провожающих и для самого призывника день, когда его, наконец, затолкали в автобус и уже по-настоящему куда-то увезли. Долго не было никаких известей. Потом с Дальнего Востока пришло письмо. Поблажек, несмотря на фамилию, Никите не было никаких: определили его на флот, где служить полагалось не три, а четыре года, в плавсостав Тихоокеанского атомного подводного, откуда скачи-скачи – ни до одной губернии не доскачешь. Для начала, для разминочки и вместо «здрасьте» на две с половиной недели засадили в одиночную барокамеру; вроде как испытывали на нем скользящее изменение давлений – отчего шла из ушей и носа кровь, что все равно не было посчитано достаточным поводом для прекращения важного воинского эксперимента.
Параллельно со всеми этими событиями из лаборатории понемногу выходил последний обработанный материал «Станционного смотрителя» с его участием.
Снимали мы несинхронно, на черновую фонограмму, голос у Никиты очень особенный, кто за него все это может озвучить? В размышлениях на эту тему я шел по мосфильмовскому коридору, натолкнулся на Андрона Кончаловского, Никитиного старшего брата. Поговорили о том о сем, о Никите. В ту пору в вечно развязной околокинематографической богеме считалось, что в семье Михалковых два брата: один – умный, благородный, начитанный, талантливый, удавшийся, интеллигент с безупречным художественным авторитетом и именем; другой же – артист… Пусть и умница, и обаяха, но место его – в буфете или вот в подводной лодке… Никита же не просто обожал Андрона – обожал, уважал и даже, в принципе будучи человеком бесстрашным, иногда, мне казалось, его побаивался…
Для начала мы сочувственно поговорили с Андроном про драматическую историю с неожиданным призывом младшего брата, потом про барокамеру и вообще про особенности службы на атомном подводном флоте. После чего я перешел уже и к драматической судьбе нашей картины:
– Не могу найти, кто бы озвучил Никиту…
– Я… – сразу сказал Андрон.
Наверное, только тогда я понял, насколько это действительно генетически особая семья. Голоса Андрона нельзя было отличить от голоса Никиты. Другой темперамент, другой склад ума, души, но голос тот же. В «Станционном смотрителе» есть куски, где две фразы говорит Никита, а за ним три – Андрон. Распознать, где чей голос, даже эксперту невозможно. Уходя с озвучания, Андрон посоветовал:
– Я уезжаю за границу. Если с фонограммой что случится или дописать чего-нибудь возникнет необходимость – позови отца. Будет все абсолютно то же самое.
Тем не менее кое-как я все-таки закончил картину, Никитина же команда нанялась к сценаристу Метальникову, который ненадолго тогда решил стать режиссером, в связи с чем все уехали в приморский город Судак работать на фильме с каким-то невероятным сюжетом. Причем Никитина группа уехала туда не просто подхалтурить на жизнь, а прежде всего решив сохранить себя как коллектив, ждущий возвращения вожака. От Никиты приходили письма, потом писать он стал реже, да и мы – отвечать тоже. Через какое-то время в «Комсомольской правде» появилась интригующая информация: мол, старший матрос Тихоокеанского флота Никита Михалков организует переход на собачьих упряжках от Владивостока чуть ли не до Северного полюса. Участвуют такие-то и такие-то военнослужащие плюс корреспондент газеты. Я-то, честно говоря, предполагал, что Никита организует на флоте какую-нибудь самодеятельность, какой-нибудь краснофлотский народный театр (лично я уж точно попытался бы таким путем облегчить свою воинскую участь), но он порешил для себя в корне иначе: в армии нужно служить и уважение к себе завоевывать воинскими делами.
Далее «Комсомолка» день за днем начала печатать невероятные сообщения: мы все, как молодогвардейцы подпольные листовки, передавали их из рук в руки. Каждую неделю появлялся репортаж об очередном участке пути, пройденном командой, группой чукчей и военморов под предводительством старшего матроса Михалкова. К репортажам неизменно прилагалась карта, где пунктирной линией был отмечен пройденный маршрут и жирной точкой место последней стоянки команды. Так дошли они дотуда, куда дойти решили, водрузив там, кажется, знамя СССР и флаг Тихоокеанского флота. А старший матрос Михалков получил правительственную награду и сегодня, хотя уже сколько лет с тех пор прошло, вспоминает свою флотскую службу без ерничества и ухмылок и даже как по-своему счастливейший период жизни. Более того, говорят, когда подрос его сын Степан и, естественно, встал вопрос, не постараться ли «отмазать» его от армии, Никита, напротив, лично определил его в дальневосточный флот, где тот на полную катушку отведал всего того же, что в свое время, отец.
Если мне не изменяет память, именно за тот героический переход помимо наград и грамот Никита получил еще и право съездить в Москву на побывку. Мы встретились. Никиту было не узнать: красавец-краснофлотец с полотна Дейнеки, в бушлате, с двумя рядами сверкающих бронзовых пуговиц, в надраенных до блеска башмаках, в бескозырке, черном слюнявчике и блеклоголубом морском воротнике – ну, просто великолепная картинка времен сталинского соцромантизма.

Никита в подводном флоте
Большим разнообразием наши вкусы и прежде, как вы верно уже поняли, не отличались, встреча продолжилась в ресторане Дома кино, а после, настучавшись по плечам друг друга, кулаками по столу, нахохотавшись до обморока, мы пошли к выходу, и тут Никита назвал имя девушки, как-то раз или два оказавшейся в нашей старой, времен «Станционного смотрителя», компании.








