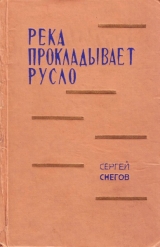
Текст книги "Река прокладывает русло"
Автор книги: Сергей Снегов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 27 страниц)
Надя задумчиво сказала:
– Знаешь, в нашей повседневной работе мы часто забываем ее высокий смысл, это ты прав. Нужно выполнять суточный план, думаешь только об этом. Но если мы не говорим, то мы чувствуем смысл, понимаем, что он есть. Иначе было бы ужасно работать. Как по-твоему?
– Да, конечно, – ответил он. – Я хочу только сказать, что это внутреннее чувство не всегда и не у всех становится сознательным пониманием.
Так, обмениваясь мыслями, открывая друг другу души, они гуляли по сонным улицам. А потом на северо-востоке запылало небо, солнце пробивалось к горизонту. Лесков с удивлением проговорил:
– Наденька, уже утро!
– Уже давно утро! – засмеялась она. – Ты так увлекся, что ничего не видел. А я всматривалась в твое лицо, как оно постепенно светлело.
Он снова проводил Надю до дверей ее дома. Но и теперь им трудно было расстаться. Они условились встретиться днем на фабрике и провести вместе вечер. Она поднималась вверх по лестнице, а он, стоя внизу, махал рукой.
– Днем! – кричал он шепотом, чтоб не разбудить соседей. – И вечером! И всегда!
Она отвечала тоже шепотом: – Днем. Вечером. Всегда.
Лесков возвращался медленно. От дома Нади до гостиницы было триста метров, но ему потребовался час, чтобы дойти. Лубянский спал сном тяжко потрудившегося человека. На столике лежало письмо от Юлии.
Юлия сообщала о приезде в Ленинград, о том, как они устроились, как хорошо все складывается у Николая и у нее, делилась радостью: у них будет ребенок. «Николай просто удивителен, я все больше его люблю, – писала сестра, – а теперь он так за мной ухаживает, так оберегает, что мне даже совестно. Я очень счастлива, Санечка, бесконечно счастлива!»
24События с каждым днем увеличивали темп движения. Разрешались старые драмы, рушились старые препятствия – возникали драмы новые, воздвигались новые препятствия.
Анюта ушла из лаборатории дежурной на заводскую подстанцию, Галан потребовал от нее, чтобы она переменила место работы, Анюта не посмела спорить. Закатов ходил злой и неразговорчивый. Он и раньше пропадал в наладочной, не считаясь со временем, сейчас не всегда уходил и на ночь – поспать можно было у Лескова на диване. В первые дни после перевода Анюты он пытался с ней встретиться, но Галан заходил за женой на новое место ее работы, не отпускал ее никуда одну. Закатов засел за письма: длинные рассуждения прерывались стихами, стихи выливались в признания, все заканчивалось отчаянными призывами возвратиться. Он не знал, сколько слез пролила Анюта над его признаниями, у нее хватило мужества не отвечать. Закатов совсем упал духом, забросил стихи и письма, с яростью ринулся в работу – это было действенное лекарство, живительный эликсир от всех скорбей. А дело шло, все яснее вырисовывался успех, работа захватывала и отвлекала.
Трудные минуты пережила и Маша. Несчастье ее состояло в том, что она была привязчива, добра и доверчива, она вслушивалась только в хорошие слова. А так как нравились ей к тому же люди, легко рассыпавшие эти хорошие слова, то она часто спотыкалась и на ровном месте. На Селикове Маша споткнулась – больно ушиблась: на ровное место этот человек не был похож, он и в диком кустарнике торчал бы, как неперелазный пень. Маша забыла о Лескове, не только об Алексее, готова была идти на все. Селиков быстро растолковал ей, что о любви не может быть и речи. Объяснение состоялось под мельницей, в гигантском подвальном этаже, наполненном сыростью, грохотом вращающихся наверху мельничных барабанов, густой сетью водопроводных труб и сточными желобами. Селиков забрался сюда выверять механизм, регулирующий подачу воды, а Маша примчалась с ведром пульпы. Она должна была отнести ее на анализ, но свернула в другую сторону: любящему верста не околица. Над ними нависал дощатый цеховой пол, в щели струился свет и капала вода, около Селикова тускло светила «переноска».
– Давай так, Маша, – внушительно сказал Селиков. – Вечерок провели отличный – за это благодарность. А правило общее – хорошенького понемногу.
Она не могла поверить: память сохранила ей жаркие упрашивания, льстивые обещания, она еще прикрасила их в своей памяти – слишком все это было далеко от теперешнего хмурого взгляда Селикова и его неприязненного лица. Она с обидой напомнила ему: там, под березкой, он расписывал чувства по-иному, Селиков с насмешкой покосился на нее.
– А как надо было? Давай побалуемся, а там ты в лес, я по дрова? Вроде не этого ты от меня ожидала, говорил, что тебе хотелось. Ты ведь чего желала? Лескова позлить. Мне тоже кое-кому нос следовало натянуть… Длинной любви перед этим у нас с тобой не было, сама только от других губ оторвалась. Так что давай не будем, Маша, а останемся хорошими друзьями.
Этого уже нельзя было по-другому истолковать, приукрашиванию такое объяснение не поддавалось. Маша была одинаково щедра на любовь и на ярость. Селиков сперва удивился, потом расхохотался: впервые ему приходилось слышать от женщины такую брань, ему это даже понравилось. Его веселое лицо привело ее в неистовство. Он наконец обиделся.
– Заткнись, дура! – крикнул он грубо. – У меня расправа короткая, не постесняюсь, что ты девка.
В ответ она выкрикнула новое ругательство. Он метнулся к ней с кулаками, ярость изуродовала его лицо. Она схватила ведро с пульпой, струя едкой грязи – раздробленная руда с маслянистыми реагентами – хлынула на него, потекла по груди и спине. Если бы Маша теперь попала в его руки, ей пришлось бы плохо. Но в небольшом и крепком ее теле гнездилась смелая душа. Отшатнувшись, стирая пульпу с лица, он не заметил, как она схватила висевшую на гвозде «переноску» – тяжелую палку с закованной в железную сетку лампой. И когда, зарычав, Селиков снова кинулся на Машу, на лоб его обрушился страшный удар – вспышка света ослепила его, кровь залила глаза, со звоном лопнувшая лампочка засыпала щеки раскаленными брызгами стекла. Неожиданный удар, боль и мгновенный переход от света к темноте обманули его: ему показалось, что у него выжжены глаза. С воплем он бросился к лестнице, в смятении нащупал перила, двумя прыжками вынесся наружу и, зажимая лицо руками, помчался по цеху.
Пораженная своим решительным поступком, Маша на мгновение оцепенела. Потом ярость превратилась в ликование, Маша захохотала. Последнее, что Селиков слышал, несясь в пункт «Скорой помощи», был ее пронзительный смех, раздавшийся у него под ногами. Поводов для горя было, однако, больше, чем для веселья. Маша уткнулась головой в бетонную колонну и зарыдала – о чужой жестокости, о своей доброте, о том, что она верит людям, а люди ее обманывают и что вообще жизнь – отвратительная штука, ей двадцать один год, а уже все разбито. К Маше подошел Алексей, она не услышала его тихих шагов. Он положил ей руку на плечо, только тогда она узнала его.
– Ну, чего тебе? – сердито сказала она, отталкивая Алексея. – Я не звала.
– Что с тобой, Маша? – спросил он. – Зачем сюда забралась?
Она гневно посмотрела на него, в полутьме подвала было плохо видно. Алексей улыбался виноватой улыбкой – это ее сразу взбесило. Она ответила враждебно.
– Забралась, никого не спросилась. И тебя не спрошусь. А ты иди, ты мне мешаешь.
Он ответил, голос его был мрачен и необычен:
– Ладно, знаю, куда идти.
Он не сумел избавиться от своей раздражающей улыбки, но теперь она казалась маской, взгляд его был грозен. Испуганная и негодующая, Маша воскликнула:
– Вот еще – знает! А куда пойдешь, интересно спросить?
Он пробормотал, делая шаг к лестнице:
– Одно тебе скажу: на свете ему не жить! В тюрьму сяду, а с ним посчитаюсь. Все о вас знаю!
Она схватила его за рукав спецовки.
– Нет, постой, что ты знаешь?
Он молчал, лицо его покривилось, она еще не видела его таким рассерженным. Ей стало страшно, она крикнула:
– Ну, чего ты молчишь, как стена, просто сил с тобой нет!
Он гневно проговорил:
– Все знаю, Маша! На фабрике только и говорят, как ты с ним в лесу потерялась. И сейчас он выскочил грязный и побитый, все видели. Нет у меня возможности такое вытерпеть. Пакостник он, вот что! А я не разрешу!
Она бурно запротестовала:
– Прямо не разрешишь! А чего не разрешишь? Мало что говорят, поговорят и перестанут! У нас на фабрике обо всех говорят, вот что ты к Катьке лез – сколько раз слышала! Собирали в лесу цветы, заблудились – целый трезвон вокруг пустяка!
Он колебался. Он еще не верил. Оправдания ее казались основательными, обвинения – тоже: он, вправду, до Маши пробовал подружиться с Катей, только ничего из этого не вышло.
Она продолжала нетерпеливо, ей самой казалось, что, точно, ничего не было, да и как могло быть что-нибудь у нее с таким мерзавцем, как Селиков?
– Пойми, если бы что у нас было, разве пришлось бы ему удирать?
Она опять расхохоталась, вспомнив, как Селиков с воплем отпрянул от нее. Смех больше убедил Алексея, чем все оправдания: в смехе звучало издевательство над Селиковым, на любовь это не походило. Алексей спросил:.
– А что у вас случилось?
– Понимаешь, я пришла посмотреть, что тут автоматчики устраивают, а он облапил меня, думал, раз мы в лесу погуляли, значит, все сойдет. Ну я на него ведро пульпы истратила и «переноской» хватила по лбу.
Она смеялась еще веселее, а у него исчезла от волнения его всегдашняя улыбка. Он схватил Машу за плечи, взглянул в ее глаза.
– Маша, – сказал он прерывающимся голосом, – ты меня не обманывай; Говорю: все для тебя, голову прикажешь разбить – разобью! Давно хотел тебе… Не могу без тебя, Маша! Ну, вот просто не могу!
Очарованная, молчаливая, она слушала его: наконец, он нашел нужные слова, только, их она ждала, теперь ей никого не нужно – ни Лескова, ни Селикова. Она прижалась к Алексею, оба они были невысокие, щеки их жарко соприкасались, он обхватил ее неловко и крепко ладонями, хотел поцеловать. Маша не давалась, отворачивая лицо: она любила целоваться, но здесь этого нельзя было просто, все это было страшно важно и огромно, как еще никогда в жизни, она не смела.
А когда Маша уступила, счастливая и покорная, сверху вдруг хлынула широким потоком вода и грязь. В смятении Маша и Алексей отскочили друг от друга. Сквозь щели дощатого пола в подвал рушились массы жидких песков. Алексей кинулся к лестнице, Маша за ним. Она выбежала наверх и ужаснулась: ни спецовки, ни чулок, ни туфель не было видно, все скрыла облепившая ее грязь. Алексей шел ей навстречу такой же грязный, он улыбался так радостно, словно произошло счастливое событие.
– Ну, скандал, Маша! – крикнул он, смеясь. – Руда повалила крупная, и мельница, которая без автоматов, все выбрасывает. Жуткий завал – часа три лопатой перегребать пески!
Маша испугалась, она знала, как он гордится своей работой и как страдает от любой неполадки. Она сказала тревожно:
– Лешенька, что же теперь будет?
– А ничего! – отозвался он, радуясь по-прежнему. – Выговор в приказе, ну, и с доски, само собой!
25Галан сидел у Двоеглазова и подсчитывал рубли. Собственно, подсчеты были совершены уже давно, перепечатаны на машинке и, аккуратно скрепленные, лежали на столе перед плановиком. Но Галан не мог отказать себе в удовольствии произнести их вслух. Он называл цифру за цифрой, перебрасывал на счетах для наглядности, а Двоеглазов, пронзительно всматриваясь в Галана, молча раздражался: Галан забывал всякую меру, когда речь заходила о деньгах, это было уже не впервые. Двоеглазов прервал Галана, когда цифра ожидаемой премии перевалила за семьдесят тысяч.
– Удивительное дело! – сердито сказал Двоеглазов. – Все изобретатели сами лезут подсчитывать свои доходы и обязательно врут. И врут как-то странно – только в свою пользу. Хоть бы раз ошиблись в пользу государства!
Галан стащил с носа очки и внимательно посмотрел на плановика.
– Не понимаю, Даниил Семенович, ты хочешь сказать, что я где-то напутал?
– Где-то! – негодующе фыркнул Двоеглазов. – Вот давай, я покажу тебе настоящий расчет. Окончательно будет оформлять бухгалтерия, а вчерне мы сами прикинем.
И, отставив в сторону расчеты Галана, он пустился беспощадно стучать на счетах. Костяшки целыми стаями, словно вспугнутые птицы, перелетали с места на место. Галан с ужасом смотрел на счеты: годовая экономия от сокращения рабочих общипывалась, обламывалась, на глазах худела, а вместе с ней худела и подлежащая выплате премия. Один десяток тысяч отдирался за другим, словно капустные листья с кочана, – вот уже сорок тысяч осталось, вот уже к двадцати катится…
– По плану на данный год полагалось провести, независимо от автоматизации, двадцатипроцентное сокращение рабочего персонала – отминусуем эти двадцать процентов от годовой экономии, – говорил плановик. – Новое автоматическое оборудование стоит полмиллиона, амортизация по нормам завершается за пять лет, итого сто тысяч в год, – снимем их. Заводской лаборатории КИП добавлено дежурных прибористов, неоспоримый рост зарплаты, вызванный автоматизацией, – вычтем его. Механизмам автоматики требуется ремонт, на это предусматриваются суммы – отчекрыжим их.
И, показывая рукой на счеты, словно полководец на оставшееся за ним поле битвы, Двоеглазов решительно подвел итоги:
– Не семьдесят тысяч, а что-то около десяти, и то ориентировочно, более точный расчет, конечно, внесет существенные коррективы в сторону уменьшения.
Галан был человеком опытным и понимал, что точные бухгалтерские расчеты – дело относительное, многое, явно постороннее, можно в одном случае приплести к делу, а другое, вроде и требующееся, в ином разе и не упомянуть. Радостно улыбаясь, он укоризненно заметил:
– Ну, как же так, Даниил Семенович? Ведь ежели все валить на одну голову, так еще с меня же за мои труды причтется.
Двоеглазов непреклонно воззрился на него сквозь очки-лупы.
– А ты как думаешь? И очень возможно, что будет вычет вместо выплаты, случаи такие нередки. Одно вас, изобретателей, спасает – убытки от ваших выдумок государство взваливает на свою спину. Шишки, так сказать, оставляет у себя, а вам выдает только пышки, когда полагаются, конечно. Зато и другое правильно – государство не дойная корова, а вы что-то часто об этом забывать стали.
Как Галан ни крепился, улыбка на его лице потухла.
– По-твоему получается так, – сказал он. – Я мозги трудил, ночей не спал, и меня же за это ругать надо. Да пойми, мы переворот устроили, целый автоматизированный передел пустили без людей. О наших достижениях статьи пишут, из Москвы приезжали – интересуются. Концы у тебя не сходятся, Даниил Семенович.
Двоеглазов нетерпеливо отмахнулся.
– Очень сходятся! К какому эксперту ни обратись, станет на мою сторону. Одно дело слава, а другое – государственная копейка. За твои сверхурочные труды и изобретения ты получил благодарность по приказу и единовременную денежную премию в поощрение. Это одна графа, и она говорит: заслуг изобретателя никто не отнимет! – Двоеглазов с силой стукнул костяшками на счетах. – А сюда ты пришел не за признанием своих заслуг, а за деньгами – установленным твердым процентом от годовой экономии, образовавшейся в результате внедрения твоего предложения. Экономии этой не нахожу, вот в чем гвоздь, дорогой Александр Ипполитович. И это другая графа! – Он с грохотом перебросил новую партию костяшек и с торжеством уставился на счеты.
Теперь Галан молчал. Как ни был он раздражен, он понимал, что дальше злить Двоеглазова не следует. Вопрос придется перенести в высшие инстанции. Когда нажимает руководство комбината, Делопут не брыкается особенно, он понимает, что живет среди людей и сам человек. Но если идти на принцип, он из человека превращается в гранитный параграф – тогда его и министр не сдвинет.
– Вот так! – удовлетворенно сказал Двоеглазов. – Забери свои расчеты и не торопись с премией. Автоматика твоя – дело новое, пусть поработает, присмотримся, чего она стоит, соберем отзывы, полагающиеся по инструкции, а там уж окончательно решим.
Он снял очки и стал протирать их носовым платком Зазвонил телефон. Один из сотрудников отдела взял вторую трубку и вполголоса проговорил: «Кабаков, срочно!» Двоеглазов, оставив на столе очки, схватился за свою трубку. Злое желание овладело Галаном. Воровато оглянувшись, он ловко пододвинул очки и спрятал их под ворохом бумаг. Двоеглазов кричал в трубку: «Да! Слушаю! Немедленно выхожу!» Не глядя, он безошибочно положил ладонь на то место, где только что лежали очки. Не найдя их, он стал шарить рукой по столу и хлопал ею по бумагам, низко наклоняя голову. Злорадный смех разбирал Галана; плановик водил носом по столу, словно обнюхивая. Встревоженный пропажей, он ошалело уставился на людей, сидевших в комнате, теперь глаза его уже не казались пронзительными, в них был ужас внезапно ослепшего человека.
– Товарищи, что же это? – сказал он отчаянно. – Я, кажется, потерял очки, помогите найти. У меня девятнадцать диоптрий, я ничего не вижу без очков.
Все кинулись помогать ему. Бумаги перекладывались с места на место. Больше всех старался Галан. Проворно упрятывая очки все дальше под кипу бумаг, он громко кричал: «Вот, вот, они! Нет, не то! Ага, кажется, здесь!» Внезапно страшная догадка мелькнула в потрясенном мозгу Двоеглазова. Он встал и, держась рукой за стену, отошел от стола.
– Товарищи, очки, наверное, упали на пол! – сказал он дрожащим голосом. – Вот туда, к окну. – Он слепо тыкал рукой в сторону от окна. – Ради бога, не наступите ногой, я погиб, если очки разобьются, такие можно достать только в Москве по спецзаказу! Очень прошу…
Минуту Галан колебался между благоразумием и мстительным порывом бросить очки на пол и с хрустом пройтись по ним каблуками. Потом он вытащил очки из кипы и с торжеством всунул их в трясущуюся руку Двоеглазова, не отходившего от спасительной стены.
– Благодарю! – сказал Двоеглазов с облегчением, еще не видя, кто протянул очки. – Это они, точно. – Он быстро вздел их на нос, и, обретя обычный вид, уставился на Галана. Лита Галана выражало счастье по случаю благополучного исхода происшествия. Плановик протянул Галану руку и так тряс ее, словно Галан спас ему жизнь.
– Без тебя их растоптали бы! – сказал он, полный горячей признательности за бескорыстную помощь. – Сейчас, извини, вызывает Кабаков, но мы еще вернемся к твоему делу. Думаю, получится не так уж плохо, сделаем, что можем!
Галан шел по улицам, ухмыляясь. Конечно, Делопут будет еще путать, но на прямое зло уже не поднимется. Неожиданная шутка с очками обернулась удачно. Галан все снова вспоминал Делопута, обнюхивающего стол, и трясся от удовольствия. Потом черные, заботы опять заполнили его. Ах, как еще много предстоит бороться, чтобы вырвать свои денежки! Один ли Делопут на свете?
Недалеко от цеха на Галана налетел Шишкин. Галан; увидев его, хотел свернуть в сторону: он побаивался неприятного разговора; после того, как Шишкину отказали в премии, отношения у них вконец испортились. Но Шишкин мчался по улице с такой быстротой, что уклониться было невозможно. И, против ожидания, Шишкин не собирался попрекать Галана. У Шишкина было радостное и возбужденное лицо.
– Новые дефицитные материалы раздобыл, Федор Федорович? – спросил Галан с любопытством, зная, что ничто другое не может так взбудоражить снабженца.
– Го-го! – загремел Шишкин. – Думаешь, только дефицитом живу? Ошибся, друг, дело поважнее!
Удивленный Галан догадался, что случилось.
– Неужели Людмила Павловна вернулась?! – воскликнул он.
– Вернулась! – кричал Шишкин, убегая. – Только что с аэродрома звонила. Извини, спешу! Заходи, если дефицит понадобится.
Он помчался еще быстрее, торопясь поспеть домой до приезда жены. Но Людмила Павловна приехала раньше. Перед дверью своей квартиры Шишкин остановился перевести дух. На него вдруг напал страх: как-то еще встретит его Людмила Павловна, достанется ему, вероятно, за холостяцкий беспорядок! Он прислушался: из-за двери доносились голоса. Сашенька плакал и чего-то требовал, Людмила Павловна отвечала знакомой беспомощной отговоркой: «Боже, как ты меня мучаешь!» Потом Людмила Павловна звонко шлепнула Сашу, заревевшего еще громче, и в отчаянии пригрозила: «Вот папа придет, я все о тебе расскажу! Ах, боже мой, совести у него нет, как можно так задерживаться!» Шишкин приоткрыл дверь, переступая через порог, как через ров.
В комнате был разгром. Посредине стояли два раскрытых чемодана, белье и вещи валялись повсюду. У окна, среди изломанных игрушек, сидел Саша и вытирал грязным кулаком грязные щеки. Сама Людмила Павловна, загорелая и похудевшая, рылась в вещах, с досадой бросая то одну, то другую. Появление Шишкина произвело неожиданное действие: Саша, поднявшись, боязливо забился в угол, а Людмила Павловна со страхом и тревогой смотрела на мужа. Некоторое время они молчали, словно придавленные встречей. Шишкин видел теперь, что Людмила Павловна не только похудела, но и подурнела.
– Это мы! – сказала наконец Людмила Павловна и торопливо подтолкнула сына в спину. – Иди, здоровайся с папой, мучитель!
Сашенька неуклюже заковылял из угла, недоверчиво посмотрел на отца и вдруг, схватив обеими ручонками его ноги, заревел, бормоча сквозь слезы:
– Папочка, милый, мы совсем приехали!
Шишкин схватил сына и поднял вверх, целуя и тиская. Сашенька прижимался щекой к его щеке. Шишкин захохотал от счастья и протянул жене свободную руку. Людмила Павловна порывисто шагнула по чистому белью и крепко обняла сына и мужа. Потом они долго целовались, и Сашенька, затихнув, всматривался и вслушивался в эту новую для него процедуру. Раскрасневшаяся и похорошевшая, Людмила Павловна прошептала с укором:
– Как ты мог быть таким жестоким! Нет, как ты мог! Я чуть с ума не сошла, когда получила телеграмму!
Шишкин, смущенный, оправдывался. Он не сумел сразу добыть денег, которые она просила, и вынужден был телеграфировать, что придется немного погодить; она, вероятно, говорит об этой телеграмме. Но потом дела повернулись к лучшему, он кое-что занял и дал новую телеграмму, что высылает деньги. Она должна была на днях получить этот перевод.
– Ах, ничего я не получала, – сказала Людмила Павловна устало. – Мне было не до денег. Я выехала в тот же день, как прочла твою страшную телеграмму.
Он поставил Сашеньку на пол и в недоумении уставился на жену.
– Людочка, на что же ты купила билет? И как ты питалась в дороге?
Она ответила равнодушно:
– Я продала свое новое платье. И очень выгодно: всего двести рублей потеряла. У меня еще рублей сто осталось.
Она снова стала рыться в чемоданах, ожесточенно… выбрасывая вещи на пол.
– Людочка, дай я помогу! – робко попросил Шишкин. Он побаивался лезть в дела Людмилы Павловны: она не терпела непрошенного вмешательства.
Но она ответила, не сердясь:
– Да ты не знаешь, что я ищу. Мы с Сашенькой купили тебе подарок, он сам ткнул ручкой и сказал: «Вот это для папуси!» А сейчас найти не могу, наверное, на самое дно засунула.
Саша с торжеством крикнул, вытаскивая из белья пару носков, ярких, как лубочная картинка:
– Вот они, мамочка!
Шишкин, растроганный, прижал носки к груди и долго благодарил сына и жену.
– У нас таких нет, – любовно бормотал он, поглаживая желто-оранжевую шелковую пряжу. – Не завозят на север. Форменный дефицит.
Людмила Павловна сразу утомилась, словно исчерпала весь запас энергии, села на диван и сказала со вздохом:
– Ах, как мы устали с Сашенькой! Десять дней в дороге, и ни одной спокойной ночи, все такие черные мысли! И еще этот ужасный самолет! Знаешь, я лучше потом все уберу.
– Да ты отдохни, Людочка, я сам все уберу и приготовлю поесть, – поспешил успокоить ее Шишкин. – Ложись с Сашенькой, я буду двигаться тише мыши.
– Я с папой! – ревниво крикнул Саша. – Не пойду лежать, я выспался!
Людмила Павловна устало опустилась на диван. Шишкин прикрыл шторкой окно, чтобы свет не падал ей на лицо. Некоторое время она следила, как муж с сыном раскладывают вещи по чемоданам и на полки шкафа, потом глаза ее сомкнулись. Тишины не было, Сашенька топал ногами, с грохотом перебрасывал игрушки, приставал к отцу с вопросами; тот громким шепотом отвечал. Но эти звуки не раздражали Людмилу Павловну, они успокаивали сердце, мягким туманом обволакивали сознание. Проснулась она от внезапно наступившего грозного безмолвия. Потрясенная, она вскочила и стала оглядываться. В комнате было чисто прибрано и пусто – ни мужа, ни сына. Крик ужаса рвался из горла Людмилы Павловны, она успела сдержать его – за стеной послышался грохот падающего пустого бидона, звонкий хохот Сашеньки, смущенный голос Шишкина что-то объяснял, Людмила Павловна на цыпочках, словно боясь спугнуть что-то самым слабым шумом, возвратилась к дивану. Сон больше не шел. Она вслушивалась в возню Шишкина с сыном на общей кухне, потом мысли ее возвратились к тому, над чем бессильно бились все эти страшные дни. Она всегда знала, что Шишкин – загадка, она подозревала это и не ошиблась. Недаром все так боятся его на службе, она одна не боялась, и напрасно. А сейчас он по-старому смотрит добрыми глазами, он делает вид, что не понимает, о какой телеграмме речь. И она не может уличить его во лжи, не может вынуть телеграмму и положить на стол: тогда, в спешке, она выронила ее из кармана. И текст ее повторить тоже не сумеет, она помнит только, что там был ужас, ужас. А если бы телеграмма и не потерялась, ей все равно было бы страшно перечитывать эти черствые и злые слова. Нет, как все неверно и трудно! Она не сумеет больше спокойно командовать мужем. Теперь она знает, на что он способен. Он именно такой, каким его считают другие. У него железная выдержка и непреклонный характер, подобные люди ни перед чем не останавливаются, если пойти против них. И Сашенька весь в отца, с ним тоже сладу нет. Ах, какие это были ужасные дни! У нее сердце разрывалось, когда она думала, что осталась одна, что никогда больше ей не вернуться в эту комнату. Она плакала и говорила Саше: «Проси отца, чтоб он нас не оставил», – а Саша ревел и ничего не понимал.
Дверь распахнулась, первым вошел Саша с миской нарезанного хлеба, за ним двигался Шишкин с яичницей и сыром.
– Ты уже проснулась, Людочка? – загремел он весело. – А мы времени не теряли: обед из четырех блюд. Сейчас принесу отбивные и какао. А сыр нарезал сам Сашенька.
За едой Шишкин сообщил жене, что вечером к ним придут Крутилин с женой и два проектировщика – Пустыхин и Бачулин. Пусть она не беспокоится, он сам все приготовит к встрече. Он понимает, ей хочется с дороги отдохнуть, но так уж вышло: Крутилина надо было пригласить, а те как-то сами напросились, он толком даже не помнит, как все получилось.
– Нет, ничего, я уже отдохнула, – поспешно сказала жена.
– И люди они хорошие, смирные! – в увлечении кричал Шишкин. – Мухи не обидят, говорю. Неслыханный завод проектируют: по слухам, ни одной рядовой машины, ни одного материала из ширпотреба, на жутком дефиците все держится. Представляешь? Нужно им особое уважение оказать.
– Да, конечно! – поддержала Людмила Павловна. – Обязательно, раз такие интересные люди!
После обеда Сашу потянуло в сон. Его положили на диван, а Шишкин с Людмилой Павловной улеглись на кровати. Она, не удержавшись, снова шепнула:
– Нет, я все-таки не понимаю, как ты мог послать такую телеграмму!
– Не знаю, о чем ты говоришь – проговорил Шишкин в недоумении. – В телеграмме было только то, что следовало. Хочешь, я повторю тебе ее слово в слово?
Но ее охватил страх, что она снова услышит эти беспощадные слова. Она поцелуями закрыла ему рот.
– Не смей! – шептала Людмила Павловна. – Никогда не вспоминай о ней больше, хорошо? И я никогда не вспомню, клянусь, чем хочешь! Дай слово забыть ее!
– Даю слово, – сказал он покорно. – Никогда не вспомню!
Они еще долго шептались в кровати, то нежно обнимались, то смеялись, то деловито обсуждали будущую жизнь. И если бы остряк Селиков, любивший потешится над Шишкиным, увидел его в эти часы, он ни за что бы не повторил ходячей остроты: «Шишкин такой скупой, что даже жену не ласкает, приберегая ласки на черный день».







