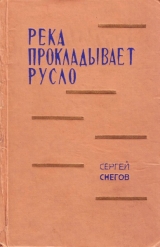
Текст книги "Река прокладывает русло"
Автор книги: Сергей Снегов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
Лубянский представил Лескова трем пожилым людям, сидевшим в кабинете. Это была бригада специалистов, присланная из министерства, – профессор Шрамов, кандидат наук Тройкин, руководитель сектора производственной автоматики Гронберг. Приезд бригады был неприятен Лескову вообще, особенно неприятно ее сегодняшнее появление: приходилось забрасывать наблюдение над работой исправленного регулятора и идти парадом по фабрике – хвастаться будущими достижениями, скрывать нынешние затруднения. Он с облегчением узнал, что предварительная беседа уже состоялась. Лубянский ознакомил бригаду с историей работ по автоматизации фабрики, не забыл упомянуть и о бурном партийном собрании. («Только после того, как было сломлено сопротивление маловеров и ленивцев, не желающих переходить на новые методы работы, удалось по-настоящему развернуться!»). Теперь оставалось показать бригаде регуляторы в действии, для этого и пригласили Лескова.
Выходя из кабинета, Лубянский шепотом спросил:
– Выяснили, что случилось с этим чертовым регулятором?
– Выяснили, ничего, – ответил Лесков. Лубянский так удивился, что заговорил громко:
– Как ничего? Ведь он немыслимо барахлит!
Лесков нетерпеливо отмахнулся.
– Ничего, все в порядке. Потом объясню.
Они шли из цеха в цех, осматривали новую аппаратуру, проходившую испытания. Объяснения давал Закатов; он развернулся, каждый прибор лаборатории в его изложении представал как открытие в технике.
Лубянский шепнул Лескову, посмеиваясь от возбуждения:
– Знаете, Александр Яковлевич, как Савчук принял комиссию? Вот уж мамонтово обхождение! Даже не понимает, что сегодня он им нагрубит, а завтра они его в официальном докладе разнесут. Вначале все шло честь честью: улыбался, руки жал, даже погордился немного: первая все-таки фабрика в стране, которая переходит на автоматику. Он не дурак, понимает, что немалый капитал можно на этом нажить. А потом его вдруг прорвало. Профессор Шрамов просит: «Не могли бы вы пройти с нами по цеху, очень интересно узнать ваше мнение о каждом регуляторе». Он отваливает все с тою же улыбкой: «Не до автоматов, товарищи, у меня план по концентратам проваливается, пусть этими пустяками товарищ Лубянский занимается – его начинание!»
Лесков знал, что в этом месяце фабрика плана не выполнит, один измельчительный цех со своими мощными резервами шел в норме. Одолевавшие Савчука заботы были Лескову понятны.
– Прав он, все эти показные обходы – пустяки, я их иначе не расцениваю, – ответил Лесков.
Лубянский возразил, уязвленный:
– Боюсь, он имел в виду не обходы, а саму автоматизацию – москвичи так его и поняли.
Через час профессор Шрамов в кабинете Лубянского подводил итоги первым впечатлениям. Он был объективен, это Лесков сразу признал – многое москвичам понравилось, со многим они не соглашались.
– Вам было бы легче, если бы вы связались с центральными институтами, – указал он. – Во всех лабораториях Союза сейчас бьются над сходными задачами, а к чему такая разобщенность? Вы слишком громоздкую ношу навалили себе на плечи, если и вытянете ее, то не очень скоро. Мы, конечно, широко оповестим о вашем опыте другие заводы министерства.
Это было резонно, Лесков не возражал против любой помощи, готов был и сам оказать ее. Он согласился представить москвичам письменную информацию о своих работах.
Он шепнул Закатову:
– Писать будете вы: что-что, а расписывать вы умеете.
Закатов был так обрадован похвальным отзывом московских специалистов о его приборах, что даже не рассердился.
На другое утро Лесков явился на фабрику раньше всех: он страшился новых неожиданностей. Регулирование шло исправно, мельница показывала максимальную производительность. Сухов встретил его злобным взглядом – норовистый измельчитель не скрывал своих чувств. Еще вчера Лесков серьезно подумывал о рапорте Савчуку; он не оставил мысли убрать Николая Сухова подальше от опытной мельницы. Повинуясь внезапному порыву, Лесков поступил совсем по-иному. Он дотронулся рукой до плеча отвернувшегося измельчителя и сказал:
– Товарищ Сухов, послушай, это же глупо: чего ради мы враждуем?
Измельчитель мрачно слушал, он не уходил, но и не поворачивался лицом, Лесков продолжал еще горячее:
– Чепуха какая-то! Должны бы помогать один другому, а не наскакивать с кулаками.
Сухов угрюмо отозвался:
– Я, к примеру, кулаками не машу, хотя сдачи всегда могу… А помощника ты уже нашел – Алексея. Видать, оттого, что он за мной не угонится, ты в нем великого специалиста открыл. Твое дело, конечно. Я скажу прямо: Николай Сухов только тебе как мастер неизвестен, другие о нем наслышаны. Без автоматики проживу, своими руками.
Он протянул Лескову ладони, глаза его гордо глянули в лицо Лескову. И тут Лесков вдруг нашел единственные слова, способные тронуть душу этого человека:
– Нет, Николай, неправда – я о тебе тоже слышал. И, как все, одно хорошее. Скажу по-честному: надеялся, что подружимся. А почему-то не выходит – или я к тебе не подошел, или ты не понимаешь наших задач.
Сухов глядел по-прежнему замкнуто и высокомерно, но Лесков знал, что лед сломан. Измельчитель сказал ворчливо, без прежней вражды:
– Задачи, говоришь?. Задачи я понимаю, может, лучше твоего. Вон расхвастались: максимальная производительность, лезвие ножа! Смех – столько крику. А где он, максимум? С собственной автоматикой не справляетесь!
Лесков с изумлением слушал его.
– Позволь, разве ты считаешь, что у нас не максимальный режим? Ты берешься поднять его выше?
Измельчитель кивнул головой.
– Берусь. На твоих глазах, чтоб сам увидел, кто таков Николай Сухов. В руки настоящие взять твои приборы – тогда они чего-нибудь будут стоить.
Лесков сейчас же решился:
– Ладно, отдаю автоматику в твои руки, показывай, что еще можно сделать.
Они шли к щиту. Измельчитель хмурился. У щита он потребовал:
– Только так: раньше растолкуй мне все рычажки и стрелки, что к чему. Я мнение свое составил, теперь надо проверить.
Лесков тут же убедился, что «мнение» Сухова было правильно – он хорошо знал, как действует регулятор. И не торопился, повторял в уме показанные ему операции, передвигал рычаги так осторожно, словно мог сломать их поспешным движением: он уважал эти хрупкие и могущественные в своем действии части прибора. Потом Сухов пошел настраивать процесс. И это делал иначе, чем Лесков или Закатов, даже не так, как Алексей. Лесков залюбовался его движениями. Николай словно рисовал картину, а не регулировал мельницу: он, подбегал к ней, вслушивался и всматривался, потом подходил к щиту и передвигал рычаги на миллиметр, на полмиллиметра, касался пальцами, словно мазки клал. И на каждое прикосновение его пальцев механизмы отвечали невидным глазу изменением подачи руды, мельница – неслышным уху изменением шума. Пораженный Лесков видел, что Николай уходит за признанную границу; та самая заветная область – «лезвие ножа» – была у него дальше, они, оказывается, не достигали ее. Мельница работала тяжело, на низком, рычащем басе, гигантские массы песков вздымались из классификатора – мощный, уверенный ход, ровный ход, подлинный максимум был и в этом глухом грохоте мельницы и в песках, что наполняли ее, не забивая, – нужно было удивительно знать процесс, удивительно владеть им, чтобы так его вести.
Николай глядел то на прибор, то на собравшихся возле людей. Он наслаждался своим успехом, теперь все видели его мастерство.
– Толкуй, дядя Федя! – сказал он строптиво: он заканчивал давно начатый спор. – Теперь она, точно, автоматика, когда я ею командую!
Дядя Федя отозвался с уважением:
– Как тебе сказать, Николай? Невредно – одно слово!
Но Николаю не хватало еще одной похвалы его искусству. Он повернулся к Лескову, он улыбался:
– Ну как, начальник, берешь меня взамен своих инженеров? Хороши у тебя помощники, да вот с мельницей не справляются.
Лесков засмеялся и с силой ударил Сухова по плечу – недавний противник превратился в друга.
– Взамен не возьму, зачем – мои инженеры в другом месте понадобятся. А здесь ты первый командир, спорить не буду.
В этот день он не отходил от мельницы – его и появившегося позже Закатова поражал необыкновенный процесс. Когда Лесков наконец ушел, на него в дверях налетела грудью Маша. Он прижал ее к себе, чтоб она не упала. Она не спешила оторваться – он сам оттолкнул ее.
– Простите, я не ушибла вас, Александр Яковлевич? – спросила она радостно. – Я ведь ну просто бомба!
Он ответил, улыбаясь:
– Ну что вы, Маша! А куда вы спешите?
Он с удивлением смотрел на нее. Маша неузнаваемо преобразилась. Она сбросила свою грязную мужскую спецовку, умылась и переоделась. Перед ним стояла невысокая девушка с крепкой и стройной фигурой, в цветастом шелковом платье: – вовсе не девчонка, какой она казалась в цеху. Столкновение взбудоражило ее, она раскраснелась. Поймав взгляд Лескова, Маша сконфуженно рассмеялась; впервые Лесков посмотрел на нее, как полагается мужчине; раньше он разглядывал ее равнодушно, как вещь. Она пояснила:
– Я сумочку забыла на столике у щита.
Он сделал движение уйти, она поспешно воскликнула:
– Вы в город? Подождите меня, я тоже туда!
Он сказал, досадуя, что придется идти не одному:
– Минуту подожду, не больше.
Она крикнула, уносясь вихрем:
– Меньше минуты, вот увидите!
Она и вправду возвратилась быстро. Лесков продолжал удивляться: сбросив спецовку, Маша словно и характер свой оставила в цеху. Она шла рядом с Лесковым непринужденно, весело болтала – ей, очевидно, прогулки с мужчинами были не в новинку. И разговор ее был иной: она не задавала наивных вопросов, не глядела широко раскрытыми глазами, какими в цехе всматривалась в приборы. Лесков ожидал, что будет стеснение оттого, что она идет рядом, он сердился на глупую прогулку. Но стеснения не было, рядом с ним бодро шагала, стараясь попасть в его шаг, женщина, как все другие, к тому же разговорчивая и смешливая. На уклоне он взял Машу под руку, она прижалась к нему. Так они и шли: ему было неудобно отнять руку. Скоро Лескову стала нравиться эта прогулка. Они вышли в пустое время – дневная смена ушла, час служащих еще не наступил, – на дороге им никто не встречался.
– Знаете, я вас боялась вначале, просто ужасно, вы не поверите! – болтала она. – Вы такой невероятный!
– Почему невероятный?
Невероятный! Вы нигде не бываете – ни в клубе, на в кино. Девушки на вас обижаются.
– По-моему, я никого не обижал.
– Ну прямо! Ни на одну не смотрите – разве не обида?
– Характер такой – люблю одиночество.
– Значит, характер обидный. Нет, правда, вам не скучно всегда одному? Я бы умерла, если бы мне всю жизнь только с собой. Что вы делаете, когда вы один?
– Думаю.
– Ужас – столько думать! Откуда так много мыслей взять? А на воскресную экскурсию вы поедете? У нас много с фабрики будет, с медеплавильного тоже.
– На экскурсию поеду.
– И никого не пригласите? Так один и поедете?
Лесков вспомнил, что еще недавно носился с мыслью пригласить на экскурсию Надю. Он проговорил грубо:
– Вас приглашаю – пойдете?
Маша не обратила внимания на невежливый тон приглашения. Она прижалась к Лескову еще тесней, сказала благодарно и радостно:
– Конечно, пойду, обязательно!
Они подошли к стоянке автобуса. Лесков извинился – ему нужно идти в лабораторию. Он уточнил приглашение:
– Встретимся на месте, Маша, в машине. Она проговорила с сожалением:
– Ах, как жалко, что вы на работу: можно бы в кино сходить, пока народу немного!
20Селиков про себя не раз определял состояние, в котором находился, грустной и выразительной формулой: «Попал в непонятное». Его не отвергали, не высмеивали – только терпели. Селиков растерялся: все испытанные методы обращения с женщинами вдруг отказали. Он на людях тихонько жал Наде руку, она не вспыхивала, как следовало бы, но снисходительно улыбалась и отнимала руку. Селиков победно встряхивал кудрями, она советовала: «Сережа, почему вы не подстрижетесь, зачем вам столько волос?» Провожая домой, он пытался поцеловать ее, она не в шутку сердилась: «Перестаньте, Сережа, я этого не люблю!» Посылая ее мысленно к черту, он решал не замечать ее, но больше, чем на день, выдержки не хватало – Надя при встрече так дружески улыбалась, что он мгновенно таял и забывал о всех неудачах.
Закатову в минуты откровенности – Селиков и раньше делился со своим начальником сердечными делами – он мрачно сказал:
– Черт знает, кто из нас мужик, кто баба. Если судить по одежде, мужчина я, а если по поведению – так она. Удивительно ловко увиливает от прямого ответа! Поверите: до сих пор ничего не добился.
Закатов имел обширные теоретические познания в проблемах любви. Он рассудительно заметил:
– А может, кто-то ножку тебе подставляет, Сережа? Как в смысле соперника? Не поверю, чтобы у свободной девушки твои кудри не котировались!
Селиков промолчал. У него были неясные подозрения. Он несколько раз перехватывал взгляд Нади, бросаемый на Лескова, но признаться, что кто-то, не стараясь особенно, добился у Нади большего успеха, он не мог.
Закатов, увлекаясь, развивал вариант за вариантом:
– Возможно, впрочем, что кокетничает. Есть такая форма завлекания – отталкивать. Безошибочное средство. Требует только терпения и крепких нервов.
Селиков отверг и этот вариант:
– Скажете тоже – кокетничанье! На кого другого, а на Надю это не похоже.
Закатов окончательно остановился на том, что виноват во всем сам Селиков.
– Неправильный у тебя подход, Сережа. Обветшалые методы: пустая болтовня ни о чем, дешевые комплименты, одни и те же прогулки под ручку. Все это, знаешь, безошибочно действовало до пара и электричества. Сейчас даже малообразованные девушки интересуются не только платьями и прическами… Не уважаешь ты ее диплома, Сережа.
Селиков обозлился.
– Что же, прикажете креститься на ее диплом?
Закатов разъяснил:
– Креститься не следует, а учитывать нужно. Умно поговори с ней, увлеки высокой мыслью – вот настоящий метод.
Селиков запомнил. Он не только запомнил, но и вспомнил. Он видел теперь собственные промахи и оплошности. Нет, он с самого начала повел себя неудачно – легкое ухаживание не выходило, нужно было прямо рубануть: «Жить без вас не могу!» А как это сделать теперь, после стольких встреч, пустого смеха и зубоскальства, легкомысленной болтовни? Ну, и проклятая эта штука, настоящая любовь, выдернуть бы ее с корнем, как больной зуб, насколько стало бы проще!
Селиков надумал откровенно объясниться с Надей. Нужно было побыть с ней часок наедине. Почему-то и этого не получалось – на фабрике не до разговоров, после работы то у Нади не было времени, то Катя, вредный человек, мешала. И встретив как-то Надю, одну в фойе фабричного клуба, Селиков от неожиданности растерялся.
Надя пришла на доклад профессора Шрамова о новых веяниях в организации производства. До начала лекции оставалось много времени. Надя присела у столика, перелистывая журналы. Селиков задержался в дверях. Надя приветливо ему улыбнулась.
– Входите, Сережа. Вы тоже на лекцию?
Он сразу бухнул:
– К вам, Надя.
Она удивилась.
– Ко мне? Мы ведь только что виделись в цеху!
Он уже обрел обычную самоуверенность.
– Виделись, да не так. Надеюсь, не будете возражать, если посижу около вас на диване? Не стесню?
Она поспешно сказала:
– Конечно, садитесь! Что вы сегодня такой церемонный – на вас вовсе не похоже!
– Ничего особенного, – возразил он. – Замучился с регуляторами, в последние дни у нас ни днем, ни ночью нет покоя…
– По-моему, у вас всегда так, беспокойная профессия, – заметила Надя. – Сейчас впрочем, дела пошли лучше, не правда ли?
Селиков, несмотря на внушения Закатова, не считал, однако, что автоматика годится для разговора с девушками. Он сказал:
– Знаете, что мне от вас надо, Надя? Хочу пригласить на завтрашнюю экскурсию.
Она с сожалением покачала головой.
– Ничего не получится, Сережа. Масса дел дома. Даже в кино никак не выберусь. – Он насупился, она ласково коснулась его руки. – Не сердитесь, честное слово, правда!
Он отозвался со вздохом:
– Что-то теперь у вас одна правда: не хочу, не могу, не сумею. Все начинается на «не». Я больше люблю правду, которая начинается с «да»: да, пойду, да, согласна, да, свободна.
Она рассмеялась:
– Ну, это неинтересно – во всем соглашаться.
– Конечно, дразнить интересней, – продолжал он с досадой. – Между прочим, раньше вы были не такая неприкасаемая – тоже словечко на «не». И гуляли мы с вами, и в кино ходили, и болтали.
– Раньше и вы были другой. Ну… не такой настойчивый, что ли. Сейчас я вас побаиваюсь, правда.
Он презрительно покривился:
– Бросьте, Надя. Я не такой дурак, чтобы поверить. С вами не то, что я, тигр превратится в теленка – умеете ставить людей на место. Просто вас не устраивает, что я вам неровня.
Надя удивилась:
– Как это – неровня? Я не понимаю вас, Сережа.
Он сказал сердито:
– А так. Обыкновенное неравенство: вы инженер, я техник.
Она возмутилась:
– Ну, что вы, Сережа! Какое это имеет значение в наше время? Странно вы понимаете равноправие людей.
– Не я, а вы, – ответил Селиков сумрачно. – То есть не вы, в частности, а вообще все женщины. Вот уж народ – никакого равноправия не признает, хотя говорит о нем часто. Нет, не смейтесь, я берусь это доказать.
Надя была заинтересована. Еще ни разу у них не завязывалось такого странного разговора. Она сказала, улыбаясь:
– Неужели вы будете отрицать, что нередки браки между инженерами, даже профессорами, и простыми, малообразованными людьми? С вашей теорией это плохо вяжется.
Воодушевленный ее вниманием, Селиков пустился в разглагольствования, которых обычно избегал, предпочитая слову дело. Все отлично вяжется. Подобные браки встречаются сплошь и рядом, только при одном условии: если ваш инженер или профессор мужчина, а простой, малообразованный человек – женщина. Мужчина охотно примирится с тем, что жена ниже его по образованию и умственному развитию. Он не возражает, если она подымется и выше его на ступень, он будет гордиться такой женой. А вот женщина против этого возражает. Она признает один шаблон – мужчина или равен ей умственно, или выше нее. Такая штука ее устраивает. Сколько их, этих профессоров, у которых жены в домашних работницах ходят! А что-то не слышно о женщине-профессоре, у которой муж в домашнее хозяйство определен. Равенство! Теперь любая десятиклассница нос воротит, когда у парня выше семи классов душа не поднялась, или вообще судьба устроила ему подножку на тропке образования. В этом животрепещущем вопросе женщины – безжалостные и высокомерные педанты, никаких снисхождений они не признают. Что, разве не так?
– Не совсем, – ответила Надя с живостью. – Вы страшно все преувеличиваете. Между прочим, знаете, какой я вывод сделала из вашего рассуждения? Горжусь тем, что я женщина, а не мужчина!
Он озадаченно пробормотал:
– Это еще почему?
Она засмеялась.
– А потому! По вашей теории, женщина – истинный двигатель человеческого прогресса. Сами вы говорите, что ваш брат, мужчина, примиряется со всем, а женщина неустанно вас же подталкивает – будьте лучше, будьте умнее, будьте развитее! В первый раз слышу от мужчины такое честное признание заслуг женщины.
Селиков уже жалел, что залез в дебри. Он поднялся и грубовато сказал:
– Ладно, Надя, вас не переспорить. Извините, мне надо в цех.
Надя тоже поднялась.
– Мы еще поспорим, Сережа. А пока я хочу доказать, что дело не в мнимом нашем неравенстве. Я поеду с вами на экскурсию.
Он удалился довольный, разговор сошел благополучно – Закатов, выходит, кругом был прав. Надя тоже была довольна. Она улыбалась, вспоминая парадоксальные суждения Селикова.
В этот вечер у Нади состоялась еще одна важная беседа. Она пробралась в зале к Лубянскому и дружески взяла его под руку. Лубянский был безмерно удивлен – если бы Надя без видимой причины обругала его, он счел бы это более естественным. После минутного дружеского разговора он успокоился. Любезно улыбаясь, он закивал головой:
– Конечно, конечно, Надежда Осиповна! Можете не сомневаться!
21Пустыхин обещание свое сдержал и в один из воскресных дней устроил экскурсию в лес. По масштабу приведенных в действие материальных ресурсов она скорее напоминала генеральное наступление на природу, чем скромную вылазку за город. Дня за четыре до похода Пустыхин обнародовал свою программу: «Истинное слияние с природой требует хорошей организации – оно немыслимо без передвижного буфета, двух бочек пива и духового оркестра». Программа была осуществлена с блеском – экскурсию занесли в план массовых мероприятий, черноборский пищеторг выделил фургон и продукты, Крутилин согласился оплатить музыкантов, три грузовика для переброски отдыхающих на лесные полянки выпросили у него же и у Савчука. Пустыхин решительно провел в жизнь самый трудный раздел программы – ранний выезд за город, чтоб восход солнца встретить в лесу. В пять утра гудки грузовиков разорвали сонную тишину города, в половине шестого битком набитые машины покатили по лесной дороге. Чтобы поднять настроение у экскурсантов, а также повеселить, – он говорил «побесить» – мирных жителей, Пустыхин затянул песню, и тихие улицы наполнились смехом и дружным громом плясового мотива. Испуганные горожане в одном белье лезли на подоконники, а псы исходили яростью за воротами домов.
– А ну еще! А ну, чтоб стекла дрожали! – командовал Пустыхин своим неслаженным, но готовым на все хором и успокоился только тогда, когда по сторонам потянулись лиственницы и ели.
Одним из поставленных Пустыхиным условий было – являться парами, «чтобы не было дефицита в нежных взглядах». Он спросил Лескова:
– Как у вас, Александр Яковлевич, с этим пунктом? Лесков ответил, стараясь не смотреть ему в глаза:
– Пригласил одну, зовут Маша.
Пустыхин одобрил:
– Имя хорошее, это очень важно. Представляете, если бы вашу подругу звали Элпедифора? Как с такой обращаться?
В назначенное время Маша, сонная и дрожащая, в легком платье, ходила по улице вместе с другими экскурсантами. Лесков пришел за минуту до появления машины и помог Маше взобраться в кузов. Она радостно схватила его под руку и тут же прижалась к нему, сказав: «Ах, очень холодно!» Когда машина понеслась сквозь лес, Маша положила голову Лескову на плечо – так было теплее. Он старался отодвинуться: не следовало перед другими показывать близости, тем более, что близости не было. Никто, впрочем, не смотрел на него, все были заняты своим. На второй машине Лесков заметил Надю; она стояла к нему спиной, рядом с Селиковым и Лубянским. Верный Бачулин, ни на шаг не отступавший от Лескова, пробормотал:
– А я думал, Саня…
Он не досказал, что думал, но Лесков понимал и так: Бачулин удивился, что рядом с ним Маша. Впрочем, Маша ему понравилась, он так и сказал с одобрением на ухо Лескову:
– А знаешь, она собой очень ничего.
Машины вырвались из города и покатили навстречу утру. Сонный лес постепенно поднимался по обеим сторонам дороги. Сперва это были пни; дурная трава, мертвые березки, похожие на ноги рахитика, спутанные кусты ольхи – все темными тенями проносилось мимо. Это была область сернистого газа, поле отчаянной битвы между неотвратимо оседавшей кислотой и побежденным, приникшим к земле лесом. Машины мчались сквозь это пепелище сраженного лесного народа, как по темному кладбищу. А затем в лесу стала разгораться заря и вместе с зарей оживал и сам лес: уже не жалкая трава, не пни, не мертвые стволы, но высокие лиственницы, стройные ели, крепкие березы, ольха и тальник распространялись кругом, взбирались на холмы, сгущались в долинах. На машинах само собой установилось полное восторга молчание – великое древнее торжество совершилось в лесу, нарядный праздник утренней зари: в том месте, куда неслись машины, стало светлеть, словно от далекого пожара в неясном свету выступили вдруг отдельные лиственницы – дальние виднелись лучше, чем темные ближние. Это не было сияние – венцом золотые лучи, – скорее светящийся туман; он, словно дым от огня, исходил от невидимой точки за холмами, и нарастал, и расширялся, и становился ярче и глубже. А потом этот светящийся туман пронизало золотом и кровью, лес вспыхнул ярчайшими красками осени – лимонно-желтые лиственницы соседствовали с багрово-красными березами, бурая ольха перемежалась синеватыми елями. Метнулся ветер, и сонный лес ожил, и забормотал, и зашелестел, и протягивал ветви навстречу торопившемуся в мир солнцу. И снова была тишина и пышное торжество красок, словно все в лесу с молчаливым нетерпением ожидало приближающееся великое событие. Оно совершилось в секунды – над холмом показался красный, неправдоподобно большой блин и покатился вверх от земли, на верхушки лиственниц; глаз смотрел на него, не моргая. И в ответ на явление солнца лес снова зашумел, закачался верхушками и ветвями, зазвенел ожившими птичьими голосами. А с машин неслись крики, махали руками, взлетали в воздух шапки. Солнце все поднималось, из красного становилось золотым, уменьшалось, делалось ярким и горячим. И опять все в лесу менялось, рождалось заново и оборачивалось иным – сияние между деревьями пропадало, они смыкались, становились тесней и темней, одна зубчатая стена простиралась под солнцем, качаясь, шумя, попискивая и вереща.
– Нет, это прелесть! Саня! – кричал Бачулин, тряся Лескова. – Записываюсь в солнцепоклонники; не знаешь, где здесь дежурное отделение секты?
– На березовой полянке, – со смехом отвечал Лесков, – у мшистого пня с боровиками, а записывает дятел – секретарь-референт. Расписываться собственной кровью на бересте и скреплять печатью у паука-крестовика!
Он чувствовал себя так, словно выпил пьяного вина. Все в нем ликовало и пело, и рвалось наружу криком, взмахами рук. Он схватил Машу за плечи, чуть не поцеловал при всех, а она вся потянулась к нему. «Дурак! Дурак! – подумал Лесков. – Третий десяток доживаешь, а настоящего восхода солнца не видел. Из-за крыши пятиэтажного дома выглянет, ты говоришь: „Ну, встало солнышко!“ А оно вон какое! Нет, очень хорошо, просто великолепно!» – все снова твердил он, словно не солнце встало, а с ним, Лесковым, случилось большое и неожиданное счастье.
А затем в просвете леса сверкнул холодной прозрачностью простор – неширокая река извивалась в крутых берегах. Машины затормозили на обрыве – и люди посыпались в траву. Лесков видел, как Лубянский и Селиков разом протянули руки, и Надя, смеясь, спрыгнула вниз. «Когда это Лубянский начал приударять за ней? Они всегда ссорились!» – с неприязнью подумал Лесков и повернулся к Маше – она склонилась над бортом, ожидая его помощи.
– Все на песок! – командовал Пустыхин. – Коллективное омовение в речке! Разрешается купаться и сталкивать соседей в воду!
Все, хватаясь за кусты, поползли с обрыва. Лесков не то сам прыгнул, не то покатился по глинистому обнажению. И сейчас же на него свалился гогочущий Бачулин, а на них с визгом упала Маша. Бачулин был искренним доброжелателем Лескова, но, поднимая Машу, не удержался, тиснул ее; она весело шлепнула его, по спине. Пример Лескова пошел в науку – все один за другим катились по обрыву на песок. Новыми криками встретили прыжок Селикова в воду. «Не заплывать, – сердито кричал ему Пустыхин. – Течение зверское, не вытянешь!» У Лескова заныло тело от желания кинуться в реку. Он попробовал воду рукой – вода была холодная, градусов одиннадцать. У берега Надя махала платком проплывавшему мимо нее Селикову. Лескову показалось, что она с насмешкой поглядела на него; он сразу остановился. Бачулин облапил его и оттащил от берега.
– До водки не разрешу! – объявил он категорически. – И не проси, Саня. Юлия наказывала охранять тебя. Разожги в животе огонь, тогда хоть к черту на рога. Простудная бацилла спирта не терпит, точно!
Селиков выскочил из воды и под общий хохот встряхивался как собака, – во все стороны летели брызги.
– Чудная штука, – хвастливо объявил он, натягивая брюки. – Рекомендую каждому!
Последователей у него, однако, не оказалось. Пустыхин предложил сделать зарядку, пока приедет запоздавший грузовик со «съестным и пивным». Зарядка вышла длинной, за ней последовали игры; обещанный грузовик все не появлялся. В компании оказалось два мяча, на краю пляжа завязалась игра в волейбол, на широкой середине – футбольное состязание. Импровизированные команды количеством игроков не стеснялись – восемнадцать футболистов лихо атаковали два камня – неприятельские ворота, защищаемые восемью игроками. Была ли забита «штука» или нет, никто не видел: после первой же хорошей подачи мяч полетел в реку и, уносимый течением, быстро скрылся из глаз.
Бачулин, не находивший себе места, когда начались игры, требовавшие бега и прыжков, приплелся к Пустыхину и пожаловался:
– Петя, зубы чешутся – пожевать бы колбаски. Душа пива требует. Войди в положение.
Пустыхин пожал плечами.
– А что я могу, Василий? Современный человек теряет три четверти своих способностей, когда нет телефона под руками. Одно могу посоветовать – держи себя вроде наших предков, они к природе были приспособлены: разожги костер, попляши у огня.
– На пустой желудок? – возмутился Бачулин. – Последнюю крошку совести затерял, Петя. Нет, серьезно, от имени голодающей массы взываю. Трагедия, пойми: солнце печет, а в животе мрак и холод. Пошли навстречу грузовик «скорой помощи».
Просьба Бачулина оказала свое действие на Пустыхина. Он поднял по тревоге отдыхающих на пляже шоферов, и через минуту одна машина, обнадеживающе зарычав, помчалась обратно к городу. Прошло, однако, еще с час, пока из лесу выплыл красный пищеторговский фургон, эскортируемый грузовиком «скорой помощи». Раздевшийся до пояса Бачулин с криком «Едут! Едут!» кинулся к фургону, чтобы быть первым в очереди.
– Ты не ходи, Саня! – увлеченно крикнул он. – Я возьму на всех. Подай мне ведерко, что захватили из дому.
Лесков перебросил ему ведро и деньги и уселся с Машей на песке. К ним примостился Закатов. Бачулин застрял у фургона. На каждого человека, честно стоявшего в хвосте, приходилось десять безочередных, и они, согласно обычаю, получали в первую очередь. Бачулин ругался и отпихивал наседающих. Занятый этим, он все не успевал получить свою долю. Потом он приковылял к приятелям, величественный, как идол, – на шее висело тройное ожерелье из сосисок, локоть обвивало колбасное кольцо, одна рука тащила ведро, до края полное пивной пены, другая прижимала к груди буханку хлеба и две бутылки портвейна. Еще два человека подсело к компании – пир пошел горой.
Солнце уже прошло полдень, когда гуляющие покончили с едой. День был на редкость хорош для осени. На небе голубовато-серого, северного оттенка не было ни тучки, солнце не скупилось на тепло. Многие, разомлев от особого, пляжного чувства, всегда охватывающего человека около воды, валились на песок и загорали – не столько физически, сколько психологически. Бачулин, единолично выпив бутылку портвейна, вздумал объясняться Маше в любви.







