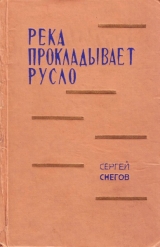
Текст книги "Река прокладывает русло"
Автор книги: Сергей Снегов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
Бачулин, пораженный, читал: «Сочи. До востребования. Шишкиной Людмиле. Предлагаю прекратить вымогательства. Собираюсь ближайшее время устроить личную жизнь заново. Целую бедного Сашу. Шишкин».
– Ну как? – осведомился Пустыхин. – Подействует?
– Как тебе сказать? – замялся Бачулин. – Телеграмма сильная, слов нет, вроде обухом по голове. Да ведь это подлог! И откуда ты знаешь, что он подписывается, «Шишкин», а не «Федор».
– Не подлог, а товарищеская помощь, – возразил Пустыхин. – А если он Федором подписывается, так даже лучше – одно официальное словечко «Шишкин» покажет ей, как серьезно оборачиваются события.
И, выходя из почтового отделения, Пустыхин уверенно сказал:
– Говорю тебе, через неделю она примчится в Черный Бор. Если ошибусь, считай – с меня две бутылки шампанского.
– А если не ошибешься? – на всякий случай осведомился Бачулин, любивший определенность в таких важных делах, как выпивка за чужой счет.
– Тогда шампанское поставит Шишкин, – пообещал Пустыхин.
14Сомнения Юлии наконец закончились, метания оборвались: она придумала, как не расставаться с братом. Лесков подозревал, что сестра что-то вынашивает: она была очень рассеяна последние дни, домой возвращалась поздно. Когда он спросил, где она пропадает, Юлия ответила небрежно:
– Да нигде, Санечка, просто так, гуляю по городу.
– Одна? – удивился брат. Юлия вздохнула:
– А с кем же? Ты знаешь, и здесь, как в Ленинграде, никто мною особенно не интересуется. И потом все вы на работе.
Она не сказала брату о том, что успела познакомиться со всеми городскими библиотеками, побывала в больницах и лабораториях, разговаривала с врачами. Потом она торжественно и радостно объявила Лескову о своем решении. Она не сомневалась, что брат кинется ей на шею, расцелует и поздравит. Лесков ошеломленно уставился на нее. Он до того растерялся, что какую-то минуту не мог найти возражения.
– Ты с ума сошла, Юлька! – воскликнул он, справившись с изумлением. – Это немыслимо!
Юлия обиделась.
– Не понимаю, Саня. Ты работаешь в Черном Бору, почему я не могу? – Она прибегла к самому сильному средству, какое у нее было: – Может, ты просто не хочешь жить со мною? Тогда скажи прямо, и я уеду.
Он нежно обнял ее.
– Не дури, Юлечка, ты знаешь, ближе тебя у меня никого не было и нет. Дело в твоей работе. Я могу жить в любом месте, где трудятся люди и где труд их можно облегчить. Но ты только в своем институте сумеешь довести до конца докторскую диссертацию.
– Вовсе нет! – спорила Юлия. – Санечка, ты меня не слушал. Мне предлагают заведовать самой крупной из ваших клинических лабораторий.
И, рассказав, какое современное оборудование в этой лаборатории, какие умные, приветливые сотрудники, настоящие специалисты будут с ней работать, она закончила с торжеством:
– Выходит, я вовсе не забрасываю свои исследования. Конечно, года на два завершение их оттянется: Черный Бор все-таки не Ленинград, это я понимаю. А куда мне спешить? И потом я вовсе не считаю, что докторская диссертация является священной целью моей жизни.
Но он не мог с нею согласиться. Он выискивал все новые возражения. Он упрекнул ее, что она бросает их ленинградскую квартиру. Квартиры на улице не валяются, разве она этого не знает? Года через три захочется возвратиться в родные места, куда ему тогда толкнуться?
Я возьму бронь на нашу квартиру, тебе тоже достану бронь, – успокаивала его Юлия. – Я узнавала, это можно. Все это несерьезно, Саня.
Он начинал сердиться. В конце концов он просто не хочет, чтобы его сестра погибала на Севере. Он мужчина, ему на всякие там климаты наплевать, а ее подкосит первая же пурга. Пусть Юлия вспомнит, сколько раз она болела ангиной, гриппом, насморком и прочей мелкой пакостью. Здесь мелочами не отделаться, здесь все серьезно: и морозы, и ветры, и болезни – кому-кому, ей здесь достанется.
– Короче, Юлька. – решительно закончил Лесков, – если ты спрашиваешь моего совета, так я решительно против.
Юлия больше не спорила. Она сидела, огорченная, увядшая и жалкая. Лескову до слез хотелось обнять ее и утешить, но он знал, что этого нельзя, она немедленно воспрянет духом и снова примется за свое. Чтоб не вступать в новые споры, он ушел на весь вечер в лабораторию. Утром встать раньше Юлии ему не удалось, он наскоро проглотил стакан чая и удрал. А вечером его перехватил в коридоре Пустыхин. Не слушая нерешительных возражений Лескова, он с гиком и гоготом потащил его в свой номер. Там уже находились заарканенные ранее Павлов и Лубянский.
Василий! – орал Пустыхин на всю гостиницу. – Вручаю задержанных без расписки. За сохранность отвечаешь собственной головешкой. Стань у двери и бей клыками каждого, кто осмелится удирать. Я ухожу на новую охоту.
Бачулин прислонился к двери и зловеще оскалился. Лубянский повалился на диван и хохотал, брыкая ногами. Лесков поинтересовался: что случилось, почему крик? Павлов ответил, что вероятно так надо, раз люди хватают знакомых за шиворот, и снова впал в состояние сосредоточенности – ему было все равно, где размышлять.
Пустыхин появился под ручку с принарядившейся Юлией. Остановись посредине комнаты, он громогласно объявил причину сбора. С сегодняшнего дня он твердо решил идти по новой жизненной тропе и приглашает приятелей следовать за собою. Жаль, Шура нет: ему одному удалось улизнуть.
– Лето в разгаре, дорогие товарищи, а кто из вас загорал? – гремел Пустыхин. – Кто из вас на травке валялся? Теоретической говорне отныне крышка! В ближайшее ясное воскресенье вылазка в лес. Сейчас под моим командованием атакуем клуб. Вопросы будут? Деловые предложения? Предупреждаю, возражения не принимаются, бунт подавлю самыми жестокими мерами.
И, потрясая в воздухе заранее купленными билетами, он свирепо добавил:
– И пусть все знают: Юлия Яковлевна – моя боевая добыча. Кто захочет словечком с ней перемолвиться или в танце пройтись, раньше поваляйся минут пять у меня в ногах!
Его настроение передалось другим. Веселая компания с таким грохотом пронеслась по лестнице, что на всех этажах повыскакивали в коридоры перепуганные жильцы, а Мегера Михайловна весь вечер не могла оправиться от нервного потрясения.
Так Лесков попал в клуб, впервые в Черном Бору… Концерт самодеятельности ему не понравился. Он не любил ни песен, ни плясок, ни шуток. Он вообще ничего не любил и не понимал, кроме своего непосредственного дела: ему казалось странным, что люди теряют драгоценные часы на такое странное занятие, как рассматривание кривляющихся или танцующих актеров. Немного утешило его, что Юлия, сидевшая между Пустыхиным и Павловым, весело смеялась и громче всех хлопала в ладоши.
Важнейшей частью концерта оказались антракты – их было три, и они – каждый до последнего звонка заполнялись смехом, танцами и толкотней. Лесков не умел танцевать, он отошел к окну. Мимо него раза два проходила Надя, промчался Пустыхин, кружа Юлию. Даже Бачулин, топоча ногами, как копытами, проскакал один круг с Катей. Катя бросила его у двери и подлетела к Лескову.
– Слушайте, – сказала она дружески, – можно вас пригласить на вальс? Очень хочется с вами потанцевать.
Он засмеялся.
– Пригласить вы можете, Катя, но я не танцую.
– Ну просто беда! – протянула она капризно. Ни один интересный мужчина не умеет двигать ногам, под музыку, костыли какие-то! Чему вас учили в институте?
Она понеслась дальше и с разбегу влетела в объятия Лубянского. Он пошатнулся, закрутился и так – с маху – ворвался с ней в толкотню танцующих пар.
– Опять приглашения? – спросила он мстительно. – Как вам не надоест – то в кино, то на танцы! А результат один – отказ!
– Не вас же приглашать! – отрезала она. – Вы и так должны за счастье считать, что я ваши приглашения принимаю. И вообще молчите, у вас это лучше получается.
К скучающему Лескову подошел Бачулин.
– Брось, Саня, не жалей, что вечерок потерял, – посоветовал он. – Все равно, хоть всю жизнь ухлопай на размышления, до сути не доберешься.
Лесков презрительно кивнул головой на танцующих.
– В этом ли суть?
– И в этом, а как же? Все же ритм – основа искусства, а к нему лирическая болтовня под музыку и выкаблучивание – нет, очень неплохо. Ты не говори. Душе изредка требуется подобный моральный душ и гимнастика чувств.
– Моей не нужно, – мрачно ответил Лесков. – И никто не требует от нее, чтобы она переменилась.
– Ну, это ты не скажи. Думаешь, я не вижу? Просто ты скрытничаешь очень, Саня, а это с друзьями нехорошо. Тут одна девушка – и собой ничего, просто хорошенькая – глаз с тебя не сводила: куда ты повернешься, туда и она. Везет тебе, Саня, льнут к тебе женщины! И с чего? Вроде ты их не балуешь ухаживанием.
Лесков небрежно показал глазами на Катю.
– Она?
Бачулин возмутился:
– Ну, вот еще! Эта за Лубянским числится, все знают. Постой, куда она девалась? – Бачулин долго присматривался к толпе, потом показал на Надю: – Вот она. Что, не правда?
Злость и ожесточение поднялись в Лескове. Он побледнел и сжал губы. Пораженный Бачулин с удивлением смотрел на него.
– Вздор это! – проговорил Лесков с горечью. – Тебе померещилось, Василий.
– Да нет же! – защищался Бачулин, обиженный, что и сейчас ему не верят. – Что я слепой? Говорю тебе, столько раз поворачивала голову в твою сторону! И как еще смотрела!
– Чепуха! – твердил Лесков. – Не было этого. А если и было, так по-другому смотрела, чем ты вообразил. Не спорь, я лучше знаю. – И, обрывая дальнейшие возражения Бачулина, он предложил: – Пойдем на воздух, от этого шума голова болит.
Бачулин был человек дисциплинированный. Он протолкался к Пустыхину и дернул его за рукав?
– Петя, какие установки насчет дальнейшего? Мы с Саней прогуляться хотим.
– Действуйте, – разрешил Пустыхин. – Уходить по двое. Женщин на прощанье целовать можно.
Сам он не осуществил последнего пункта своей программы. Заспорив с кем-то, он умчался на балкон заканчивать дискуссию и сдал на это время Юлию под надзор Павлова. Павлов сумрачно сидел около Юлии на диване, поджимая ноги, чтобы не мешать танцующим. Юлия уже начала терять надежду, что он заговорит, когда Павлов надумал:
– Еще одно отделение, Юлия Яковлевна, и самое неинтересное. Может, погуляем на воздухе? Вы не видели Черного Бора летней ночью?
Юлия с охотой согласилась. Они оделись и вышли на улицу. Была удивительная ночь, типичная июльская ночь в Заполярье. Незаходящее яркое, но холодное полуночное солнце заливало дома и площади, склоны гор и трубы заводов; все сверкало, пылало и отблескивало красноватым светом. Павлов повел Юлию через скверик, составленный из гипсовых статуй, плакатов, щитов и затейливо украшенных, сейчас закрытых будочек с прохладительными напитками. Единственной зеленью в этом тундровом скверике были газоны со всходами ячменя. На гравии дорожек, изломанные щитами и статуями, лежали те же красноватые солнечные пятна, до того живые, что и Павлов и Юлия обходили их, боясь затоптать. Павлов поднял голову.
– Ни одной тучки, – сказал он. – В умеренном климате ночи облачные, а днем солнце разгоняет тучи. Здесь все наоборот: днем небо пасмурное, а к ночи расходится.
– Как красиво! – воскликнула Юлия. – Никогда не думала, что в мире бывают такие праздничные ночи!
Они вышли на крутой бережок узкого озера, питавшего водой электростанцию, и присели против водокачки. Отсюда были хорошо видны южные горы с шахтами, рудниками, обогатительной фабрикой и поселками. Горы не знали сна, по склонам мчались электропоезда, автомашины, вздымались и опускались стрелы экскаваторов и кранов, вспыхивали голубые звезды электросварок.
– Удивительно хорошо! – сказала Юлия грустно. – Через неделю мне все это придется покинуть. Так не хочется, если бы вы знали!
Павлов поделился своими новостями:
– Я тоже, вероятно, скоро уеду. И знаете, куда? К вам, в Ленинград. Если разрешите, зайду, когда приеду.
– Заходите, – ответила она, думая о своем. – Обязательно заходите.
Павлов пробормотал благодарность. Ему хотелось поговорить подробней об изменениях, намечавшихся в его жизни, но он был связан обещанием Пустыхину и видел, что Юлии не до него.
Юлия проговорила с горечью:
– Не понимаю я людей, самых близких не понимаю. Казалось бы, хотят тебе только хорошего, а делают плохое.
Павлов встрепенулся.
– Вы о ком, Юлия Яковлевна? Надеюсь, я…
Она поспешно успокоила его:
– Нет, нет, Николай Николаевич, вы тут ни при чем. Я о Сане.
Павлов осторожно спросил:
– А что он?
Тогда Юлию прорвало. Она заговорила горячо, несвязно и несдержанно. Еще ни перед кем, даже перед братом, она не раскрывалась так, как перед этим малознакомым, хмурым и необщительным человеком. Вся ее жизнь вдруг встала перед ней, и Юлия печалилась, что жизнь эта так неудачна. Ей уже казалось, что радость ни разу не озаряла эту нелепую удивительно ненужную жизнь, она так прямо и сказала – «никому не нужную, ни мне, ни другим», и тут же оборвала несмелые протесты Павлова. Одно было у нее настоящее утешение, один друг – брат, теперь вот приходится по его желанию и с братом навсегда расставаться.
Павлов с сочувствием слушал Юлию. Он сказал:
– Неужели Александр Яковлевич может быть таким жестоким? Он ведь знает, как вы его любите.
Юлия уже остывала после вспышки.
– Все он знает, – сказала она устало. – Ему кажется, что я без научной работы не проживу, и не верит, что я сумею ее здесь продолжить. Ах, все это так запутано! Давайте о другом, Николай Николаевич, о более веселом. Смотрите, еще нет двух часов ночи, а солнце поднимается, было красное, а превращается в золотое.
Но Павлов не мог думать ни о чем другом. Он рассеянно глядел на поднимающееся солнце и был равнодушен к тому, что, красное, оно превращается в золотое. Юлия встала и пошла по бережку назад. Павлов поплелся за нею. Она оборачивалась, ее тонкое печальное лицо, озаренное ночным солнцем, светилось золотистым сиянием. Павлов вдруг решительно сказал:
– Юлия Яковлевна, разрешите, я поговорю с вашим братом.
Юлия остановилась, удивленная.
– Вы, Николай Николаевич? Что же вы ему скажете?
Павлов продолжал, волнуясь. Все! Все, что надо сказать, он скажет, не постесняется. И если Александр Яковлевич не изменит своего отношения к сестре, то значит у него нет сердца, другой вывод невозможен. Нет, нет, пусть Юлия Яковлевна не сомневается, он, Павлов, грубить не станет, для этого он слишком уважает и ее и самого Александра Яковлевича. Хотя, если по всей правде, тот в данном случае поступает по-свински, иного выражения не подберешь.
Обрадованная Юлия протянула Павлову руку.
– Поговорите, Николай Николаевич, я буду очень, очень благодарна. Может быть, Саня уступит, он ведь уважает и ценит вас, он сам мне не раз это говорил.
15Теперь Павлов мог думать только о предстоящем трудном разговоре. С мыслью о нем он уснул, с мыслью о нем проснулся. Он разговаривал с собою – за себя и за Лескова. Он спорил, нападал, защищал и опровергал. Он перебрал сто вариантов предстоящей жестокой дискуссии, они все кончались его победой – Лесков, растроганный, признавал свою неправоту. Даже проверяя на логарифмической линейке расчеты технологической записки, механически внося в нее исправления, Павлов думал не о ней, а о Юлии и ее брате. В этом состоянии его застал влетевший в отдел Пустыхин.
– Николай Николаевич, немедленно сюда! – закричал он, как на пожаре. – Да торопитесь, живой труп, – одна нога здесь, другая там!
В коридоре Пустыхин ошеломил Павлова давно ожидаемым известием:
– Ваш перевод утвержден. Приказ министерства передан по телеграфу. Укладывайте барахлишко. Лететь не позже конца недели.
Павлов не сразу взвесил все значение этой новости. Он забыл поблагодарить Пустыхина. Пустыхин нетерпеливо воскликнул:
– Да что с вами, Николай Николаевич? Вы что, не понимаете? Перевод утвержден!
– Я понимаю, – ответил Павлов наконец. – Надо ехать. Я очень рад.
– А если рады, – возразил Пустыхин ворчливо, – так радуйтесь пояснее, чтобы у ваших собеседников не создавалось впечатления, будто вы вот-вот заплачете. Над чем вы, кстати, так горестно размышляете?
Павлов не нашел лучшего ответа:
– Да вот… Кому сдавать дела? Расчеты по схеме не закончены.
Пустыхин пренебрежительно махнул рукой.
– Ерунда! Это не вашего ума горе. Начальство найдет, кому заканчивать расчеты. Думайте о другом – что будете делать в Ленинграде. Поверьте, это важнее! Идемте!
Он потянул Павлова в его комнату, сам уселся за его стол, Павлова усадил сбоку. Вытащив из папки чертеж и не глядя, нужен он или нет, Пустыхин стал набрасывать на оборотной стороне свои соображения, задания и вопросы. И уже через несколько минут Павлов забыл обо всем другом, внимательно слушал, быстро соображал, обгонял Пустыхина, перебивал его. Павлов мгновенно менялся, как только переступал порог, отделявший обычную жизнь от его специальных интересов. Насколько в том, житейском мире Павлов был неповоротлив, косноязычен и тугодумен, настолько в этом своем специальном мирке он был проницателен, решителен и точен. Пустыхин в первый же вечер знакомства с Павловым открыл и оценил это его качество, он дополнил его собственной своей энергией, широтой кругозора и смелостью; вместе они составляли неплохое целое, Пустыхин ощущал это с удовольствием.
Пустыхин оборвал себя на половине обсуждаемой программы действий, бросил карандаш и вскочил.
– На сегодня хватит. Подработайте эту часть задания. Завтра посмотрим, что получается, и продвинемся дальше. И помните, Николай Николаевич, все ученые – от природы кустари, при всех своих самых глубоких изысканиях. Вы не лучше других: и вас настоящий масштаб пугает. А современное производство немыслимо без масштабов. К начальству пока не ходите, я сам поговорю.
Он умчался, а Павлов, отставив в сторону теперь уже ненужную текущую работу, погрузился головой и сердцем в новые расчеты. Так продолжалось до шести часов, а в шесть он очнулся и перепугался: рабочий день кончался, все расходились. Вероятно, и Лесков собирается уходить из своей лаборатории, а он, Павлов, даже не предупредил, что хочет с ним поговорить. Павлов схватился за трубку и сразу напал на Лескова.
– Саня, – сказал Павлов. – Разреши мне пойти с тобой вместе. Надо кое-что обсудить.
Они условились встретиться на улице.
При виде унылого Павлова Лесков встревожился.
– Что с тобой? – спросил он. – Технологическая записка не утверждена?
– С запиской все в порядке, – ответил Павлов. – Я ею больше не занимаюсь. Меня перебрасывают на другую работу. Буду трудиться в твоей бывшей ленинградской конторе, у Пустыхина. И знаешь, над чем? Над автоклавами для переработки руд. На той неделе уезжать.
Лесков, как незадолго перед тем Пустыхин, возмутился:
– Так какого же шута у тебя погребальный вид? Человек плясать должен, а он повесил нос! Вот уж не думал, что ты способен огорчаться от успеха.
– Да я не огорчаюсь, – оправдывался Павлов. – Я страшно рад. Только я не об этом хотел с тобой…
– О чем же?
– О тебе, Саня.
Лесков удивился.
– Обо мне! Это новость. До сих пор ты даже толком не удосужился выслушать, чем я по-настоящему занимаюсь. Давай посидим на скамейке. Итак, в чем же дело?
Они проходили через скверик, где ночью Павлов гулял с Юлией. Вместо пятен вчерашнего красного солнца на гравии лежали лужи: с утра лил дождь, только к вечеру он прекратился. Несмотря на июль было пронзительно сыро и холодно, как в позднюю осень. Павлов распахнул пальто, снял шляпу: его томил внутренний жар.
– Прости, что вторгаюсь в твою личную жизнь, – сказал Павлов сумрачно. – Если что-нибудь не так, ты меня прерви… Юлия Яковлевна уезжает, Саня.
– Уезжает, – подтвердил Лесков. – Через несколько дней. – Он тронул приятеля за рукав. – Слушай, может, вы вместе поедете? Вот было бы для нее чудесно – такой попутчик!
Но до Павлова не дошло предложение Лескова. Он, как всегда, погрузился в свои думы.
– Если она уедет, значит, вы навсегда расстанетесь… Тебе это все равно, Саня. А Юлии Яковлевне трудно. Она только тобой живет, Саня.
Он говорил так серьезно и грустно, словно заранее старался оправдать Лескова, и теперь сообщал окончательный вывод из долгих размышлений – нет, оправдания быть не может. Лесков был уязвлен. Разговор был неожидан и нелеп. Лесков ответил сухо, стараясь пока не показывать, как его возмущает эта беседа:
– Ну, знаешь, Николай, и с матерями расстаются, не только с сестрами. Моя жизнь не цепями к ней прикована.
Он поспешно добавил, почувствовав, что так о Юлии говорить нельзя:
– И пойми, чудак, для нее же это лучше, настоящая ее жизнь в работе. Я-то знаю, что значит для нее наука. Она тоскует без меня, но без своей лаборатории будет тосковать еще больше. Эти ее планы о продолжении начатых исследований в Черном Бору – химеры, неужели тебе не ясно?
Но Павлов упрямо и печально твердил одно и то же:
– Нет, не говори, перед сестрой ты неправ. Ты о ней не заботишься.
Лесков не сдержал злости. Павлов знал Юлию без году неделю, был человек во всех отношениях посторонний, а сейчас читал Лескову нотации, словно имел на это право. Лесков грубо крикнул, стараясь больнее уязвить Павлова:
– Да тебе-то какое дело, в конце концов? Вот женись на Юлии и заботься о ней, если тебя огорчает, что она остается одна!
Он проговорил это сгоряча, не думая о содержании слов, чтобы только сразу оборвать раздражавший его спор. – Бледный и хмурый, Павлов вдруг стал красным и взволнованным. В его сумрачных глазах появились смятение и растерянность.
– Саня, – сказал он тихо и умоляюще. – Нет, только правду, ты пошутил?
А Лесков неожиданно увидел то, на что он недавно втайне надеялся и что потом показалось ему неосуществимым, – Павлов любил Юлию. Правда, он этого не сказал, но Лескову не нужны были признания, он чувствовал это. И с горячей радостью Лесков припомнил, как и Юлия и он были огорчены невниманием Павлова, как и Юлия совсем упала духом после запоздалой попытки понравиться. Ничего Лесков теперь не желал, как того, чтобы все это оказалось правдой – то, что ему представилось. Все слилось в этом нетерпеливом ожидании: и его любовь к Юлии, и понимание того, что она в самом деле одинока, и сознание своей вины перед ней, и дружеское отношение к Павлову. Лесков ответил горячо и убежденно:
– Разве можно так шутить о Юлии? Если хочешь знать, лучше ее никого не может быть. Я вполне серьезно.
Павлов взволнованно заговорил. Да, это правильно, Юлия Яковлевна хорошая, она, точно, самая лучшая из всех женщин, какие ему встречались. Он давно решил, Юлия Яковлевна была бы чудесной женой. Но он не может закрывать глаза на печальный факт. Она его не любит. Она равнодушна к нему.
Лесков прервал его:
– Да откуда ты знаешь? Ты ведь не спрашивал ее прямо?
Нет, он прямо ничего не спрашивал. Он исходит из того, что Юлия Яковлевна ни на одного мужчину не смотрит. Она пренебрегает всякими ухаживаниями. В конце концов, он, Павлов, хуже любого мужчины: некрасив, немолод, язык у него плохо подвешен. За что любить такого человека?? Может ли он составить ее счастье?
– Да ты спроси ее! – настаивал Лесков. – И что до счастья, – уверен, только ты и можешь сделать ее счастливой. Нет, нет, не спорь, твердо это знаю! – Ему явилась великолепная мысль, все неясности можно было мгновенно разрешить. – Хочешь, я сам поговорю, с Юлией? И, чтоб не откладывать, сейчас же.
Павлов глядел на него округленными, испуганными глазами. Он спросил тихо и страдающе:
– Санечка, как друга… Советуешь прямо?
Лесков ответил решительно:
– Советую. От души!
Павлов глубоко вздохнул. Глаза его потухли, лицо сжалось. Он был похож на человека, собирающегося в трудный путь. Он машинально застегнул пальто, потом сказал, стараясь говорить спокойно:
– Не надо, Саня… Я сам. Пойдем, Саня.







