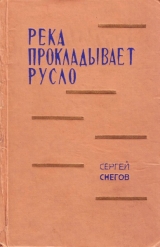
Текст книги "Река прокладывает русло"
Автор книги: Сергей Снегов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
– Нет, ты не серчай, Саня! – говорил он весело. – А вкус твой хорош, особенно, знаешь, это носик, цветочки на платье и прочее. Прямо тебе скажу: одобряю!
Маша хохотала.
– Одни цветочки хороши? – подзадоривала она Бачулина. – Больше ничего?
– Я же сказал: прочее! – шутил Бачулин. – Прочее – самое лучшее!
К ним подошел Пустыхин, сгибавшийся под тяжестью аккордеона.
– Горька участь популярного музыканта, – вздохнул он. – Таскайся теперь с этим переносным роялем. Не пугайтесь, мучить ваш слух не буду, это Сережин. Он цветочки в кустах собирает со своей девушкой, а мне поручил охрану музыкальной техники.
Пустыхин тоже был навеселе. Он завязал ученый спор с Закатовым. По пляжу ходили девушки в венках из розового кипрея и красных березовых листьев. Кое-где заводили хороводы и играли в кошку и мышку.
– Пойдемте за цветами, – попросила Маша. – Что это мы приросли к одному месту, словно пни!
Лесков стал карабкаться на обрыв, поддерживая Машу. В лесу кипрея было мало, и Лесков предложил выйти на холмы – на открытых полянках этого добра вдоволь. Но Маша не торопилась уходить из чащи. Он потянул ее за собой. Она прижалась к нему и, закрыв глаза, коснулась его губами. Лесков приник к ним и не слышал, как раздвинулись кусты. Из лесу вышли Лубянский, Селиков и Надя с ворохами цветов в руках.
– Автомат безопасности не срабатывает начальник! – громко сказал Селиков. – Так и до аварии недалеко.
Он нагло подмигнул Лескову. Лесков еще не видел Селикова таким – красный, с расстегнутым воротом, с блестящими глазами, он дерзко посматривал то на своего начальника, то на Машу и, видимо, собирался подшучивать дальше. Маша, взвизгнув, проворно убежала в кусты. Селиков захохотал. У Лескова сжались кулаки.
– Слушайте, Селиков, – сказал он сквозь зубы. – Выберите для острот другую мишень. И впредь так плоско не острите – можете нарваться на неприятность!
– А вы для поцелуев выбирайте уголок подальше, – грубо отрубил Селиков. – И вообще здесь вы не начальник, а я не подчиненный – как хочу, так и острю.
– Тогда не обижайтесь на ответ, – проговорил взбешенный Лесков. Он вплотную подошел к Селикову, сгорая от желания ударить его по лицу. Лубянский, испуганный, встал между ними.
– Возьмите себя в руки, Александр Яковлевич! – проговорил он, волнуясь. – Ну, что это такое? Выпили бутылку вина и лезут в драку.
Селиков, сразу став серьезным, хмуро следил за Лесковым. Ярость еще клокотала в Лескове. Он сознавал уже, что не бутылка вина и не глупый поцелуй так неудержимо толкали его на Селикова. И тот тоже понимал это. За спиной Лескова послышался треск сучьев – Надя уходила в чащу. Селиков посмотрел ей вслед.
– Дракой спора не решишь, – сказал он неожиданно спокойно. – А между прочим, я не против драки. Если надо, ищите на бережку, пока же прошу извиненьица – важное дело!
Лубянский взял Лескова под руку и вывел его на полянку.
– Честное слово, не думал, что вы можете быть таким разъяренным, – говорил он. – Если бы я не помешал, вы кинулись бы на него.
– И кинулся бы! – гневно сказал Лесков. – Какое ему дело, с кем и как я провожу время? Вот вы с ним оба ухаживаете за этой Надей, никто вам не собирается мешать. И я, как хочу, так и буду себя вести.
Лубянский вдруг сильно обиделся.
– Прежде всего за Надеждой Осиповной я не ухаживаю, – указал он. – Я не враг своему спокойствию, чтобы влюбляться в таких особ. Я приглашал Катю, но она сегодня заменяет заболевшего сменщика. Если хотите знать, Надежда Осиповна сама просила меня сопровождать ее на прогулке, чтобы не быть одной – только и всего. – И, с удивлением посмотрев на изменившееся лицо Лескова, Лубянский продолжал: – Вся эта ссора выеденного яйца не стоит, пойдемте пить пиво. Кстати, эта Маша… Сколько раз я видел ее в цеху, и ни разу не замечал, что она хорошенькая. Вот что значит для женщины красивое платье! Прямо по Гегелю – форма как существенное в содержании, а не только внешнее.
Но Лесков сейчас даже на пари не мог бы припомнить, какое у Маши платье. Перед ним стояло презрительное лицо Нади, он слышал ее шаги по траве, треск сучьев.
Селиков, догнав Надю, остановил ее.
– Зачем вы гонитесь за мной! – крикнула она раздраженно. – Не смейте подходить ко мне!
– Наденька! – сказал он заискивающе. – Ну, ей-богу, зачем вы? Сами же согласились поехать?.. Поймите, я для вас на все…
Он протянул к ней руку, Надя с ожесточением оттолкнула ее.
– Знаю ваше «все»! Зачем вы повели нас в кусты? Чтобы показать, как Лесков обнимается? Меня ни он, ни вы не интересуете! Ну, чего вы стоите? Я сказала: нам вместе делать нечего!
Он долго молчал, набираясь, словно воздуха перед прыжком, нужных слов. Но слова, приходившие на ум, как на подбор, не годились для разговора с Надей.
– Вижу, вижу, как вас Лесков не интересует! – проговорил он наконец, с отчаянием сознавая, что говорит не то, что нужно. – Вы на него одного смотрите, а когда он говорит, никого больше не слышите. А ему начхать на вас – возится со своей девкой и доволен.
Бледная, с искаженным лицом, Надя подошла к Селикову вплотную.
– Ненавижу! – сказала она звенящим шепотом. – Вас ненавижу, его ненавижу, всех ненавижу!
Она сбежала по обрыву вниз и скрылась за выступом берега. К подавленному Селикову подошел Закатов.
– Сережка! – весело крикнул он, распахивая руки. – Приди, голубь, и прими братский поцелуй! Ну, не вешай носа, знаю, о наших регуляторах скорбишь, что легко не налаживаются. Пустяки все, смотри, какой день, какое солнце, к черту все приборы! – И он с чувством проговорил, мешая стихи двух поэтов: – От черного хлеба и верной жены мы бледною немочью заражены. Довольно, пора мне забыть этот вздор, пора мне вернуться к рассудку!
– День хороший, – мрачно согласился Селиков. – В такой день нужно вино пить, музыка найдется – танцевать до упаду, а раздразнит какая-нибудь рожа – бить эту рожу!
– Это программа! – обрадовался Закатов. – Все по науке, не подкопаешься. Пойдем, там у нас на донышке литра три пива осталось, ведерко в воду поставили, чтоб не нагрелось. Сегодня гуляем, завтра напущусь на тебя, как лис на куропатку: кончай волынку с наладкой, хватит, Сережа, лентяйничать! Вот так, брат. – И, обнаруживая неожиданную для пьяного человека проницательность, Закатов взял Селикова под руку и, как ему показалось, приглушенным голосом проговорил: – А может, ты оттого скуксился, что твоя стрекозель убежала? Я все видел: мчалась, как заяц от пожара. Не отвечай, понятно! Молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои. А между прочим, глупо молчать: ходишь, вроде котел под давлением. У меня тоже, Сережа, горе. Ты, правда, не знаешь, но горе. Любимого человека вырывают из рук. И кто – законный муж! Никаких аргументов не слушает, вот что страшно! Впервые такое у меня, душа на части, не знаю просто, как быть! Ты понимаешь трагедию?
– Тоже мне трагедия! – злобно захохотал Селиков. – Весь город смеется над ней. И чего ты прибедняешься, Михаил Ефимович? Чего требовалось, ведь всего добился, где же здесь горе? Пустили козла в огород, он капусту изгадил – вот и вся твоя трагедия!
Закатов покачал головой.
– Не говори так, не надо, Сережа. Я же тебе как человеку…
22Лубянский, конечно, не подозревал, какое действие оказал его ответ на Лескова. Это были три слова, всего три слова: «Чтобы не быть одной», – но они разом все перевернули в Лескове: ярость перешла в умиление, терзание превратилось в восторг, недовольство – в ликование. Лескову хотелось всех обнимать, всем говорить ласковые слова. Вместо этого он сбежал от Бачулина, удивленно посмотрел на радостно улыбнувшуюся ему Машу. Он искал Надю. Нади нигде не было. Он сел на камень, ликование сразу погасло. Надя, очевидно, вернулась в город. Он дурак, трижды дурак, дураком и умрет. Ему нужно бы бежать за ней, не оставлять наедине с Селиковым. Неужели так-таки ничего у нее с Сережей нет? Он, конечно, знает, куда она подевалась. Лескова поманил Пустыхин.
– Идите к нам! – крикнул он. – Сережа обещает пропеть частушки о вашем брате-автоматчике!
Бачулин тоже звал Лескова. Лесков подошел к кучке людей. В центре сидел Селиков с аккордеоном. У него был вид разозленного человека, готового скорее к драке, чем к веселью. Пробежавшись по клавишам, он оглядел собравшихся насмешливыми глазами.
– Песня – это слова, а слова – вода, а вода – течет, – сказал он негромко. – Если в кого брызнет холодной струей, пусть не обижается.
– Давай! – кричали слушатели. – Оправдываться будешь в милиции!
Из-под пальцев Селикова вырвался разухабистый плясовой мотив. Селиков запел высоким горловым баритоном:
Чтобы ты в беду не влип
В обращенье с людом,
Оборудуй личный КИП
И таскай повсюду!
Начало песни было встречено смехом и криками: «Здорово! Неплохо придумано – личный КИП! Даешь личные контрольно-измерительные приборы!» К кучке, услышав пение, стали собираться другие гуляющие. Селиков продолжал, перебирая клавиши:
Соблюдая точность мер
В выпиванье водки,
Электронный спиртомер
Установь на глотке.
Говорят тебе, старик, —
Это не спроста ведь —
Автоматерный язык
Следует оставить!
У Лескова с самого начала, когда Селиков скользнул по нему злобным взглядом, появилось неясное впечатление, что в частушках должно быть что-то о нем. Эта догадка превратилась в уверенность, когда Селиков пропел:
Чтоб в начальственных кругах
Не прослыть проклятым,
Ты смонтируй на мозгах
Словорегулятор!
Теперь Лесков понимал, что Селиков пел, собираясь вызвать ссору. Еще полчаса назад Лесков пошел бы на прямой скандал. Но сейчас, после слов Лубянского, ссора была немыслимой, а сам Селиков из задиры и нахала вдруг превратился в глазах Лескова в огорченного человека, высказывающего свои обиды тем способом, какой был ему доступен. И Лесков улыбался доброй, прощающей улыбкой в ответ на оскорбительные намеки и ядовитые советы.
А Селиков все пел, напрягая голос, чтоб его слышало больше людей; куплеты его становились все наглее и неприличнее.
Кое-кто уже догадывался, что частушки имеют точный адрес. Другим тоже стало казаться, что в них не общее зубоскальство, а злобные личные намеки. А Лескову самые обидные и грубые строфы говорили все о том же: ничего у Селикова с Надей нет, и она, Надя, хорошо, очень хорошо относится к Лескову, хотя, конечно, и не заглядывается на него, как думал Селиков. Бачулин продрался к Лескову и взял его за локоть.
– Саня! – шепнул он. – Уж не о тебе ли он распелся? Что-то, по-моему, хамовато!
Лесков ответил таким радостным взглядом, что Бачулин в недоумении замолчал.
Селиков встал и передал соседу аккордеон. Глаза его настороженно обегали слушателей.
– Что же, товарищи, возражений вроде не имеется? – спросил он.
– Никаких возражений! – кричали из толпы. – Даешь личный КИП! В рассрочку на каждую живую единицу!
Тогда Селиков обратился к Лескову:
– А вы, уважаемый начальник, не против?
– А зачем мне быть против хорошего? – ответил Лесков благожелательно. – Например, электронный спиртомер – очень неплохо!
Селиков короткое время хмуро раздумывал, потом снова заиграл, уже без слов. Лесковым завладели Бачулин и Лубянский. Бачулин предложил пошляться по бережку: уже солнце склоняется, а они все торчат на пляже, словно другого, хорошего места и нет на свете. Лесков согласился: его все не оставляла надежда увидеть Надю. Лубянский опасался, что их заедят комары, но тоже пошел. Они перепрыгивали с камня на камень, взбирались на обрывы и спускались вниз. Лесков снова, как уже было утром, открыл, что лес по-невиданному красив. Днем, среди пива и солнечного сияния, его красота как-то потерялась: лес как лес, не до него. А сейчас, нарядный и ясный в темнеющем воздухе, он был нов и неожидан. Великая вечерняя тишина охватывала лесной наряд, яркие деревья засыпали, солнечная желтизна высоких лиственниц перемежалась синевой елей. А над ними бушевал в невысоком небе живой, как зверь, закат, отражаясь вместе с лесом в темной, быстро бегущей воде.
Даже Бачулин был поражен.
– Братцы, а ведь здорово! – сказал он.
– Неплохо! – согласился Лубянский, недоверчиво присматриваясь к деревьям, словно сомневался, так ли они красивы, как кажутся.
На небольшом мысе, вдававшемся в реку, они увидели сидящую Надю. Она веткой березы отмахивалась от комаров.
– Надежда Осиповна, зачем вы забрались в эту глушь? – удивился Лубянский.
Она небрежно ответила, не поворачивая головы:
– А здесь лучше. Мне надоели песни и ваше вечное пиво.
Бачулин развалился на бережку и жестом предложил остальным присоединиться к нему. Лесков уселся подальше от Нади. Бачулин, не найдя лучшей темы, пустился болтать о природе. Ему нравится северное лето: прохладно, круглые сутки солнце. А комаров, говорят, в этом году меньше, чем в прошлом: нежный комар не выносит сернистого газа. Закат тоже неплох. Просто удивительно, до чего ярки закаты на этих высоких широтах!
– Раз вам нравится закат, так вы любуйтесь им, – сухо посоветовала Надя. Бачулин сидел спиной к закату.
У Бачулина было чуткое сердце. Он быстро сообразил, кто тут лишний. Он потянул за собой Лубянского.
– Мы с Георгием Семеновичем еще погуляем, – сказал он. – Через часок захватим вас на обратном пути.
Лесков понял, что теперь ему удастся оправдаться перед Надей в своем глупом поведении с Машей. Он отвернулся от Бачулина, махавшего рукой из леса. Надя молчала. Потом она сердито проговорила, не глядя на Лескова.
– Между прочим, я вас не держу, мне и одной хорошо.
Он пробормотал:
– Мне некуда спешить.
Она повернула к нему вспыхнувшее лицо.
– Некуда? А эта девушка? На вас не похоже – так горячо целовать, а потом бросить…
Он смотрел на нее, чувствуя, что задуманный разговор не выйдет. В лице Нади было отвращение и вражда, оправдание не имеет смысла. Он опустил голову. Самое лучшее – уйти от нее, ото всех, пешком отмахать все двадцать пять километров, сразу свалиться на кровать и ни о чем не думать, ни с кем не говорить.
– Что же вы молчите? – крикнула она с возмущением.
Он тихо проговорил:
– Отрицать не могу, в самом деле целовал… А что я вас люблю, все о вас думаю, это вам, конечно, неинтересно!
Признание вырвалось внезапно, Лесков сгоряча сам не понял, что признается. А Надя вовсе рассердилась. Слезы заблестели на ее глазах, голос стал злым и глухим.
– Да, разумеется, так я сразу и поверю! – сказала она, не скрывая слез. – Любовь – думаете обо мне, а бегаете за другой!
Он хотел ответить, но послышался шум. Бачулин и Лубянский, громко разговаривая, возвращались обратно. Лесков все готов был вынести в эту минуту, но не беседу с приятелями. Он вскочил. Надя тоже поднялась. Не сговариваясь, они отступили в чащу и притаились за кустом тальника.
Бачулин поразился:
– Да куда они делись, мы же их здесь оставили? Лубянский равнодушно ответил:
– Станут они кормить комаров! Это мы, сумасшедшие, таскаемся по лесу!..
Когда Бачулин с Лубянским прошли, Лесков поспешно отпрянул от Нади. Только сейчас он сообразил, что все высказал и высказал глупо, совсем не так, как это полагается делать, как это делают другие люди, а самое главное – она выслушала его объяснение, с негодованием отвергла его любовь. «Бежать! Бежать! – кричал себе Лесков безмолвным криком. – Слышишь, уходи!» Взамен этого, выбравшись с Надей на открытый берег, он взглянул на нее отчаянными глазами, протянул к ней руки.
И она, сразу забыв о своих сомнениях, о своих вопросах, о своей ревности, порывисто обняла его.
23Комаров, возможно, было меньше, чем в прошлом году, но все же много больше, чем могут вытерпеть два целующихся человека. Целое облако сгущалось, кружилось и звенело над головами Лескова и Нади. Лесков с криком: «Проклятые!» – принялся отмахиваться от них кулаками и головой. Надя со стоном хваталась то за ноги, то за щеки.
– Бежим! – крикнула она, устремляясь по тропинке. – Они отстанут от нас!
Но если эти комары вскоре и отстали, то повстречались другие: недостатка в комарах нигде в лесу не было. Едва Лесков настиг Надю, как опять образовалось новое облако, и звенящие мучители кидались даже на губы.
– Мы безумцы! – проговорила Надя, задыхаясь и отталкивая Лескова. – Они изгрызут нас! Уйдем!
На это он ответил ожесточенно и ликующе:
– Пусть! Это лучше, чем уходить!
– Глупый, глупый! – шептала она, забывая о комарах.
Было уже совсем темно, когда они выбрались на пляж, к разложенным на песке кострам. Все три машины гудели, собирая разошедшихся. Гудки подавались без всякого успеха, пока на помощь не пришли комары. Люди выскакивали из леса с платками на лице, с ветками в руках, прыгали и дергались, как одержимые. Лубянский и Закатов валили в костры сырую хвою, лили на огонь воду, чтоб шло больше дыма. Бачулин с фонариком в руках переходил от костра к костру и от машины к машине.
– Кого не хватает? – спросил Пустыхин.
– Двоих: Селикова и Маши, – ответил Бачулин и добавил: – А также бочки пива и дюжины вина.
Пустыхин ответил с досадой:
– На тебя никакого количества не хватит: емкость слоновая и мозг к градусам нечувствителен. Что меня возмущает, так это отсутствие чувства товарищества: ведь знают же, что все их ждут! Засеки на часах, Василий, не появятся через пять минут, самолично вздую!
Селиков и Маша показались на исходе последней из дарованных им минут. Маша шла с высоко поднятой головой и словно гордилась тем, что все уставились на них. Проходя мимо Лескова, она пренебрежительно отвернулась. Селиков был хмур и ни на кого не смотрел. Лесков испытывал облегчение. Он обидел Машу, она отомстила ему – они квиты.
Когда началась посадка, Лесков с Надей выбрали ту машину, где оказалось меньше знакомых. Они стояли у борта. Лесков поддерживал Надю, из-за быстрой езды и тряски говорить было трудно. Машины примчались на главную площадь города; здесь все вылезли. Лесков улизнул от Бачулина и Лубянского и пошел провожать Надю. Они стояли у ее дома, потом она проводила его до гостиницы, снова они возвратились к ее дому. Провожания продолжались долго. Они ходили по темным улицам, рассказывали о своей жизни, описывали свои переживания. И каждая мелочь, брошенное вскользь слово, случайный взгляд казались им необыкновенно значительными.
– Я сразу понял, что люблю тебя, когда ты вышла на классификаторы, – утверждал Лесков. – Ты появилась, освещенная так странно, словно возникла из света. Я сказал себе: это замечательно, она сама светится! А потом я долго мучился: какие у тебя глаза – серые или зеленые? И сейчас не знаю, хотя каждый день спрашиваю себя.
– А знаешь, – говорила она, – ты тогда все краснел: скажешь слово – и вспыхнешь. И я чаще всего это вспоминала: мне было приятно! Но как ты меня рассердил, когда отказался идти с нами! А я еще полчаса прихорашивалась, чтобы понравиться тебе! И потом чуть не ревела, просто слезы сами текли. И я заклялась: больше с тобой не разговаривать. Как видишь, заклятье не подействовало.
– Я свинья! – говорил он с раскаянием. – Ты даже не представляешь, какая я свинья! Я думал, ты прихорашивалась для Селикова.
Она ответила с обрадовавшим его возмущением:
– Ну, вот еще! Правда, Сережа мне нравился, но когда он стал приставать, я поставила его на место.
– Он способный человек! – горячо отозвался Лесков. Он собирался и дальше расхваливать своего неудачливого соперника. Но Надю не интересовали другие, она хотела говорить только о Лескове. А он ничего не знал в себе, кроме своей работы, самое близкое ему было это любимое дело. И так как ночь и любовь не располагали к изложению схем и конструкций, то он ударился в общие вопросы. Надя, не отрывая от него восторженных глаз, слушала его с волнением, с нежностью, с увлечением; в этом была его подлинная душа, он раскрывал ее всю, не прячась и не приукрашиваясь, и это раскрытие было более полным и более страстным объяснением в любви, чем все «люблю», «моя милая», «твой», «навеки», тем более полным, что эти необходимые, обычные и желанные слова уже были сказаны.
– Понимаешь, Надя, главное в нашей эпохе вовсе не то, что машин теперь больше. Сама машина становится иной, чем раньше, – вот в чем суть, – говорил Лесков. – В технике разразилась величайшая революция, и все в человеческом производстве, начиная с того времени, когда неандерталец стал выделывать свой кремневый молоток, кажется рядом с ней пустяком! Да, да, Надя! Даже великая промышленная революция XVIII века – мелочь рядом с переворотом наших дней. Машина, появившись, делала столько за час, сколько человек не мог совершить за год, она производила и работы, вообще для человека непосильные. Но могучая машина слепа, ею нужно управлять. Без человеческого, зачастую мучительного труда машина беспомощна, как ребенок. Кузнец уже не бьет кувалдой по металлу, его рука нажимает кнопки, а под ним все тот же раскаленный металл. Грузчик уже не тянет на горбу мешок, он переквалифицировался в машиниста крана и паровоза, в шофера, но он работает с напряжением, ему нелегко, нет. Сталевар уже не приготавливает сталь в тигельке на костре, он возится у конвертера или у мартена, в лицо ему бьет тот же жар, он дышит тем же ядовитым газом, умывается собственным соленым потом; ты думаешь ему легче, чем первобытному сталевару? А слесарь, а токарь, а монтажник?
– Им тоже нелегко! – воскликнула Надя. – Я никогда раньше об этом не думала, но ведь это же верно: они по-прежнему работают трудно! Конечно, на станке человек обточит больше, чем раньше мог сделать ножом, но он и сейчас действует руками… Нет, слушай, сам станок – только усовершенствованный нож в его руках, разве не так?
Лесков ответил:
– Ну, конечно, Надя, ты схватила самую суть! Кто-то давно уже сказал, что машина лишь удлиняет и усиливает человеческие органы. В этом глубокая правда, но не вся правда: машина появилась как дополнение к человеку, как его продолжение. Однако она скоро перестала быть такой.
Надя в увлечении прервала его:
– Я сказала: работают трудно… А ведь эти слова: «трудно», «трудность», – они происходят от «труда». Разве само слово не говорит о характере труда, о том, что он тяжек, горек?..
Лесков рассмеялся.
– Ты преувеличиваешь, Надя! Слово «трудно» появилось задолго до машины. Но ведь до появления машин труд тоже был не сладок, в этом ты права.
Надя сказала виновато:
– Я прервала тебя, прости, пожалуйста. Ты говорил, что машина теперь стала иной.
– Да, об этом, Надя. Машина, развиваясь, покорила человека, оседлала его. Это, конечно, гипербола, но в ней скрыт глубокий смысл. Ты понимаешь, Надя, это трагедия: машина, призванная возвеличить человека, быть его рабыней, неожиданно превратила человека в своего раба. Она начала с того, что удлинила его органы, – теперь он сам ее орган, мелкая ее часть. И выходит, что человечество бесконечно выиграло от появления машин, а отдельный человек, производитель – не очень. В каком-то смысле он даже проиграл, ибо понизилось качество его труда. Возьми средневекового кузнеца, ведь это был художник, он мог ковать топор и кольчугу, он выбивал своим молотом удивительные узоры – мы до сих пор восхищаемся ими в музеях и храмах. А что может делать машинист парового молота? Только поворачивать рукоять управления вверх и вниз. И что знает сборщик на конвейере, годами, всю жизнь механически повторяющий одну и ту же операцию! Недаром пишут, что конвейер высасывает мозг человека, оглупляет и отупляет его. Нет, могучая машина нашего времени не возвышает душу, она унижает ее, оскорбляет человеческое достоинство, отказывает человеку в праве быть творцом и не только не избавляет его от тяжелого труда, но делает труд отвратительным и однообразным. И заметь, Надя, все мы разумом превозносим машину, ибо с ней связан прогресс человечества, а наше человеческое чувство протестует против превращения человека в деталь механизма. Поэзия у всех народов вдохновлялась образом кузнеца, крестьянина, воина, моряка, садовода, строителя, о всех видах ручного человеческого труда писали поэты, но конвейер их не вдохновил, Надя, они не воспевали конвейер. И с какой горечью поэты оплакивали наступление машинного века, предвидя в нем великую трагедию человека!
Надя торжественно продекламировала:
Милый, милый смешной дуралей,
Ну, куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?
– Да, да! – подхватил Лесков. – Машина сеет вокруг себя унижение всего живого – такова машина, придуманная при капитализме, поэты не ошиблись в своем пророческом чутье. Но развитие идет, оно не останавливается. Человек превратился в автомат, обслуживающий машину. Следующий шаг – заменить этого человека-автомата автоматом-машиной. И это уже делается, всюду делается, широко делается. Ибо внедрение автоматов в производство – великое, непреодолимое движение современности. Автоматы взамен токарей и фрезеровщиков у станков, пилотов у руля самолета, машинистов на паровозе, бухгалтеров и сметчиков за столом, горновых и инженеров у печей, сборщиков на конвейере, конструкторов и расчетчиков… Но на этом не кончается, нет, Надя. Человек поднимает автомат до роли организатора, руководителя и командира, он заставляет машину саму искать наилучшие режимы и вести процессы. Машина продолжает и усиливает еще один, и важнейший, орган человека – его мозг; человек передает ей многие свои мыслительные и организаторские функции.
– Наступит эра, когда в цехах не будет ни одного человека! – радостно воскликнула Надя. – Как ты думаешь, будем ли мы, инженеры, тогда нужны? Не придется ли нам бросить в печку наши дипломы?
– Этого времени не будет! – убежденно сказал Лесков. – Человек останется, и останется его труд. Но это будет иной человек, и труд у него будет иной – труд творчества. Этот труд будет направлен на развитие величайших физических и духовных способностей человека, создание непреходящих ценностей, украшение жизни, превращение всей земли в огромный сад, завоевание других миров. Кто это, злобный и тупой, проклял человека, чтоб в поте лица своего добывал хлеб свой? Воздух нам также необходим, как хлеб, но ведь мы не тратим черный труд на добывание воздуха! И почему не может хлеб так же легко доставаться нам, как воздух? До сих пор не мог, верно, но скоро это станет осуществимо. И если человек потратит час в день на руководство созданием вещей, то этого в век автоматики будет достаточно, чтоб материальные блага полились на него рекой. Наша работа, наши сегодняшние искания приводят нас к этому сияющему веку автоматики, веку коммунизма!
Как ни восторженно Надя слушала Лескова, она снова прервала его. Она вспомнила их спор на совещании у Савчука. В ней вдруг ожили старые обиды. Лесков, очевидно, решил тогда, что она не разбирается в новой технике и вообще отсталый человек, у него даже на лице было написано презрение к ней, это все видели.
– Ну, вот ещё, презрение! – возмутился Лесков. – Но если сказать правду, я разозлился.
– Нет, презрение! – настаивала Надя. – Ты ведь совсем не умеешь скрытничать, совсем! Как ты посмотрел на меня в коридоре – ужасно, я не знала куда деваться!
– Прости меня, Наденька! – пробормотал он покаянно и потянулся к ней.
Надя оттолкнула его и продолжала с волнением:
– Я всю ночь не спала, плакала и ругала тебя и себя. Утром была вся красная и распухшая. Как видишь, я часто плачу. Тебя не пугает это?
– Нет, не пугает, – рассмеялся он. – Постараюсь не давать тебе новых поводов для слез.
– И вот тогда я решила тебе отомстить, – говорила Надя. – И знаешь как? Я все подробно обдумала. Прежде всего, я должна была держаться с тобой холодно, вежливо и неприступно – статуя, а не живой человек. Разве ты не заметил, что так я и держала себя потом?
– Не заметил, – признался он честно. – Вежливой ты не была, скорее наоборот.
– Но это еще не все, послушай. Я знала, что рано или поздно ты придешь к нам в отделение. И вот тут начиналась моя настоящая месть.
– Ты собиралась мешать мне налаживать регуляторы? – спросил он с любопытством.
Она воскликнула с негодованием:
– Какого ты обо мне мнения! Неужели ты в самом деле считаешь меня такой скверной? Нет, моя месть была совсем другого рода. Я решила помогать тебе больше, чем Лубянский, все, все сделать, что потребуется. А потом – и обязательно на совещании, чтоб все слышали, – объявить: «Вообще-то мы, технологи, надеялись на большую автоматизацию, но раз товарищи автоматчики на это не способны, придется примириться и с тем немногим, что они предлагают».
Лесков расхохотался.
– Да, вот это месть! Ручаюсь, я был бы поражен в самое сердце!
Удовлетворенная, Надя обняла его, потом сказала с сожалением:
– Теперь, конечно, все эти мечты придется оставить. А следовало бы, за многие твои грехи…
Он согласился, что грехов у него достаточно, человек он в принципе неважный – скучный, нетактичный, малоразговорчивый. Надя не дала ему продолжать перечисление своих недостатков и решительно возразила, что он вовсе себя не знает, ей видней.
– Лучше возвратимся к нашему разговору, – предложила она. – Ты ведь не закончил своих мыслей.
– Да, не закончил, – сказал он. Теперь он заговорил о трудностях своей работы. Все дело в том, что сумрак старого еще не рассеялся, еще сильны старые привычки и предрассудки. Черные тени ползают по земле, и правильные масштабы искажены. Лет через сто о нашем времени, может быть, станут говорить: «Это была великая эпоха, революция в промышленности, сделавшая человека свободным». А мы до обидного не понимаем грандиозного содержания своей работы и путаемся в пустяках, в раздутых тенях – служебном самолюбии, бризовских премиях, личных антипатиях, сметных графах и параграфах. Вот эти – Галан, Закатов – они поток, первый вал потока, сметающего старые формы промышленности. А что они видят в своей работе? Мечты Галана дальше крупной бризовской премии не идут, Закатов же работает, и точка. А Кабаков, твой Савчук и Крутилин, самый косный из наших руководителей? Они знают только нужды сегодняшнего дня. Кабаков честно помогает, о Савчуке и говорить нечего, а Крутилин мешает – вот уж кого я не терплю! Но знаешь, что я тебе скажу, Надя? Так странно идет развитие, так неотвратимо все дороги ведут в одну точку, что даже помехи выливаются в помощь. Крутилин видит одни недостатки в новом, ему трудно переучиваться. Но он, выпячивая недочеты, заставляет задумываться, как их устранить. Он сопротивляется – сейчас и сопротивление помогает. Трение – помеха движению, конструкторы бьются, чтоб уменьшить его. Но уничтожь совсем трение – не будет самого движения. Лубянский однажды привел слова какого-то философа: голубь заметил, что чем выше он забирается, тем легче летать. И он решил – высоко наверху, в безвоздушном пространстве, откроются наилучшие условия для полета. Но крыльям голубя там не было опоры, и он рухнул вниз. Какое-то трение должно быть, какая-то инерция необходима, но только не такое трение, при котором движение захлебывается, не такая инерция, которую не сломить.







