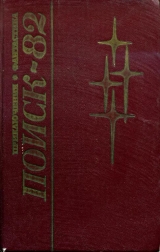
Текст книги "Поиск-82: Приключения. Фантастика"
Автор книги: Сергей Другаль
Соавторы: Феликс Сузин,Евгений Нагорнов,Владимир Белоглазкин,Александр Генералов,Владимир Печенкин
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц)
– Братцы мои! – Кузьма кулаком взмахнул. – Была б у меня силенка хошь малая, я бы... ах!..
– То-то, что «ах». Бодливой корове бог рог не дает.
– Поглядим еще! Дайте срок, скажу словцо им, энтим...
– Не похваляйся всуе, раб божий. Что воздвигнешь в оборону себе, терпения кроме? Истинно мудрость гласит: мужик терпением силен, нищетою богат...
– Всю жизнь терплю, дьякон. Не из страха за себя, никчемного, – за дочерь страшусь... Но дайте срок, я скажу!..
Вошла Фрося – она у хворой соседки хлопотала, – и мужики хмельную беседу оставили. Гореванов и дьякон поклонились девице. У казака пряник в кармане приготовлен, но угостить не посмел. Кому-то Фрося достанется на радость, на беду ль?.. Непросто бедняку уберечь жену пригожую от распутства господского. Защитою будет разве что мужний сан, ежели, к примеру, за священника выйдет, либо сабля, ежели за казака.
7
Комендант Тарковский спровадил казаков горевановского десятка в дальний дозор: пройти близ улусов башкирских, не замышляют ли разбоя улусники. В ту пору конь Ивана охромел, запасной же не объезжен ладом, дик под седлом. И ослушался десятник: замест себя головою в разъезд Пермитина послал – Афонька мужик основательный, очертя голову в свару не кинется, людей зазря не погубит. Сам же Иван, коменданту не доложившись, в Башанлыке остался. Негоже так-то, да ни к чему лишний раз начальству досаждать оправданьями. И ослушанье это одну беду отвело, другую насунуло. Не дано ведь человеку знать, где его беда застигнет – в ратной ли сечи или дома на печи.
Весь день со двора не выходил, доносчикам досужим на глаза не попасть бы. Смазал коню дегтем пораненное копыто, чистой тряпицей обвязал. Пошел в избу седло чинить.
Тут прибег чужого десятка казак. На икону не окстясь, шепнул весть тревожную:
– Счас был на канцелярском дворе, твою девку видел...
– Какую это мою? – усмехнулся Иван, а у самого сердце дрогнуло: видали, чай, на Башанлыке, в чью избу на выселке он повадился.
– Ну, Куземки Бесконнова дочку. Ее комендант в покои свои увел...
Выпало седло из рук, звякнули стремена.
– Сама шла?
– Куды денется? Велел ей в покоях полы скоблить. Знамо, какие полы, не перву девку портит.
Сапоги враз на ногах, сабля на боку, пистоль за поясом.
– Ивашка, я пеше прибег, дай коня, с тобою пойду.
– Нет, уходи да помалкивай. Коли что – один я в ответе.
На запасного коня полудикого да плетью его – бурей вырвался из двора жеребец, понес бешено, собак яря, кур пугая. Во двор канцелярский ворвался, прянул с коня, захлестнул повод за бревно коновязи. Заметя, что не в себе казак, загородил ему часовой путь в барские покои.
– Не велено.
– Прочь! Дело спешное, – отстранил ружье, прошел. Солдат видел утром, как горевановцы в дозор уходили, поверил: издаля десятник воротился, видно, и впрямь спешная весть.
Через три ступеньки шагая, по лестнице наверх взбежал, толкнулся в запертую дверь. Ударил кулаком. Стал сапогами бить. Пока не рявкнули там:
– Кто?!
– Я, Гореванов! Отопри скорее, барин! Спешное дело!
– Какое дело? К Анкудинову беги...
– Пьян Анкудинов, отопри, ино беда великая сотворится!
Засов лязгнул. Иван пнул дверь, она распахнулась, барина ушибла.
– Кан-налья, мать-т-т... – и присел Тарковский: в грудь ему пистоль направлен.
– Девка где?
– Ты пьян, пес!
– Сказывай, не то... – Пистоль к носу, учуял Тарковский запах пороховой из дула.
– Какая девка? Да ты, пся крев, грозить посмел! Да ты...
У барина минует оторопь – и, понял Иван, сей миг барская злость преодолит страх, кинется двуногий зверь солдат звать либо на пистоль прямо... Миг еще...
Но вторая дверь, что в опочивальню, заходила ходуном, изнутри по ней колотили столь же смятенно, как Иван только что. Оглянулся, промешкал Тарковский, Иван крутнул его за плечи спиной к себе, пистоль в затылок:
– Отпирай, барин.
У того шея и уши белы стали, как в муке обсыпаны. Пошел, от железного холодка плечами поводя. Неверною рукою нашарил в кармане ключ, не вдруг в прорезь им попал! Бух! – вдругорядь коменданта дверью треснуло, рык издал от боли, от страха, унижения. Фрося, простоволоса, кофта рвана, глаза сухо блестят, шагнула и – от пощечины мотнулась комендантова голова затылком в дуло... Смолчал.
– Стой! – ухватил Иван за руку Фросю. – Успел ли чего с тобою?
Вырвалась, вышла из горницы. По тому, как шла она, как стан ее прям несмято, догадался Иван: не успел барин...
– Ну, господин, падай на колена. Падай, не то в лоб свинец вгоню! Не предо мною, пред иконою, клянись! Давай зарок, что боле девки сей не коснешься. Сказывай: истинным богом клянусь и зарекаюсь... Ну же!
Холодное железо жгло затылок. Тарковский выдавил сквозь зубы:
– Истинным богом... клянусь... Будь ты проклят, шкуру спущу, изменник, вор, душегубец! Убери пистоль!
– Браниться пред иконою грех. Курок-то взведен, прижму чуть и накажет тебя господь смертно. Ну!
– ...И зарекаюсь девицу тронуть...
– А ежели нарушу...
– Ежели нарушу, да наказан буду смертию лютой... аминь...
Оглянулся, железа более не чуя. Казак уж у порога. Но пистоль нацелен.
– Вставай, господин комендант. Да помни впредь: казаки не баре, но их лучше стороною обойти, за обиды щедро платят. И насчет девки зарок помни накрепко.
8
С неделю Гореванов к Кузьме не захаживал. От комендантского гнева подале, ходил со своими в дозор часто, оставя Ахмета тишком приглядывать за Кузьмовой избой. Дома оставшись, с Пермитиным либо с Васькой Пороховым в избе своей вел беседы про дела казачьи. Спать ложился – саблю да пистоль подле себя клал.
Однако утеснений от коменданта не замечалось. Будто и не бывало меж ними стычки. И то: барину Тарковскому срамно про то болтать, а Гореванов на самохвальство не падкий. Не забыл, не простил комендант, но кто знает, когда и какую месть он уготовит.
Дождил сентябрь. Башанлык тихо лежал под моросящим небом, затаился в недобром безмолвии – не за горами уж зима, и будет она голодной ныне. Даже кабак, царево кружало, питухами теперь оскудел. Хромой балалаешник, трезвый и несытый, музыки плачевные наигрывал в лад редким захожим гостям. Лишь завод по-прежнему стонал, ухал молотами. Но и в его уханье что-то недоброе слышалось, водяные колеса у плотины скрипели надрывнее, будто и бездушные машины близкую людскую бескормицу загодя оплакивали...
От края до края заполонили, обложили небо низкие тучи, сыплет холодный мелкий дождь. Равнодушные тучи. Им дела нет, что надо же холмам, рощам, зверям, людям хоть на минуту, хоть изредка увидеть солнечный свет... Нет неба, нет солнца. Словно и не будет их уже никогда...
И под этот осенний дождь грянула на Башанлык странная тишина. День не праздничный, будний, рабочий – а завод не гомонит, не ухает, молоты умолкли, на подъездных дорогах таратайки не скрипят, возчики на лошадей не шумят, замер завод неурочно.
А перед двором канцелярским работная толпа, ропщет множеством голосов, сумятится. И, знать, некому тот ропот глухой расколоть криком властным, ременным хлестом: управитель в Екатеринбург отбыл, солдатская команда опять беглых ищет по уезду.
Тюрьма да контора – всему основа. Потому забор вокруг подворья высок и прочен, ворота железом обиты. От вражеской рати впору отсидеться, тем паче от толпы разбродной, неоружной. Но не таков господин Тарковский, чтоб – от кого? – от быдла немытого осаду терпеть! Кипит в нем голубая кровь – разогнать чернь, пороть, на цепь! Но как разгонишь – при тюрьме караул в пяток солдат...
Канцелярского подьячего малоприятная рожа приснилась Гореванову... К какой еще напасти экой сон несуразный?
– Да пробудись ты!
Не сон... Тьфу!
– К черту, к лешему, к Анкудинову иди! Я из дозора ночью приехал, спать хочу...
– Господин комендант за тобою послать изволил, неладное у нас деется! Бунт у нас! Подымай казаков, к конторе веди!
Подьячий, как утопленник: мокрый, грязью измазан – должно, полз бороздой огородной. Уж не до спеси, верещит слезно:
– Скорее, не то смертоубийства не миновать! К конторе подступили, слова воровские кричат, грозят!
Сел. Зевнул, потянулся. Обуваться стал неторопко. Пусть господин Тарковский потрясется да побесится. Но рядом трясся и бесился подьячий. И, видя сборы десятника мешкотные, по-иному заторопил:
– Гонец посылан в Михайловскую слободу за драгунами. Ужо наедут вскоре – кабы и тебе в опалу да пытку не угодить за промедление твое...
– Вишь, оболокаюсь, не в подштанниках же к коменданту предстану. Вот пороху к пистолю сухого надобно еще... Беги, скажи: счас, мол, будет Гореванов.
– Не-е, боязно. Я за тобою следом... Ох господи, владыко живота моего, сохрани и помилуй! Да собирайся, живее, матери твоей черт!
– Казаков собрать надоть...
На заводах в земле порубежной так повелось: казаки от ватажек разбойных оберегают, солдаты в посадах строгость блюдут. У каждого служба своя, в чужую соваться не след. Казаки про непокорство сегодняшнее сразу знали, но по избам сидели: не наша-де то забота. Коней седлали и выезжали с волынкою.
Как уже из улицы показались – шатнулась толпа. Вымокшая, рваная, бедная... До того бедная, что и не выказала страха пред силой оружной. С пустыми руками пришли работные. Ни дреколья, ни дубин, ни жердей. Головы, шапчонки войлочные, платки бабьи, хлещи их, секи, топчи...
– Гореванов, ко мне!
Из малых воротцев конторского двора в сопровождении капрала и двух солдат появился Тарковский, в треуголке, в мундире, при шпаге. Ястребиные глаза по толпе шарят, лица бородатые колюче щупают, зачинщиков выискивают. Безлика толпа пред ним оробелая. Выкриков крамольных не слыхать. И не угрозою веет от серого скопища. Молви слово, надежду сулящее, – на колени в грязь падут. Но у Тарковского иные слова наготове: зачинщики быть должны, сыскать их надо, уязвить толпу словом колким, обидным – пусть откликнется, кто горяч, себя пусть покажет...
– Кто работы прервать дозволил? Какой праздник у вас, скоты? Отвечать!
Пригнулись головы, как от грома небесного. Шевелятся посинелые губы, слов не находя. Велик для них чин коменданта, он казнить и миловать волен, и многих нещадно казнил, а чтоб миловать, того не слыхано.
– Пьяницы, подлое быдло, бунтовать выдумали?!
У капрала сабля наголо, у солдат к ружьям штыки примкнуты. За головами толпы высится плотный ряд казаков. И, входя в раж, комендант взялся за эфес шпаги.
– Плетей захотели? Будут вам плети! Кто крамоле зачинщик? Ты? Ты? Отвечать!
Гореванову с коня всю площадь видно. Темна и недвижна толпа, как в омуте черном вода. Уставщиков, мастеров, духовных – ни единого. Пришли из лесов углежоги, с рудников пришли рудокопы, коновозчики тут, фабричная обслуга, из деревень приписных крестьяне. Работная сила, скованная привычной покорностью. Не посвист разбойный – плач голодный заставил сюда идти. Падают слова коменданта в толпу, как в омут ночной падают камни – волн и брызг не видать.
– Казаки! Сабли вон! – сатанел комендант.
В ответ из глуби восплакал голос:
– Батюшка, рази мы бунтуем? Обнищали, силов нету никаких! Робенки голодною смертынькой помирают...
Гореванов отыскал голос: старуха морщинистая с младенцем на руках.
Плач ее всколыхнул омут...
– Пошто, барин, ругаешься?
– Добром твою милость просим – хлеба дай нам!
– Пашни посохли, сено погнило, чем жить?
– Ма-алча-ть! По работам ма-арш! Ну! Жить вам надоело?!
– Надоело, барин.
– Мы ровно кляча заезженна у хозяина нерадивого.
– Вели, барин, хлеба нам ссудить. Не то провиянтски склады разобьем!
– Все одно погибать, дак хоть поемши...
– Не вам одним грабить!..
Добился Тарковский. – теперь толпа угрозой вздымалась. Иглой блеснула из ножен шпажонка барская:
– Казаки-и! Слуша-ай! В сабли их, секи! Солдаты, стреляй! Бей, мать их!..
Солдаты вскинули ружья. Толпа качнулась штыкам навстречу, взмыли над головами каелки горняцкие...
От воплей дыбились, ржали кони. Гореванов поднялся в стремена, пистоль поднял. Выстрел оборвал крики. Глядят с опаской: мало казаков, да при оружии они. Один комендантов выкрик:
– Дурак! Не в небо, в крамольников пали!
Иван свысока, с коня коменданта взглядом смерил:
– А пошто? Кто крамольник? Не ты ли, барин? Дай хлеба им.
– О-о, измена!
– Ты и есть изменник, людей голодом моришь.
Тарковский понял, чего ждать ему теперь... Выставив перед собою шпагу, пятился к воротам.
– Капрал! Ворота запереть!
Откуда-то канцелярский подьячий вынырнул, устремился к коменданту, успел-таки во двор заскочить. Толпа, уже готовая было напролом идти, теперь, коменданта не видя, опешила. Работные толпились, всяк свое кричал.
– Айда по избам, – Гореванов своим велел. – Обошлось покуда без смертей, и то ладно.
Заворачивали коней, поспешно и угрюмо отъезжали с улицы. Ускакал и Гореванов. Смутно ему было. Сей день обошлось, но ведь это не конец.
– Ахмет, чего за мной тенью ходишь?
– Худо тебе, за вином не сбегать ли?
– Вином беды не залить.
Сел к столу. Ахмет у порога на пол, ноги калачиком. Сидели, сверчка слушали. Ждали бог весть чего.
На первых порах дождались Ваську Порохова да Соловарова Фильку. Васька влетел, сапог не сымая, веселый, жаркий, зипун нараспашку.
– Чего ж сробел, Ивашка? Посулил офицеру пулю, а не стрелил? Казаки с тобою во всем заедино, времечко гожее выдалось – солдат в Башанлыке нету. Айда, Иванка, мужичье там еще! Разнесем вдрызг контору ихнюю, казну возьмем...
– А дале чего? К утру драгунов жди.
– Дале – ищи нас, свищи! На Яике да на Волге такие ли дела учинялися!
– Пошто же ушел с Яика? Ты, Василей, не мути. Мы-то на конь, и прощевай, Башанлык, а куды мужики пойдут? У них тут и земля, и изба, и всяки животы. Робятишек, тятьку дряхлого в переметну суму седельную не посадишь, на кляче сошной от драгун не ускачешь. Нет, не путем ты баешь, Васька.
Порохов за ухом почесал, на Фильку оглянулся.
– Не путем, – Соловаров кивнул. – Затеять разбой, казну пограбить, самим бежать, а сотни людей на расправу покинуть – ладно ли так-то? Лучше, как Ивашка сделал, от тех и других отступиться.
Но Порохов, взбаламученный событиями, никак угомониться не хотел:
– Офицера-то все ж надо б кончить. Паскудник он! Башанлык вольным объявить. Завод порушили бы к такой матери...
– Надолго ли воля? Драгуны...
– Чего драгуны? Ежели с работными вкупе, не взять нас! Ты грамотен, умен, тебя атаманом!
– Пустое болтаешь. Своею башкой рисковать куда ни шло, а чужими жизнями играть не согласный.
– А и свою башку под топор совать неча. Беспременно уходить тебе надо, Иван.
– Верно, уходи, – поддержал Соловаров. – Не спустит тебе комендант.
– Измены никакой я не замышлял. Крови не дал пролиться, разве за то можно винить?
– Беги, Ивашка. Не ищи смерть, она сама тебя найдет. Замордуют на дыбе... Ой, братцы.! – Порохов зажмурился, головой покрутил. – От сабли, от стрелы, от пули помереть завсегда я готовый. Чтоб в полной силушке, в честной драке. Неволи ж, пытки – страшусь! Не приведи бог! Жуть... Ты, Иван, спасайся, пока цел. Хоть, я с тобой?
– Казаки ни при чем, с меня одного спрос будет. Я и отвечу. А бежать – нет. Тогда ославят: Гореванов – разбойник и вор.
– Тебе-то что? Когда себя уберечь надо, курица и та бежит без оглядки.
– Не уйду.
– Ой, пожалеешь! Ну, айда нето в кабак. Выпьем напоследок за здравие десятника нашего Ивашки Горевана! Чтоб ему, дураку ученому, набраться все ж ума да убечь.
Иван в кабак не хотел. Побранив его сожалеюще, они ушли.
– Ежели чего, нас свистни. Придем, выручим, – кричал Порохов, уходя.
– Ахметша, айда с нами.
– Не ходи, Ахмет, в кабак, – сказал Гореванов. – Домой ступай. Передай нашим казакам: ежели кто за мною придет, пущай не встревают, напрасно не рискуют. Иди.
Ахмет послушно сапоги надел, поклонился и ушел.
Но вскоре новый гость заявился – Афоня Пермитин. И тоже укором начал:
– Не гораздо сотворил ты...
– Знаю. Да как надо-то?
– А на рожон не переть бы. Коменданту не дерзить.
– Вот те на! Стало быть, голодных людей саблями сечь?!
– Не про то я. Но управителю грозить пистолем – это уж, братец, не одобряю! Наедут драгуны – и работным все одно битым быть, гиблое ихнее дело. А и на казаков ты беду накликал, почнут их зорить, пожитки отымать наши. Надо было коменданта хитростью обойти... Мол, сперва пятидесятнику Анкудинову доложусь...
– Анкудинов, как шум услыхал, так и запомирал, лихоманка его взяла, от дела хворостью открестился. Может, иначе и надо бы мне, да уж как умел...
– Ишь, опять дождичка бог посылает. Дороги размочило, беда! Разве что к полудню драгуны сюда поспеют...
– Тебе-то что? Ты, Афонька, не был с нами на площади, не схотел.
– Так ведь твово я десятка. И с меня спросят тож... – Еще помялся, покашлял. И сказал то, зачем явился: – Я тебе, Иван, не супротивник. Был ты нам хорош десятник. Только не обессудь, отойдем мы от тебя теперича... Которы казаки беломестны, велели прощенья у тебя просить – отстранимся, мол. Пойми, хозяйства у нас, детишки, бабы... Опять же коровенки, землица... Добро, у тебя ни кола, ни двора, вскочил в седло – и поминай как звали. Нам так не можно. – Он вдруг пал на колени. – Прости нас, ради бога! Совестно, да что делать, хозяйством мы привязаны... Ежели розыск учинится, мы бранить тебя станем, не серчай уж. Тебе все одно, а нам, може, от разору избавление...
– Вставай. Грязен пол-то. Не бойтесь, скажу на расспросе: казаки-де не причастны к действиям моим.
– Исполать тебе, – поклонился Пермитин. Плечами пожал: – Невдомек мне, святой ты али просто глуп...
Истекал день. В сером мороке сумерки крались воровские. Иван огонь не вздувал, сумерничал один, думал. Вскоре быть расспросу, а за ним и правеж грядет – готов ли ко всему? В одиночку устоять, на брюхо не пасть, других не задеть – сил достанет ли? А Фрося что? Вспомнишь про нее – реветь впору...
Скрипнула ступенька, шаги в сенцах крадутся. Не Фрося ли, на помине легка?.. В останний час судьба порадует? Не надобно! Опасно тут Фросе...
Иван к двери, отпер. Отлегло и опечалило: не Фрося то, мужик какой-то... Разглядел.
– Дьякон, ты?! Какая нелегкая занесла! Входи, счас лучину спроворю.
– Не надобно, бога ради! Явился тайно, упредить... Сей час отец Иона со двора канцелярского воротился, пономарю сказывал: противу тебя злоумышляют, в узилище ввергнуть хотят. А ежели супротивство окажешь, то и смерти предать скорой, без покаяния. Спасайся из града сего, беги от суда неправедного! Ведаю: чист пред богом ты в помыслах своих! Беги, Христос с тобою!
– Как же ты, отче, насмелился?..
Но тот пропал уже, только ворота скрипнули. Ай да отец дьякон, ну спасибо.
Не успел от двери отойти, опять короткие петли визгнули. Ну вот и конец дню тревожному, да и воле конец... Стучат громко сапоги, в сенцах грохнулась бадейка с водой. Два солдата вошли. В темноте избы штык звякнул.
– Хозяин, эй! Гореванов!
– Тут я. Чего надо?
– Пятидесятник к себе кличут. Собирайся живо, слышь?
– Не глухой. Зовет, так иду. С ружьями пошто за мною?
– Для обережи. Неспокойно времечко настало. Эка тьма у тебя. Кто ишо в избе?
– Один я.
– Пошевеливайся!
Хорошо хоть успел дьякон уйти, с солдатами разминуться.
Пятидесятник не дюже пьян, сидит в мундире, при сабле. Встретил по-доброму, велел супротив сесть, завел нытье обычное про хворости. И вроде к слову пришлось:
– Пистоль мой возверни-ка. Полегшало чуток, завтра ужо начальству предстану, так чтоб при всех причиндалах быть. Дай-кась и сабельку твою глянуть, добрая ли сталь?
– Не вертись, Силантий Егорыч. Сказывай прямо, чего ради оружие отымаешь?
Анкудинов страдальческую рожу состроил.
– А то тебе неведомо? Под караул тебя велено доставить. Жалко мне, да сам понять должон – служба. Давай сабельку, давай. Ах, дурак, что натворил! Моею храбростью, моим доверьем ты злоупотребил. Грех тебе! Солдаты, вяжите руки ему, болезному.
Из-за Анкудиновой спины Иван ухватил свою саблю.
– Не дамся!
– Ванька, одумайся! – Сизая рожа Анкудинова еще боле оплыла, заколыхалась. – Ишшо мало ты начудесил?!
– Вязать не дамся! Пущай так ведут, смирен буду.
– Ин бог с тобой. Клади сабельку, Ваня. Ты мне завсегда как родной был, помни о том, зазря на меня тама не клепай. Ведите его, солдатушки, не бойтеся, его слово крепко, не сбежит.
Во тьме осенней, по улицам темным вели Ивана к тюрьме. Бранились солдаты, в грязи оскальзываясь. Руки не связаны, солдаты не расторопны, ночь темна... Еще малость, еще сотня шагов по грязи – и двор за каменной оградой, и поздно будет о побеге замышлять...
– Казак, ты уж не сбеги, Христа ради. Забьют ведь нас.
– Не бойсь.
В тюремной караулке чадил смоляной светец. Комендант здесь собственной персоной Гореванова дожидается – эка честь казаку! В треуголке, при шпаге, во всем параде – ровно фельдмаршала встречает. Окинул взором ястребиным, недоволен остался: не повязали изменника, будет ужо солдатам трепка. С руками свободными выглядит казак непочтительно, неподобающе. Ишь, вперился, не сморгнет. Надеется на чернь башанлыкскую? На своих казаков? Времечко-то вельми смутно!
– Под замок его. Стеречь сугубо. Капрал, головой ответишь!
Когда арестанта увели, сказал капралу:
– Сему наглецу простой порки мало. Как драгуны придут, спровадить крамольника в Катеринбурх с конвоем сильным. Там мастера пытошные ему спеси-то поубавят.
И пошел в покои – отписать в Екатеринбург, каков злодей есть Ивашка Гореванов.
9
«...Прибыв декабря первого числа, Демидова старые и новые заводы осмотрел... В хорошем весьма порядке и в самых лучших местах построены...»
Поморщился от зависти к заводчику и от ломоты в пояснице. Лист бросил, другой взял, перечитал бегло:
«...А на государевы заводы сожалительно смотреть, что оные здесь заранее в добрый порядок не произведены... весьма ныне в худом порядке: первое – в неудобном месте построены и за умалением воды много прогулу бывает, второе – припасов мало, третье – мастера самые бездельные и необученные... Уктусские и Алапаевские заводы построены в весьма неудобном месте... домны стоят, и из онных пушки лить без исправки до будущей весны невозможно...»
Далее свое донесение перечитывать не хотелось – таково противно. Подписал: «Генерал маэор Георг Вильгельм де Геннин». Чихнул, руганулся по-русски. Висячий свой немецкий нос в большой плат высморкал. В декабрьские холода поездил по демидовским заводам, сильно простудился, теперь недужилось: бил озноб, спирало дыхание. Но паче того – обида: у Демидова крепко дело поставлено, на казенных же заведениях, как ни бейся, непорядки многие, от помощников нерадивых одно воровство, пьянство. Новый городок Екатеринбург столь добротно замыслен, но строится многотрудно: в людях постоянное оскудение, бегут людишки неведомо куда. Известно, житье на заводах – не мед. Все подчиняется регламенту адмиралтейскому: утром в полпятого колокол бьет на работу, с одиннадцати до полпервого перерыв, после сызнова работа до семи, либо, летом, до восьми часов. Но что делать – адмиралтейский регламент государем введен. Требует государь железа, пушек, тесаков. Невозможно ослабить работу, само дело того не допускает. Ежели станут заводы казенные железо давать скудно и не столь добротное – как бы не отдали их владельцам частным, которые только и ждут, чтоб весь Урал прибрать к своекорыстной выгоде.
Акинфий Демидов молод, но лукавства в нем в преизбытке! Вместе с приказчиком Степкою Егоровым, по хозяину лукавым же, принимал Геннина угодливо, обхаживал всяко. Едва не впрямую взятку сулил. Предлагал на ночь в покои девку прислать... Жулик...
– Ап-ап-чхи-и! – чихнул генерал троекратно.
Тотчас явился конторский начальник Головачев.
Не видеть бы никого, не слышать бы... Геннин встал, к Головачеву спиною повернулся, к окну подошел.
Снег, мороз. Деревья голые, черные. Под окном, на дворе обер-бергамта и на льду реки Исети, всюду, сколь глаз объять способен, снег дорогами, тропами исполосован, всюду копошится людской муравейник. Вон солдаты стучат топорами, вершат крышу дома гостевого, для постоя приезжих. Служивые эти, девятьсот солдатских душ, из Тобольска присланы для обережи Екатеринбурга, но пришлось их тоже заставить работать, чтоб строительство города надолго не затянулось. Жалованье солдату – одиннадцать алтын в месяц. Геннин просил у царя дозволенья платить им еще по три копейки в день за работу, да государь скостил половину, всего полторы копейки давать повелел. Из солдат многие тоже в бега ударились... На цепь, что ль, приковать людишек?
Головачев у двери ворохнулся, о себе напоминая. Все так же, в окно глядя, Геннин ворчливо сказал:
– Вот что... Башкирским и иным улусным старшинам отпиши, копии изготовь, сколь потребно: беглых имали б и в Екатеринбург под караулом гнали. За поимку оных брали б у них все их пожитки... кроме лошадей. Поисковым же командам в поимку тех беглецов всякое вспоможение чинить... Ты понял?
– Не извольте беспокоиться, все сполним.
Копошатся люди на снегу. Строится новый град российский, именем государыни-императрицы нареченный. Но не гораздо прытко, мешкотно движутся люди и лошади, мало, мало строителей, нерадивость, оплошность кругом... А поясницу ломит, голова – что котел чугунный...
– Стой, – окликнул Геннин Головачева. – Не ведаешь ли, что за арестант эвон? В цепях до тюремного каземату ведут. Сдается, рожа его уж видана.
Головачев подбежал, из-под генеральского локтя в окошко пригляделся.
– Осподи, память-то у вашего благородья каково отменна! Сей вор на Кунгуре при канцелярии пребывал малое время писцом, да по нерадивости его изгнан был...
– В чем воровство? – перебил Геннин.
– На заводе Башанлыкском, в казаках тама обретаясь, смуту затеял, крамольны речи сказывал. За то его сюды, на розыск да правеж, вчерась с железным обозом под караулом...
– Ступай.
И когда Головачев уже за собою дверь тихонько притворял:
– Стой! Вели ко мне привесть вора.
Оставшись один, глубоко вдохнул кабинетный воздух жаркий, спертый. Пробормотал:
– Душно! Свежего бы воздушку...
Давно ль дышал без опаски соленым ветром Балтики! Давно ль, силам своим не зная меры, воевал под российским флагом против Карла шведского, возводил в Новгороде транжементы, редуты, в Финляндии укрепления военные, застраивал пушечнолитейные заводы в Петербурге... Давно ль – всего двадцать годов назад – он, артиллерийский инженер, в любую погоду не страшился мчать в повозке или в седле по мерзким дорогам Олонецкого дистрикта, ставил крепко дело плавильное, сыскивал в России и в странах зарубежных себе помощников толковых, бергмейстеров, гитенмейстеров... Давно ль!
Ныне одолевают недуги. Силы уходят, страшно мороза и ветра свежего... И не счастливей ли генерала тот молодой казак-писец?.. Тому пытка предстоит. А бессилие, хворь – не пытка разве? И неведомо еще, что судьба уготовит генералу, который, столько лет в империи Российской прослужив, так казнокрадству и не обучился, богатства на старость скопить не умел...[1] 1
В царствование императрицы Анны Иоанновны бывший управитель Уральских заводов де Геннин занимался «потешными делами» – изготовлением фейерверков для бесконечных царских праздников.
[Закрыть]
Привели арестанта. Поклонился генералу в пояс – цепной каторжный звон резанул воздух душный.
– Ты кто?
– Башанлыкской полусотни казачий десятник Ивашка Гореванов.
Конторский начальник усмотрел в повадке крамольника неуместную наглость. Осадил ехидно:
– Был десятник, стал изменник, будешь покойник.
– В сем последнем чине мы все будем со временем...
– Молчать! – Геннин мотнул головой, уронив с носа каплю. – Каков гусь! – и Головачеву: – А ты не встревай, прочь поди...
– Вор опасен может быть...
– Пшел!
– Как прикажете... – Головачев скользнул за дверь.
Геннин арестанта разглядывал. И тот глаз не потупил, стоял без дерзости, но и без робости. Генералу, это не понравилось: коли в цепях ты, должон явить покорность, трепет. Хотел прикрикнуть, а – чихнул.
– Будь здрав, барин, – просто сказал арестант. – В баньку б тебе, веничком...
– Молчи! Ишь, лекарь мне сыскался.
Сел в кресло, слабость и озноб чувствуя. Отдышался. И уже не сердито:
– А ответствуй-ка мне, лекарь банный, чего тебе в казаках не жилось? Чего ради к измене склонился?
– Христианску кровь не пролил, разве то измена? За что мужиков убивать было? Не от баловства они работы оставили. От недородов, от притеснений мрет работный люд. Нешто казак должон смерти множить?
– Все люди смертны, сие истина непреходяща. Только дело, на благо отечества содеянное, остается долго на земле.
– Разве то дело и благо, когда народ бедствует и мрет? Разве то бунт, когда справедливость ищут?
– О бунте мне ведомо. Государевой казне поруха от него содеялась, потому и карать бунтовщиков неослабно надобно. Не о том любопытствую. Ответь, как посмел ты присяге изменить, приказу ослушаться? Казак присягу дает от всяческих врагов дело государево блюсти, а ты бунтовщикам потакал, сам кричал дерзко.
– Коменданта назвал изменником, так он и есть таков. Пошто вы, управители набольшие, над мужиком править бестолковых да корыстных начальников ставите? Выходит, сами вы ворам потакаете, кои народ грабят...
– Молчать! Ты мне кто, верховный прокурор?! Я присягал государю, а не народу, и совесть моя чиста!
Ивашка усмехнулся:
– Чиста, барин. Как стеклышко – и не видать ее. Под твоею высокой рукой народу тягость, государю кривда – добро ли ты служишь?
Негодование стеснило грудь: «Пред бунтовщиком оправдания себе ищу?!»
– Вон! Головачев! В каземат его! Кха, кха... хамы!!
Зазвенели цепи. Головачев вытолкал взашей арестанта. Бить плечистого парня остерегся: даром что солдат рядом, вору терять неча... Словцом ехидным кольнуть не преминул:
– Правду говорят: дураку и грамота вредна. Доумствовал, домудрил. Погоди, вздернут ужо за глупость твою!
– Не за мою, за чужую. И не меня одного, все царство за господскую глупость слезьми и кровью платит.
– И опять дурак ты выходишь. Ха, за чужую дурь, вишь, страдает! А ее во благо себе потреблять надобно...
– Знаю тебя: нашему вору все впору. Гляди, кабы не лопнул. То-то вони будет!
У Головачева более слов не доставало, а злость сверх горла подперла. Хотел в затылок звездануть, уж кулак поднял – казак, то почуя, обернулся, с усмешкой в упор глянул. Опустился кулак сам собой.
Генерала бил озноб, гнев, кашель. Прибежал лекарь Иоганн Спринцель, совал к губам пахучую жидкость в пузырьке гишпанском, брызгал водой. Геннина одели, укутали, отвели во флигель и уложили в постель. Головачев вертелся бесом, лекарю помогать тщился, утешал:
– Сему наглецу велел я батогов немедля...
– Пшел к дьяволу! Стой! Казака бить не смей! За крамолу будет розыск сугубый, а к моей хвори он не причастный. – А Спринцелю прохрипел: – Не стану вонючу пакость глотать, водки мне! Да вели баню топить.
После бани и водки лежал в поту – хоть выжми. Однако легче сделалось. Кашель не трепал. Приказал Вильгельм Иваныч свечей принесть и бумаги те, о башанлыкской крамоле, что к сыску представлены. Супругу от себя отогнал: не мешай, поди в гостиную болтать с лекарем, благо до пустословия оба охочи. Читал бумаги и думал.








