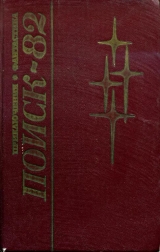
Текст книги "Поиск-82: Приключения. Фантастика"
Автор книги: Сергей Другаль
Соавторы: Феликс Сузин,Евгений Нагорнов,Владимир Белоглазкин,Александр Генералов,Владимир Печенкин
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц)
Поиск-82: Приключения. Фантастика
«Поиск-82» – третий выпуск ежегодного сборника приключенческих и фантастических художественных произведений, созданных литераторами Урала. Открывает его историко-приключенческая повесть Владимира Печенкина «Казак Гореванов». Повесть Александра Генералова переносит читателя в бурные 20-е годы, а детективная повесть Феликса Сузина рисует события наших дней.
Раздел фантастики представлен рассказами Сергея Другаля, Владимира Белоглазкина и Евгения Нагорнова, они – о будущем, попытаться заглянуть в которое всегда небезынтересно.
Сборник адресуется в первую очередь молодым читателям, хотя приключения и фантастика – жанры, которым «все возрасты покорны».
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Владимир Печенкин
Казак Гореванов
Писец Кунгурской канцелярии 1
Тимохин постоялый двор от торговых рядов стоит в отдалении. Богатые купцы, на Кунгур-городок с товарами наезжая, сюда не захаживают, они в гостиных палатах жительство имеют. Тимохины же постояльцы – из деревенских уездных народ: торговцы достатку среднего, ямщики либо гонцы с Верхотурья на Чердынь, и наоборот, духовного сословия мелкая сошка, дьячки да псаломщики, еще тобольский служилый люд, казаки. Подворье не шибко велико, да места всем хватает – и возам, и лошадям, и проезжающим. Опричь избы постоялой, есть еще и чистая изба для гостей понадежнее, потароватее... А еще хозяин, длиннорукий, ухватистый мужик Тимоха Вычегжанин, держал каморку, скрытную под сеновалом, а кого в ней привечал – про то лишь богу единому в молитвах покаянных сказывал.
Сей день во храме еще к вечерне не ударили, собрались в чистой избе люди степенные, земские служилые, тут и кунгурские жители, и из уезда.
Октябрь, на дворе сыро, холодно. А в избе печи топлены, окна заперты наглухо, рядном завешены – слово сказанное до недобрых ушей не донеслось бы. У окна стол сосновый, ладно струганный, и писец сидит, пишет борзо, с усердием. С лица парень бел, а телом худ, хоть и в кости широк. То ли хворый, то ль давно не кормленный. Рубаха на нем – ровно собаки подрали, волосья на голове – космами, как у монаха-забулдыги кабацкого. Перед ним чернильница глиняная, гусиных перьев пук, ножик, хлеба краюха да квасу бурак берестяной. Он хлебца отщипнет, кваску глотнет и дале пишет.
Супротив писца набычился земский староста Парфен Четверик: рассудителен, слово молвить складно умеет, сам разумеет грамоту. Глядит неодобрительно – эко жует парень, будто корова...
– Написал?
Парень кивает, к хлебу тянется.
– Пиши: а в казну уездные люди платят сборы таковы. Окладные с двора три рубля четыре алтына с полуденьгою. К городовому строению девять алтын и полчетверти деньги... Написал? На подряд генеральному провианту по рублю. За пустые дворы по тринадцать копеек с полушкою. На мостовое строение опять же по пятаку со двора. Да на ямскую гоньбу по десять алтын со двора. Банные по десять копеек с бани. На отвоз и на отдачу радетельного сбору по пять денег с рубля.
– Какого сбору?
– Радетельного.
– А кто кому радеет?
– Про то подьячих спроси, они за нас радеют. Пиши знай, не то, гляди, перо с хлебом сжуешь... Да опричь казенного платежу, берут чины Кунгурской канцелярии многие сборы для безмерной корысти своей, с великим пристрастием и боем. А подьячий Савва Веселков неведомо по какому указу сбирает во всем уезде по пяти алтын и две деньги со двора да еще и бьет на правеже батогами смертным боем. От тех поборов неправедных пришли уездные люди в скудость, и лошадей, и коров, и хлеб продают мелкою ценой. А те, кому платить и продавать нечего, оставя домы свои, разбежалися.
В углу сидевший Медынского острожка сотский Никита Ширинкин выкрикнул:
– Ныне велено по уезду искать медны да железны руды, кирпич возить тож. У мужика свой воз, да ишо б чужой повез – нешто справедливо?!
Парфен на крикуна бородой мотнул:
– Погодь! Мы кому челобитную пишем? Главному начальнику горному да заводскому. Ему царь велел руды сыскивать, а ты, выходит, перечишь цареву указу? Не надо про сие, парень, разгневается генерал.
Выборный Торговишского острожка Ларион Дунаев негромким стоном вымолвил:
– Про нас, Парфен, про нас обскажи.
– Валяй про них. В Торговишском-де острожке тот подьячий Савва Веселков бил крестьянина Слудкина Ивана плетьми и из своих рук дубиною, и говорил всем мирским людям и выборным: ежели они не дадут ему рубля, он их всех до смерти побьет.
Ширинкин опять:
– Эй, верхотурец, а ишо пропиши: дерут с народа деньги на подношение генералу. Отколь взять?!
– Какому генералу?
– Который сюды главным управителем едет. На подарки ему.
– Это которому вы челобитную-то сочиняете?
– Ему.
– Эва! Бьете челом против лихоимцев, а он, выходит, сам лихоимец!
Мужики завозились, зачесались. Смирный Ларион Дунаев жалобным тенорком состонал:
– Куды денешься? Он большой начальник, дать надобно. Только Веселков заберет себе половину...
– Эх вы. – Писец головой покачал, жалеючи. – У кого управу ищете...
– Не пиши про то, – угрюмо сказал Парфен. – Не дело ты молвил, Никита.
– Про все пиши! – кричал сотский. – Пущай хошь единова узнает генерал мужицкую боль! Он в наших местах господин приезжий, а нова метла по-новому метет. Пущай сам с нас берет, а Савке не велит.
Мужики зашумели: писать – не писать? Парень отложил перо, пил из бурака, тек квас на рваную рубаху...
Сочинять покончили в сумерках. Мужики поднялись с лавок, покрестились на образа: пошли, господи, челобитной ход, мужикам – генеральскую милость, а челобитчикам – кнута б не отведать...
Остались с писцом Парфен да Никита Ширинкин. Засветили свечу. Парень хлебные крохи собрал в горсть, съел. Вытер столешню рукавом, принял, от Парфена чистый лист, челобитную переписать набело. Вывел:
«Начальнику казенных заводов генералу маэору господину де Геннину».
Парфен полюбовался, похвалил:
– Баско пишешь. Где научился?
– В Верхотурье, при монастырской канцелярии.
– Ты из посадских али кто?
– Шадринской слободы крестьянский сын. На Верхотурье в землянке жили. В перву же зиму маменька померла, а к весне и родитель. А я вот, бог знает на что, выжил. Отец игумен и взял в монастырь из милости, отец же Евмений бил без милости – при эких-то отцах я и грамотным стал.
– Везло тебе, парень!
– Не знаю... Я так рассудил: конюшня чище канцелярии, а самая худая лошаденка все ж отца келаря честнее. Стал я в ямщики проситься... С полгода били, потом надоело, выгнали. Подал воеводе прошение, поверстали в ямщики, казенну лошадь дали...
– Звать-то как?
– Ивашка.
– А прозванье?
– Гореванов.
– Сказывай, Иван-Гореван, мы послухаем.
Иван Гореванов заговорил без охоты:
– Ну, ездил я в острожки, в городки... А в последний раз на Соликамск, воеводе ихнему вез депеш. Оттель меня в обрат с отпиской. Потрафил как раз на Верхотурье обоз купецкий, малый, и я с ним – все не одному чрез леса ехать.
– Оно того... Развелось в лесах воров, что комаров.
Сотский на Ивана покосился:
– Мужику невмочь при пашне своим домом жить, оттого и бегут в ватажки. Ну?
– Краше б одному ехать... Прошлый год осенни дожди почались рано, дорога водяна, мосты худы. Лошади заморилися. Косьву-реку миновали, на Павдинский камень уж выйти – тут они и встретили нас. Под вечер было. Я на дороге бывалый, передом ехал. Гляжу, будто мелькнул в чащобе... Не зверь, не вогул, человек в кафтане, кажись... Хотел товарищей упредить, а тут крик, из лесу выбегли с кистенями, с топорьем. Хлестнуть бы мне по лошади, в бега прытче удариться, цел бы остался: возок без клади, на что я нужен. Да гляжу – товарищей счас порубят! Я за топор... А меня кистенем и достали. Вот она, памятка... – Иван разгреб на темени, грязные космы. – Ничего не помню боле...
Иван схватил бурак, сглотнул опивки. От взмаха заколыхался огонек свечи, на белом лице Гореванова задрожали синеватые тени, жиденькая бороденка ходуном ходила. Никита вздохнул:
– Во жизня распроклята! Сверху свора чиновная давит да рвет, снизу погань разбойная грабит да бьет, а мы, народ работный, посередке сдавлены, и не у кого защиты искать.
Парфен толкнул сотского:
– Поди-ка, братец, принеси Ивану кваску. И хлеб, покуда бумагу перебелит.
Никита ушел. Парфен обнял Ивана за плечи.
– Скажу я тебе, парень... Вишь, один ты на белом свете. На Верхотурье торопиться не для ча – там тебя за покойника считают. Так что, родименький, яви таку божеску милость, потрудись для миру крестьянского. Не обидим, ежели все обойдется... Приоденем, денег тебе наберем с алтын, в дорогу на корм...
– Ты про что, дядя Парфен?
– Да про челобитную же.
– Счас перебелю.
– То само собой, как уговорились. И ежели согласный будешь... Мы б тебе щец с убоинкой сколь захочешь! Винца надобно – так и винца бы...
– Спаси тя Христос, дядя Парфен! Да не пойму, за что мне...
Парфеновы глаза по углам зарыскали, затомились.
– Хм, того... Стало быть, Ванюша, энтого...
– Да чего?
– Отнес бы ты челобитную-то нашу, а? Генералу, де Геннину то есть. Сам рассуди, милай, тебе сподручнее: ни кола у тебя, ни двора. Опять же, ни бабы, ни лошади. Отнять неча. А у нас же домы, робятки малые...
– Под генеральское зло мою голову кладете? Славно! Али две шкуры у меня? Запорет генерал...
– Не должон бы, Ваня, шибко пороть-то... Насмелься, Ваня, бог тебя боронит, сироту!
Сотский принес хлеб и квас.
– Ежели опричь меня во Кунгуре храбреца ни единого... Пойду.
2
В сенях Татищев столкнулся с Осипом Украинцевым.
– Эко скачешь! Резвость такова не по чину тебе, Осип. Помощнику генеральскому шествовать с важностию надлежит.
– Ох, не по мне чин сей, Василий Никитич! Сержант я, не рудознатец, мне б при баталии из пушек палить. Прими, Христа ради, должность мою! В горном деле ты горазд, у господина Геннина в фаворе...
– Да от Питербурха в опале. Не чинов мне, а кабы тюремного харча не отведать.
– Ништо, новый начальник де Геннин сыщет демидовские неправды.
– Сыщет, нет ли, бог знает. А покуда терпи, Осип, на то ты и гвардии сержант.
Татищев оправил мундир, вошел в зал канцелярский. За двумя длинными столами корпели над бумагами писцы: новый начальник казенных заводов Георг Вильгельм де Геннин, едва успев ступить на землю уральскую, принялся за дела и прежде всего готовил рапорт о прибытии своем. Надсмотрщик Головачев вдоль стола ходил, диктовал:
– ...Машинный кузнец Наум Вигуров, колесник Антон Соболев да горных дел ученик Иван Ефремов в пути на реке Каме умре.
Надсмотрщик оглянулся на дверной скрип, поклонился. Подьячие и писцы встали. Татищев кивнул им, в кабинет прошел.
Управитель де Геннин, крупный, дородный, сидел в мягком кресле, вытянув ноги в черных шерстяных чулках до колен, облокотясь на стол, заваленный бумагами, чертежами, каменьем грязным всевозможным – здешних руд образцами.
Руку в кружевной манжете протянул:
– Входи, Никитич, входи. Каково здравствуешь? – Поворошил на столе бумаги, одну подал Татищеву.
– Еще челобитная получена. Супротивника твоего Демидова обличают в ней.
Генерал де Геннин, почти четверть века в службе российской пребывая, изъяснялся по-русски свободно, иной раз и бранился под горячую руку не хуже здешних приказчиков. Челобитная же, которую читал Татищев, хоть и по-русски писана, но буквы наполовину иноземные, слова тоже. Бергмейстер Блиэр жаловался новому управителю, что Акинфий Демидов чинит противности казне, а служителям казенных заводов от него в письмах и словесно поношения срамные и обиды. Татищев дочитал, со вздохом положил бумагу на стол.
– Каков! – Геннин сердито ткнул в бумагу пальцем. – Наглости у тульского мужлана в преизбытке! А и то сказать, пошто б ему наглым не быть? Понеже его заводы, а не казенные, государю отменное железо дают в изобилии. В противоборстве нашем он. победитель. А победителей не судят, хотя и зело надобно бы...
– Имею надежду, Виллим Иваныч, что под вашим попечительством пойдет с казенных заводов железо изряднее демидовского, – поклонился Татищев.
– Послужу государю, сколь сил моих станет. Мало у меня людей честных, в горном деле понятием одаренных. Всюду лихоимцы, яко тараканы ползают. Вот и сей день в канцелярию две челобитные поданы...
Толстые, в перстнях пальцы мяли, комкали синюю скатерть, и оттого челобитная бергмейстера Блиэра шевелилась, топорщилась, ползла к Геннину. Татищев сказал вполголоса:
– Две челобитные? А и третья, Виллим Иваныч, у ворот дожидается. Малый там...
– Все жалобы в канцелярии подавать надлежит.
– Мужик канцелярии не верит. Тот малый и мне отдать не захотел, не доверил. Явите такую милость, прикажите звать сего упрямца.
Управитель насупился. Тяжело сидел в кресле, расставя ноги, под распахнутым камзолом вздымалась дыханьем натужным белая, голландского полотна, рубаха на широкой груди. Человек он видом могутный, здоровьем же не весьма крепок, и дорога измотала его.
– Мужик с прошением?.. Коль ты за него ходатаем, так и быть, вели ему войти... Каков упрямец, канцеляристам моим веры не имеет! А и правильно делает...
Татищев встал, поклонился низко – невзирая на благосклонность Геннина, он вольностей себе не дозволял, – дверь приоткрыл, велел позвать мужика.
Проситель вошел. Перво-наперво на образа перекрестился. Потом господам отвесил поклон, коснувшись половика пальцем. И встал у двери. Молод, лицом невзрачен, синий зипун висит на нем, как на колу. Супротив дородного генерала – ровно соломинка перед снопом. Глядит без робости, с любопытством.
– Говори, на кого извет принес, – дозволил Геннин.
– Не извет – святая правда в бумаге прописана.
– Отчего в канцелярию отдать не хотел?
– Таков наказ имел от людей кунгурских: в собственные чтоб руки, а боле никому.
Татищев челобитную принял, Геннину подал. Вскинув голову, далеко бумагу держа, управитель стал читать. За дверью, в канцелярии, невнятно звучал голос надсмотрщика. Тихо шипела лампада пред образами.
– Гм! Складно и красовито писано. Кто сочинял сие?
– Я сочинял. И писал я же. Правду писал.
– Где ты, мужик, столь преизрядно грамоте учен?
– В верхотурском монастыре Никольском.
– Какова ж тебе корысть за чужой уезд радеть?
– Пошто за чужой? Кунгурцы и верхотурцы, одному мы богу молимся, беды терпим одинаковы...
Управитель тяжело поворотился в кресле, на парня набычился.
– Как звать?
– Ивашка Гореванов.
– Гореванов ты и есть, поелику много битья примешь – язык остер не по чину... Ямщик ты? Ямщику много ли слов надобно: коня бранить, коль дорога плоха, да богу молиться, коль жив доехал. Но к писарскому делу у тебя талант несомненный. Глянь, Никитич, сколь пригоже начертано, буквицы ятные, слог хорош. Головачев! – гаркнул управитель. Надсмотрщик явился тотчас, во фрунт вытянулся. – Сего грамотея, – махнул бумагой на Ивашку, – возьми в канцелярию копиистом. Писцы нам зело надобны.
Головачев парня по затылку двинул:
– Благодари, дурак, кланяйся!
– Батюшка! – парень завопил. – Пошто меня в писцы? Сделай милость, приставь лучше к лошадям, хошь конюхом! Не свычен я по канцеляриям сидеть...
Геннин ногою топнул.
– Головачев! Сведи на конюшню, коли сам того просит. Да всыпь кнутом по заду, чтоб не мудрствовал. А после того веди в канцелярию, пущай стоя пишет, ежели сидеть не свычен.
Надсмотрщик сгреб парня за шиворот, словно кот воробья, едва не на весу из кабинета выпер. Управитель глянул на Татищева не то гневно, не то с укором.
– Видал? Говорит, в бумаге сей правда писана!.. Смерд полудохлый мужицкую правду принес! А что мне с нею делать? Кому на Руси правда нужна?! – потряс над головою бумагой, хотел на стол кинуть, да передумал, опять в строки воззрился, сопя и хмурясь.
Татищев с делом пришел, но, видя Виллима Иваныча нерасположение, почел за благо удалиться, встал.
– Куда? Ты надобен мне. На вот, чти от сего места, – протянул челобитную. Сам вскочил, заходил от стола к печи, бранясь по-русски и по-немецки.
– Прочел ли? Каково? Новому управителю на подношение – то бишь мне! Мне! С народу деньги взимают! Едва ногой ступил, а уж всему краю ведомо: Георг Вильгельм де Геннин вор и взяточник! Ах мерзавцы, канальи! Писать указ немедля!
Хлопнулся в кресло, ногами сучил, плевался, выкрикивал слова указа с бранью пополам. Василий Никитич писал, крепкие слова упуская.
«Ежели кто учнет неуказанные зборы раскладывать и збирать, будто бы мне, генералу маэору, или при мне обретающимся служилым мастеровым людям и канцелярским служителям в поднос, называя в почесть, и по таким запросам ничего не давать (генерал маэор такое тут присовокупил, что гусиное перо кляксами брызнуло, а Татищев фыркнул!) и доносить, понеже те с миру собранные деньги и протчее не токмо мне не потребны, но и другим при мне обретающимся под великим страхом брать запрещено!..»
Дописав, Василий Никитич поставил дату:
«Писано на Кунгуре 1722 году октября 16 дня».
3
В ноябре новый управитель вкупе с прежним, Татищевым, отбыл в Соль-Камскую для осмотра мест рудных и к строению заводскому пригодных. Надлежало также и Пыскорскому медеплавильному заводу осмотр произвесть, ныне заброшенному. И далее двигать – на Уктусский завод. На Кунгуре до поры до времени остались двое писцов да за всеми делами доглядчик Осип Украинцев. Помощник геннинский снаряжал на Уктус обозы со всяким припасом, с машинами мудреными, с пожитками мастеров иноземных.
Ноябрь сыпал снегом ранним, в сугробах присели под ветром избы. А Осип Украинцев в одном камзоле взопрел, пока очередной обоз снарядил да проводил, дождался, пока последние сани отъехали, крикнул приказчику, чтоб запирал амбар, сплюнул с облегчением и перекрестился на деревянную колокольню Великомученицы Параскевы-Пятницы. Накинул поданный приказчиком тулуп, пошагал к избе.
На крыльцо взойдя, услышал за двойными дверьми канцелярии возню превеликую: стуки, топот, будто в присутственное место лошадь привели. Рванул дверь.
У стола писецкого на полу сидел подьячий Фома, бороду задрав, нос разбухший щупал. В углу надсмотрщик Головачев норовил достать кулаком по скуле Ивашку-копииста. Парень весьма успешно наскоки отбивал, до себя не допускал. Присутствие канцелярское в непорядке: скамьи повалены, на столе чернила пролиты, песочница глиняная разбита, а на полу возле ног Фомы валяется кверху лапками гусь ощипанный, яиц побитых с дюжину.
Осип подьячего Фому за шиворот на ноги поднял, двукратно по щекам хлестнул:
– Коли слаб – не встревай, а встрял – под стол не падай. Соромно двум эким боровам против одного парнишки на ногах не устоять.
– Бешеный он! – гундосил Фома.
Украинцев, с утра при обозе вдоволь набранившись, благодушно взирал на погром канцелярский. Гласом трубным спел сигнал отбоя.
– Тру-ру-рум, тру-рум! Эй, гренадеры чернильные! Отвести полки на исходные позиции!
Головачев опомнился, Ивашку отпустил.
– Пошто баталия сия? – ухмыльнулся Осип.
Головачев дышал со свистом, отвечал неохотно, смущенно
– Прикажи вязать оного разбойника, господин сержант! Меня да Фому лаял всяко, бунтом грозил... Злоумышлял противу властей!
– О! Это вы с Фомою власти? Да как он посмел таких важных господ по сопаткам бить!
Осип на лавке расселся, тулуп распахнул. Потешно глядеть, как Фома гусиным пером скребет с пуза яичную желть. А Ивашка-то удал копиист! Сам – соплей перешибить, а двоих ражих канцеляристов изобидел. В настоящей полевой баталии такие молодцы и сотни подьячих стоят. И какой там, к черту, бунтовщик он. Но дурак безрассудный.
– Ну-ка, подь сюды.
Копиист подошел. И ведь никакого в нем страху! Широкие плечи костлявые не съежил, глазом не сморгнул – либо совсем невинная душа, либо шельма изрядная. Сержант было длань уж воздел, а не ударил. Лишь за ухо взял, повлек в кабинет генеральский, а ныне его, Осипа, кабинет. Дверь захлопнул, копииста к стене прислонил, сам в кресло плюхнулся, брюхо выпятил, как генерал Геннин.
– Ты пошто начальников лаял? Пошто Фому под стол загнал?
– Господин сержант, они бить зачали, а я не дался.
– За что хотели бить?
– Генерал приказать изволил, чтоб лихоимство подьячего Веселкова и прочих они доподлинно выявили. А Головачев с тем Савкою Веселковым стакнулись. Фома посулы принимал, курей, гусей, яйца... Нешто оно по правде деется?
– А ты правду кулаком нащупывал? Ну, братец ты мой, хошь я не ворожея, а твою судьбу предреку: быть тебе биту на веку многократно за глупость либо умность твою. А коли так, то и науку откладывать не след – ступай к Головачеву, пущай тебе плетей отмерит. Пшел!
Украинцев потянулся, сладко позевнул, зажмурясь. От тепла в сон клонило. Еще один обоз, предпоследний, отправлен, еще одна гора с плеч. Приятственно, черт дери, после трудов праведных сидеть в жарко натопленном кабинете, в кресле мягком... И кабинет, и кресло – генеральские, а Осип Украинцев всего лишь сержант... Залетела ворона в высокие хоромы! Геннин да Татищев едва узрят здешние руды, каменья рыжие – кидаются на них, как пьяница к водке... Украинцев в горном деле человек несмышленый, и послать бы сии дела к черту...
– Господин сержант!..
– А? Ты все еще тут! Пшел!
– Отпусти меня, господин хороший!
– Я и отпущаю. Поди скажи, чтоб тебе дюжину плетей всыпали.
– Совсем отпусти. На Верхотурье, в ямщики опять. Я лошадей люблю.
– Ах, лошадей возлюбил боле, чем подьячих? В тепле, в сытости – чего не живется?
– Не ко двору я тут пришелся.
– А ты придись.
– Взятки брать, у бедняков последнее отымать, как иные, не приучен. Не ко двору, одно слово.
– «Не воруя, не ко двору я», – передразнил Осип, улыбнулся своему остроумию; Подумал: «Я вот тоже не ко двору...»
– Вот что, Иван-Гореван. Состоишь ты в службе государственной, вот и служи, привыкай. Терпи, казак, атаманом будешь... О! – вспомнил сержант, громыхнул кулаком в подлокотник генеральского кресла. – О! Драться ты мастак, лошадей паче людей уважаешь. А велено меж тем сыскать из гулящего люду казачьего десятника толкового на завод Башанлыкский. Ты толковый, хотя и чрезмерно иной раз. Да ништо, в Башанлыке башкирцы-воры саблями тебя пообтешут, в разум вгонят. Поедешь с оказией на Башанлык. А допрежь сего велю тебя, однако, выдрать.
Ивашка поклонился, как и генералу не кланялся, с почтением искренним.
– Башкирцы, поди, не зловреднее крапивного семени канцелярского. А пороть меня не надо бы: на побитом заду в седле сидеть неудобно...
– Востер ты, писец бывый, казак будущий! Ин ладно, сохраню твой зад. Ступай.










