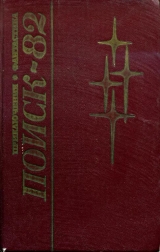
Текст книги "Поиск-82: Приключения. Фантастика"
Автор книги: Сергей Другаль
Соавторы: Феликс Сузин,Евгений Нагорнов,Владимир Белоглазкин,Александр Генералов,Владимир Печенкин
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
За день высокие сугробы превратились под лучами весеннего солнца в жалкие кучки грязного снега. Андрей Емельянович медленно брел по городу. Названия улиц входили в сознание как привет из прошлого. Казалось, завернешь за угол и столкнешься с вихрастым Андрюшкой Кулагиным в бобриковом пальтеце, который, шмыгая носом, скользил когда-то подшитыми пимами по этим тротуарам. Но тротуары были не те и дома не те. Изредка, когда встречались старинные приземистые здания в купеческом вкусе, вспоминалось что-то смутное, неопределенно-щемящее и тут же угасало. Лишь когда он подходил к дому знаменитого декабриста, то невольно приостановился и почувствовал сердцебиение, словно должен был встретиться с любимой женщиной после двадцатилетней разлуки. Но солидный и просторный дом, который величественно возвышался в окружении столетних вязов, исчез. На его месте глухо ухал копер за дощатым забором; бетонная свая нехотя лезла в промерзшую землю. Вязы сохранились, их сберегли, не тронули. На одном – третьем слева – когда-то было, вырезано «Андрей + Люся = любовь». Кулагин подошел к дереву. Мудрое время смыло надпись, затянуло черной корой. И правильно. Категоричные утверждения не имеют права на вечность. А ведь, кажется, жить без этой Люси не мог.
Он вышел на площади совершенно незнакомую. Стылый ветер гнал над головой низкие лохматые облака. Слева, среди чахлых берез, что-то строили – трещала голубым огнем сварка; справа отблескивало стеклами плоское здание универмага, довольные женщины несли большие коробки с обувью; у лотка вилась очередь: продавали японские нейлоновые куртки. Двое первоклашек на ходу ели мороженое из одного стаканчика. Город торопился, жил, радовался.
Андрей Емельянович отстраненно наблюдал за этой чуждой ему жизнью, она текла мимо, не задевая. Да и как могло быть иначе, если мороженое уже не положено по возрасту, если не возникает трепетной дрожи при виде желто-зеленого нейлонового чуда с множеством застежек и пряжечек, если любая очередь вызывает оторопь и отвращение и хочется, честно говоря, лишь одного – поскорее вернуться домой, опять вдохнуть пахнущий пищеблоком и хлорамином родной воздух больницы. Отдыхать тоже надо уметь, не всем дано...
Не зная, куда себя девать, Андрей Емельянович забрел на автобусную остановку; бесцельно скользящий взгляд на миг задержался на желтой табличке: «Центр – Ряхово». «Почему бы не съездить в Ряхово и не глянуть свежим взглядом на то место, – посмеиваясь над собой, подумал Кулагин. – Таким дилетантам, как я, разумеется, далеко до профессионалов, но зато мы лишены предвзятости, у нас нет привычных схем». Мысль понравилась: а вдруг он действительно увидит что-то, мимо чего проскочил ко всему привыкший глаз сыщика? Чем черт не шутит, делать-то все равно нечего...
Так он оправдывался перед собой, трясясь на заднем сиденье автобуса, а между тем азарт нарастал и уже виделись Андрею Емельяновичу чьи-то следы на задворках, волосатые руки, гребущие к себе пачки с деньгами. Из автобуса он выскочил первым и быстро пошел, почти побежал по раскисшей улице.
И как назло, возле самого магазина чуть не столкнулся с Бутенко. Лейтенант заулыбался, подмигнул:
– Что, и вас затянуло, да? Эге ж! В такое дело только вникни, потом, как от вареников с вишнями, за уши не оттянешь. Интересное кино!
Держался он вольнее, чем на совещании, и казалось, неожиданная встреча доставила ему какое-то удовольствие.
– Вот и меня захватило, – радостно продолжал Бутенко, шлепая по лужам чугунными сапогами. – Поначалу, конечно, обидно было, что на моем, как говорится, безаварийном участке такое происшествие. Показатели испортило окончательно. Но с другой стороны, – большой кулак лейтенанта застыл на уровне глаз Кулагина, – с другой стороны – интересное кино! Так забрало, что аж мозги трещат. До-ко-паться надо: кто да зачем! Постигну! Обязательно! – Он остановился возле дома с голубыми ставнями, расписанными затейливым белым узором. – Все равно преступник далеко не уйдет.
– Так же, как и я, – сказал Андрей Емельянович, кривя губы от того, что в туфли проникла жидкая смесь воды и снега. Ему уже было стыдно, что он, подобно мальчишке, возомнил себя чуть ли не доктором Ватсоном, но особенно угнетало, что участковый инспектор догадался об этом.
– Не понял юмора. – Бутенко с подозрением посмотрел на него.
– Какой к черту юмор, – огрызнулся Кулагин. – Не до него. Я ноги промочил; так и простудиться недолго по теперешней погоде. Посушиться б не мешало.
Взгляд лейтенанта потеплел, но тут же наполнился некоторым превосходством – несерьезно это, чтобы мокрые носки стали поводом для беспокойства. Все же он чувствовал себя как бы хозяином, а Кулагина гостем, поэтому предложил:
– Зайдем сюда, обсушитесь, – показал на дом, возле которого остановились. – Здесь Демин жил. Я как раз с хозяйкой хотел поговорить, кое-что выяснить.
Дверь оказалась запертой, на стук никто не откликнулся.
Они прошли через весь двор к низенькой мазанке, убого смотревшей на божий мир кривым глазом единственного оконца. Здесь и обитал совсем еще недавно Демин. Дощатая, обитая изнутри рваной клеенкой дверь тяжело повернулась на петлях. Пахнуло погребным холодом, плесенью – нежилым. Тусклый свет лампочки под потолком еле пробивался сквозь многомесячный слой пыли. Кулагин не решился присесть и выжать носки – так отталкивающе грязны были и колченогий засаленный табурет, и серое с выбитым ворсом одеяло на железной облупленной койке.
– Вот второй раз стою и думаю: на что ему была потребна та жизнь? – сказал Бутенко. – Неужели только для того, чтоб, наглотавшись вина, дуреть одному в этой конуре? И так каждый день.
– Пытаешься понять, в чем смысл жизни, даже такой, искалеченной?.. – с грустью спросил Кулагин. – Да, такие мысли всегда приходят в голову, когда встречаешься со смертью лицом к лицу.
Они вышли. Кулагин, под впечатлением увиденного, заметил, что смерть всегда ошеломляет, потому что, столкнувшись с ней, человек вдруг осознает – придет и для него этот час. Хорошо, что думает он так недолго, ибо не может представить, что его не будет. Умом он, конечно, понимает, что умрет, но осознать это дано не каждому. Природа поступила мудро, заложив в нас такой охранительный психологический парадокс, иначе, возможно, исчезла бы радость жизни и желание продолжать свой род...
Бутенко вежливо слушал, посматривал с сочувствием на посиневшее лицо Андрея Емельяновича. И вдруг бесцеремонно прервал его рассуждения о бренности жизни.
– Обогреться вам надо, – решительно заявил он. – Зайдем сюда, – и свернул в сторону крепкого дома с резными наличниками. – Кстати, я кое-что уточню.
Однако погреться Кулагину не удалось. На крыльце гремела ключами рослая женщина с неприветливым лицом.
– Дарья Семеновна, добрый день! – наигранно бодро крикнул Бутенко. – Зайти к вам по делу можно?
– Знаем ваше дело, – буркнула мрачная Дарья Семеновна, не оборачиваясь. – Опять небось пришел насчет жильца выспрашивать. Человек после операции лежит, а вы все ему покоя не даете. Нехорошо так, не по-божески.
– Да я только хотел узнать, когда его выпишут, – смутился Бутенко.
– Когда надо, тогда и выпишут. Я не доктор, не знаю, – Дарья Семеновна защелкнула последний замок. – Иди, милый, с миром. Некогда мне, в больницу передачу несу. Сказать, что ль, жильцу, что ты приходил?
– Не стоит, пожалуй. Зачем волновать человека, – вздохнул Бутенко и покосился на Кулагина.
– Хозяйка Крошкина, – объяснил он, когда отошли.
– Я догадался, – Кулагин равнодушно кивнул. Ему уже было все равно: Крошкин ли, Демин ли; ноги онемели, утратили чувствительность.
Завернув за угол, Бутенко показал Кулагину на большой под шатровой крышей дом, который прямо-таки кичился благополучием владельца. Об этом говорили и фасад, отделанный светлой еловой планкой, и бетонная ограда, и зеленые, выходящие на улицу ворота гаража, и резной флюгер на коньке.
– Розы Ивановны, завмагши, – сказал лейтенант многозначительно. – Кре-епко живет. С каких вот только доходов, интересно знать.
– Муж, наверное, старается, – сказал, ежась от сырого ветерка, Андрей Емельянович, которого сейчас доходы Розы Ивановны совершенно не интересовали.
– Му-уж? – протянул Бутенко. – Да их тут перебывало – по пальцам не сочтешь. Так сказать, временно исполняющих обязанности. Вот и Мишуня, говорят... Очень она его приваживала одно время; даже, пожалуй, больше, чем других, которые раньше были. А потом – словно нож между ними положили. Дела-а-а.
Он принялся размышлять вслух о привередливости современных женщин, вытекающей из чрезмерной самостоятельности; о капризах, причудах и вздорности, как следствиях этой самостоятельности, и умолк только, когда дошли до конца поселка. Дальше было поле, прочерченное редкой цепочкой телефонных столбов, которые где-то вдали, у горизонта, упирались в темную полоску леса. Безмятежную чистоту почти не просевшего здесь снега портила большая куча строительного мусора, увенчанная голубым эмалированным тазом без дна. Рядом с ней, огибая замерзшее болотце, на котором покачивался от ветра высохший камыш, бежала тропинка, как бы приглашая войти в крайний домик – небольшой, всего на два оконца по фасаду, но ухоженный, с недавно выкрашенной суриком крышей.
И тут разбитной лейтенант вдруг смущенно затоптался на месте и даже вроде бы стал заикаться.
– Вы, Андрей Емельянович, скажите... что инспектор, ладно? Вы, значит, инспектор... прописку, например, проверяете. Паспортный режим... Мою работу то есть. А я с вами, значит, по обязанности. Ладно?
Кулагин, недоумевая, кивнул головой. Ради получаса пребывания в тепле он согласен бы выдать себя за папу римского, не то что за инспектора милиции.
Постучав, они вошли в сени, и Бутенко принялся с неожиданной тщательностью вытирать о веревочный половичок свои забрызганные сапоги. Дверь распахнулась, на миг выглянула молодая женщина в халатике, который был едва запахнут на ее крупном теле; женщина испуганно ойкнула и исчезла, оставив дверь открытой. Выждав для приличия минуту, Кулагин и Бутенко вошли в небольшую, жарко натопленную комнату. Кулагин сразу почувствовал сонную истому; многострадальные ноги налились тупой тяжелой болью. Он двинулся было к печке, но, заметив, что лейтенант присел на табурет и, кряхтя, стягивает сапоги, тоже скинул туфли.
Женщина, уже успевшая надеть платье и подобрать волосы, выскочила с кошачьей плавностью из-за занавески. Ее зеленые глаза недобро блестели.
Бутенко вскочил с табурета.
– Ш-што, Леонид Матвеич, никак забыть дорожку ко мне не можешь? – сквозь зубы прошипела женщина. – Понапрасну ножки бьешь. Что было – забудь и не вспоминай. Твое время кончилось... Нечего было подлости всякие устраивать. Небось, когда Валю чуть в тюрьму не засадил, сердце от радости колыхалось: как же, убрал с пути соперника! Ан вышло наоборот. Только тогда я его и полюбила. А ты, милиция, остался при пиковом интересе.
Бутенко прошел к столу, опустился на стул, устало вытянув ноги с большими ступнями, в серых домашней вязки носках, грубо, по-мужски залатанных на пятках.
– Ох, Софья, – хмуро улыбаясь, сказал он, – не можешь ты без выкрутасов. Вечно все у тебя мыслится через любовь да через всякое ухаживание, ревность да поцелуи. Вроде людям больше и заниматься нечем. Пришли мы к тебе с товарищем... инспектором от чистой, так сказать, души...
– Знаю я вас, мужиков, – перебила она все еще яростно, но уже с меньшим напором, – знаю, зачем ваш брат к женщине ходит... Уж не сватать ли ты надумал? – В голосе ее прозвучала игривость.
Бутенко посмотрел на Софью с укоризной: зачем, мол, ворошить прошлое, растравлять старые раны. Уже не верилось, что был когда-то теплый вечер, желтые огни клуба позади, мягкая трава в саду, которая цеплялась за сапоги, жаркое дыхание рядом, шепот: «Ох, Ленечка, какой же вы сильный!» Он тряхнул головой, отгоняя наваждение, и прикусил губу.
– Вы, гражданка Актаева, свои шуточки бросьте, – сказал он противным служебным голосом и ужаснулся, понимая, что уже теперь-то путь в этот дом ему заказан. – Мы к вам по важному служебному делу, и попрошу соответствовать.
Лейтенант вынул из планшетки чистые листы бумаги, положил рядом шариковую ручку, как бы готовясь писать протокол и подчеркивая тем самым официальность своего присутствия.
– А мне все ваши дела до лампочки! – довольно непочтительно заявила Софья Актаева. – У меня свои дела! И вас я к себе в дом не приглашала.
Бутенко печально вздохнул.
– Будете вы, Соня, иметь за свой язык крупные неприятности. Вот товарищ инспектор подтвердит, – он умоляюще глянул на Кулагина.
Разомлевший в тепле, Андрей Емельянович, набычившись для солидности, важно кивнул. То, что происходило здесь, вряд ли имело отношение к ограблению захолустного магазинчика или смерти несчастного Мишуни. Извечная борьба мужчины и женщины, не то любовь, не то ненависть. Его это не касается.
– Так вот, гражданка Актаева, – продолжал приободрившийся лейтенант. – Спрашиваю вас со всей серьезностью: когда и при каких обстоятельствах видели вы в последний раз Валентина Шмакова?
Совершенно неожиданно Софья расплакалась. Слезы ручьями текли по ее нежно-белому, в голубых прожилочках на висках лицу, омывая редкие конопушки, и вся она была в этот момент такой беззащитной и беспомощной, что у Кулагина защемило сердце. Он встал, подошел к ней сзади, мягко ступая разутыми ногами.
– Ну что вы... Из-за чего плакать-то? Совершенно невинный вопрос. Для вас ничего обидного. Успокойтесь.
Она резко повернулась к Кулагину, и слезы, будто их и не было, вмиг высохли на ее глазах. Они смотрели зло и вызывающе.
– Ничего обидного?! Эх вы, инспектор! Да этому, – кивнула на Бутенко, – Валя Шмаков – что кость в горле. Не успокоится, пока не засадит. Один раз уж пытался, да не вышло, завод отстоял. Там небось понимают, какой Валя человек и какой кузнец. Был даже на доске Почета. А вот ваш сотрудник, участковый инспектор Бутенко, считает, что место Шмакову не на доске Почета, а за решеткой. И все из-за меня... Да, да, из-за меня, потому что я полюбила Валю. И он меня любит. А этот вот, – она с ненавистью глянула на вконец растерявшегося лейтенанта, – все никак простить не может.
Бутенко вскочил, замахал руками, чуть не задевая низкий потолок. И хоть понимал, что Софью не убедит, что ведет себя не по-мужски, удержаться не мог.
– Да пойми ты, – выкрикнул он, – пойми, таких любовей у него по две на каждой улице. Ты и сама это знаешь. Знаешь, молчишь и прощаешь. – Прошелся взволнованно по комнате. – Ты вот говоришь: «Чуть не засадил Валю!» А я твоего Шмакова, считай, за уши из тюрьмы вытащил, когда он, куражась, невинного человека в прорубь загнал. Загремел бы этот оболтус Валечка за злостное хулиганство как миленький. Тебе, конечно, лестно – вон, смотрите, как из любви ко мне парень выпендривается. А по-моему, это не любовь, а сплошная уголовщина и распущенность... И пьянки эти вечные. Тоже мне – «душа гуляет»! Грош цена такой душе! Впрочем, разбирайся теперь сама. Как говорила моя бабушка: «Видели глазки, что покупали, – ешьте теперь, хоть повылазьте». Извини уж за грубость.
Он остановился перед ней, красный, обиженный, но, стараясь выглядеть спокойным, стал втолковывать:
– Ты зараз, Сонечка, пойми, я не против твоего Валентина, видать, судьба, что ты с ним. Но в поселке, сама знаешь, кто-то крупную шкоду сделал. Ясно, я ищу, такая моя работа. А Валентин дома не ночевал – кого ж спрашивать, как не тебя?
Врачи, юристы и священники требуют полной откровенности в делах весьма интимных. На лице Софьи отразилось мучительное сомнение, стыд и злость. Прикрыв веки и вздохнув, словно решившись ступить в воду, она сказала:
– А-а, черт с вами! У меня он был ночью. Что правда, то правда – у меня, чего ж теперь скрывать? Заявился где-то после двенадцати – я уж второй сон видела; ввалился крепко выпивший, злой, красный такой...
– Злой? – удивился Бутенко. – Почему злой?
Софья передернула плечами.
– Не перебивай, а то замолчу, и ничего не узнаешь. Почему злой?.. Потому... Он, когда выпьет, всегда стервенеет – ну, словно тормоз какой отпускается. Не перебивай... Пришел... ну... руки стал распускать. Я – кочережкой. Помогло, остыл немного. Сел рядом на кровать: давай, говорит, подумаем насчет совместной семейной жизни. Вот тебе от меня подарок – и колечко дает.
– Интересное кино, – присвистнул Бутенко. – Кто бы мог подумать. Кольцо хоть красивое?
Софья поднесла к свету руку. Кулагин заставил себя раскрыть слипающиеся глаза. Симпатичное колечко. Определенная ценность и в то же время кое-что от искусства.
– А что дальше было? – спросил Бутенко.
Софья покрутила головой, словно ей было очень неприятно.
– А ты, Леня, не подгоняй, успеешь... Вот, значит, сидел он возле меня – я в халатике, одетая, – говорили мы так по-хорошему. Сидел, сидел, а потом, то ли вино ему в голову ударило, то ли что другое, принялся опять приставать, и совсем уж по-серьезному. Раз, мол, мы все равно решили пожениться, то и церемониться, дескать, нечего. А ручищи у него, сам знаешь, какие. Плечи припечатал к подушке. Что ж, выходит, раз я без отца, без матери, так можно валить меня, как последнюю? Я – в слезы. Он ничего, отстал. Вина стал требовать. Ну где я ему ночью-то возьму? А Валентин, значит, говорит: того нельзя, этого нету, ну тебя совсем, пойду я к Клавке, твоей подружке, она мне завсегда рада, и выпивка у нее найдется. Ну я и завелась. Все выложила: и прошлые его дела, и теперешние. И кочергой его: да всерьез, на полную. Он руки кверху – и в дверь. Тут я только про колечко вспомнила. Хотела выкинуть, но пожалела – все-таки пусть память останется.
На Бутенко жалко было смотреть – лицо его застыло, скулы закаменели.
– В котором часу он ушел? – спросил лейтенант, сглатывая слюну.
– Приблизительно около четырех. Как раз начало развидняться. И по «Маяку», я помню, пела французская певица... Ну эта... Мирей Матье.
Бутенко долго записывал, с трудом, словно впервые, лепя крупные ровные буквы на белых листах бумаги. Аккуратно сложив бумагу пополам, сунул в планшетку. Защелкнул кнопки и, кивнув Кулагину, поднялся.
– Спасибо, Соня... Софья Михайловна. Очень вы нам помогли. А из-за Валентина не переживайте – погуляет и вернется. Как всегда. – Он улыбнулся беспомощной улыбкой. – Такая уж у него натура, без форса не может. И не беспокойтесь, Софья Михайловна: не думаю, чтобы он мог быть замешан в этой истории. Не пугайтесь, что о нем расспрашивал: всех проверяем, необходимость.
Софья подошла, взяла лейтенанта за рукав шинели.
– Ты прости меня, Леня. Прости... по старой дружбе. А насчет Валентина... Поступайте по справедливости. Только я думаю, что на воровство он не способен, не та натура.
Уже выходя, Бутенко остановился в дверях и спросил:
– Да, а не говорил он, где достал колечко? Нынче ведь сложно. Хотел вот сестренке в честь окончания школы подарить – не нашел нигде.
– А у Гали Бекбулатовой. Роза Ивановна, завмагша, дала ей два кольца продать – малы вроде оказались. Одно Пуховы дочке на свадьбу купили, другое Валентин... – Она вздохнула. – Для меня.
Бутенко, большой, неуклюжий, пригибаясь под низкой для него притолокой двери, топтался на месте.
– Ну, Соня, пошли мы. Ты извини, ежели что обидно получилось – так ведь служба. Не сердись. И если вызовут в райотдел, не обижайся – надо!
Всю обратную дорогу Бутенко молчал, смотрел вдаль стеклянным, отсутствующим взглядом. На осторожные, прощупывающие вопросы Кулагина не отзывался, и Андрей Емельянович остро позавидовал тому глубокому чувству, которое, несмотря на безответность, испытывает скромный лейтенант милиции к Софье Актаевой, Соне...
Глава пятая1
Николай Павлович брился. Новое лезвие скользило почти неощутимо; тело после зарядки просило движения; в окно врывалось яркое весеннее солнце – настроение было преотличное. Предстоял воскресный день – длинный, безмятежный. Аппетитно тянуло жареным, и, вытирая на ходу полотенцем лицо, Николай Павлович толкнул дверь в кухню. Жена суетилась возле плиты.
– Как, Маша, скоро? – спросил он, плотоядно принюхиваясь. – Мое время подошло.
Она открыла духовку. Достала, обжигаясь, горячий противень и принялась сбрасывать на блюдо исходящие паром шанежки.
– Готово, готово, голодающий. Зови Андрея. Только стол накрой в гостиной.
Ей всегда казалось странным нетерпение мужчин – и сына и мужа, – когда они хотят есть, их безразличие к обстановке, в которой пища поглощается – лишь бы повкуснее да побольше. И воевать с ними по этому поводу бесполезно.
По случаю воскресенья мужчины позволили себе по рюмочке, и Николай Павлович зарозовел, лоб его покрылся легкой испариной. Андрей Емельянович, который не любил вставать рано, молча прихлебывал чай, нехотя, лениво ломал толстыми пальцами румяный пирожок. Есть не хотелось совершенно.
Николай Павлович, словно не замечая его состояния, все подкладывал да подкладывал на тарелку друга. Сам ел со смаком: толсто намазывал масло, грыз сахар, подставлял то и дело чашку под кран электросамовара, который, как явствовало из гравировки, преподнесен был майору Пряхину в день двадцатипятилетия его службы в милиции.
«Несколько странный подарок, – думал Кулагин. – Впрочем, выбрать рациональный подарок – задача почти неразрешимая. Этот еще ничего, полезный, чай вот пьем, наслаждаемся. Интересно, какими словами проклинает нас зав. терапевтическим отделением, которой мы, олухи, на пятидесятилетие преподнесли литое из чугуна зверье весом килограммов двадцать, не меньше, и размером этак пятьдесят на шестьдесят. Очень удобное украшение для двухкомнатной квартиры, в которой шесть человек цепляются боками...»
Он отодвинул чашку, вынул сигарету, но, вспомнив порядки этого дома, вздохнул и положил ее на стол.
– Ну-с, главный Шерлок Холмс района, скоро мы отправимся на рыбалку? Есть какие-нибудь новости, соображения?
Пряхин подставил свою чашку под кран самовара, наполнил ее на две трети. Долил заварку.
– С рыбалкой, дорогой доктор Ватсон, еще пару дней, к сожалению, придется подождать. Что же касается новостей и интересующих вас соображений – тоже пока похвастаться не могу. Работаем. Ищем. Сопоставляем. Пока, повторяю, ничего цельного.
– У меня, между прочим, есть версия.
– Угу, – Пряхин принялся раскалывать щипцами давно ставший редкостью кусковой сахар. Зеленоватая изнутри горка точно ледяных осколков росла на блюдце.
– Тебя, как вижу, она не интересует.
– Если откровенно, – нет. В каждом деле есть специфика, и, поверь, мы свою работу знаем. Ты ведь никогда не позволишь подойти к операционному столу человеку, который с трудом отличает скальпель от пинцета. Так и у нас... Знаешь, когда читаю, что где-нибудь в Штатах дотошный журналист раскрыл преступление, перед которым была бессильна полиция, – не верю. Там тоже сидят профессионалы. Не хо-те-ли раскрыть – это другое дело... Не обижайся, но, учитывая сведения, которыми ты располагал, можешь быть уверен, что твоя версия уже проработана и проверена.
– Это называется положить противника на обе лопатки еще во время разминки, – рассмеялся Кулагин. – И все же, если не секрет, что нового?
– Ну, во-первых, удалось установить, что отпечатки пальцев на прилавке магазина и валявшейся там десятке принадлежат скрывающемуся Валентину Шмакову.
– Как же вы это узнали?
– Вот видишь! Журналист-детектив такого вопроса не задал бы... Шмаков работает на заводе; в раздевалке имеет свой шкафчик, каждый день его открывает и закрывает. Дальше понятно?
– Да, конечно. Извини. Значит, магазин обокрал Шмаков?
– Возможно... Тем более что следы совпадают по размеру с обувью, которую он носит... плюс следы косвенно подтверждают такую возможность. Хотя...
– Что хотя? Что хотя? – перебил внезапно разгорячившийся Кулагин, который был очень доволен, так как именно Шмакова считал взломщиком, и обиделся, когда Пряхин не захотел выслушать его версию. – Больше некому. Парень горячий, с гонором. Выскочил тогда от своей Сонечки злой, распаленный, захотелось, как здесь. говорят, «поддать»; ночью взять негде, а за подгнившей дверью десятки желанных бутылок находятся. Вот он и выдернул этот дурацкий прогоныч.
– Логично, – сказал Пряхин, привычно потирая ноющую шею. – Логично, но... поверхностно. Получается, что Шмаков совершил преступление импульсивно, в состоянии неконтролируемой запальчивости? Как же в таком случае объяснить тот факт, что преступник пытался открыть замок и не смог? Причем заранее изготовленным ключом. Квалифицированный кузнец – и не справился...
– Да не было у него ключа! Валялась, наверное, в кармане какая-то железка, он сунул ее в замок – не подходит. Дернул за прогоныч, а тот и вылетел. Вот и все. Очень просто.
– Очень, – согласился Пряхин. – Даже слишком. Не вяжется, понимаешь, что у Шмакова, с одной стороны, хватило ума протереть прогоныч и замок, значит, понимал необходимость уничтожения следов, с другой – оставлять нам коллекцию отпечатков...
– И все же его надо арестовать! – заявил Кулагин. – Обязательно!
– Санкция прокурора получена, но... не будем называть это арестом, – сказал Пряхин. – Будем считать, что мне... то есть нам очень хочется побеседовать с гражданином Шмаковым с глазу на глаз.
– Хватились! – язвительно усмехнулся Кулагин. – Ищи теперь ветра в поле.
– Я думаю, ты переоцениваешь Шмакова. Он не фигура. Вернее, не та фигура. Парни такого рода, напакостив, бегут прятаться к матери, сестре, вообще к родичам. Стандарт. И этого уже нашли: у брата в поселке Сартамыш. Такая примитивная, на уровне нашкодившего мальчишки, попытка скрыться наводит на мысль, что вряд ли Шмаков – главное лицо в этом деле. Поехал туда майор Садыков, завтра сможем убедиться в правильности наших рассуждений... А сегодня, милый доктор, вас ждет приятный сюрприз: нас пригласила к обеду одна милая женщина. Обед специально в вашу честь, форма одежды парадная. Догадываешься, к кому идем?
Кулагин беззлобно ткнул Пряхина в бок кулаком.
– У, черт жилистый. Уже раззвонил. К кому, к кому... Ясное дело – к Люсьене. Она по-прежнему рыжая?
– По-прежнему. Тот же огненный пушистый шар прически, будто и не прошло двадцати лет. Правда, не уверен, что победа над временем не поддерживается с помощью химии, но это уж женский секрет.
Кулагин чувствовал себя смущенно, он и жаждал и боялся встречи – ведь так хочется уберечь себя от разочарований, – вдруг Люся окажется толстой претенциозной дамой, пахнущей крепкими духами и кремом для лица; она будет часто и некстати с преувеличенным оживлением говорить: «Мальчики, а вы помните?» – и в ужасе вздергивать тонкие брови, увидев, что Кулагин будет стряхивать пепел в блюдце. Блюдце, конечно, японского фарфора. Да и сама будет разочарована: она помнит стройного, вихрастого, жизнерадостного Андрюшу. Появление толстого лысого брюзги вряд ли совпадет с одним из лучших воспоминаний молодости. И окажется, что говорить не о чем... Будут обязательные тосты за юность, за друзей, за «тех, кто не с нами»... Много съедят, отяжелеют и с плохо скрываемой радостью начнут прощаться, чтобы поскорее плюхнуться в кровать, переваривать пищу.
А получилось все не так, получилось прекрасно... Люся оказалась почти такой же, изящной, подвижной, только по шее, по щекам пошли морщинки и во взгляде задорное любопытство сменила добродушная ирония. И угощала не назойливо, тактично, в меру. А когда выяснилось, что Люся работает в областной больнице, Кулагин совсем расцвел – наконец-то! – можно было поговорить о деле.
2
Валентин Шмаков лежал на кровати и курил. Если бы жена старшего брата была дома, ему здорово влетело бы и за то, что он одетый валяется на новом польском покрывале, и за то, что пепел с сигареты сыплется на свежеокрашенный пол. Невестка очень ревниво следила за чистотой в своей маленькой однокомнатной квартирке и к приезду мужниного брата отнеслась весьма и весьма неодобрительно. Конечно, и приняла, и угощение поставила – все как полагается, но, выйдя на кухню, отделенную от комнаты тонкой перегородкой, громко высказалась насчет бездельников, которым весной, в самое рабочее время, нечего делать, кроме как по гостям разъезжать. Ясно было, в чей огород камешки. Старший брат только покрякивал да подливал младшему – сам он не пил, отговариваясь больным сердцем и занятостью. «Ну и ладно, мне больше достанется», – посмеивался Валентин.
Он спустил ноги с кровати, уныло глянул на пятку, желтевшую сквозь дыру в носке. Была бы мать рядом, сразу заохала бы, кинулась бы искать сыночку целые носки, а так – ходишь в рванье и никому дела нет. Теперь уж и не будет.
Ну, да бог с ними, с носками. Есть заботы посерьезней: что делать дальше? Куда податься? И дернула его нелегкая залезть в этот дурацкий магазин! Бежал тогда от Сонюшки, еще разгоряченный, сам себя взбадривал: ничего, мол, я ей докажу, какой я мужик! Из-за того и в магазин кинулся – как же такой момент, никак нельзя, чтобы не выпить, иначе не по-мужски получается. Я, дескать, не холуй какой-нибудь, а свободный казак. И десятку для форса оставил на прилавке. Ну герой – дальше некуда!
А всего через десяток минут в темном переулке стоял он в качающемся круге фонарного света – маленький и ничтожный, придавленный свалившимся несчастьем. Злополучная бутылка жгла руку. Холодный ветер посвистывал: «Пу-у-устота! Пу-у-устота! Увидишь теперь голубое небо в черную клеточку». Эх, лучше бы тогда, сразу, как головой в омут, пойти да самому все рассказать... Нет, испугался, сбежал.
Шмаков страдальчески скривился. Задумываться он не привык, и усиленная работа мысли доставляла почти физическое страдание. До сих пор он жил по принципу прямой связи: увидел – взял, захотел – исполнил, не анализируя своих поступков и не размышляя о их последствиях, – очень хорошая была жизнь.
Теперь же будущее рисовалось в свете мрачном и неопределенном. Ну, хорошо, проживет он, несмотря на косые взгляды невестки, под братниным крылышком неделю, месяц: потом что? А ведь, наверное, его уже ищут; не может быть, чтобы не искали! И в первую очередь, конечно, будут проверять близких родственников. А он, как телок на привязи, сидит здесь, ждет... Какой дурак! Надо скорее уйти, исчезнуть, затеряться где-нибудь в низовьях Оби, на бесконечных протоках; там можно прожить рыбалкой, охотой. Туристов сейчас много, никто еще одним интересоваться не будет, а лето пройдет – авось страсти поутихнут.
Шмаков лихорадочно заметался по комнате, то и дело поглядывая в окно, словно ожидая незваных гостей с минуты на минуту. Снял со шкафа желтый, под кожу, чемодан и, помотав головой, положил обратно: не годится для туриста. Пошарив в кладовке, нашел рюкзак, кинул в него пару братниных рубах поплоше, куртку, портянки, носки, полотенце. Принес из кухни несколько банок тушенки. Под бельем в шкафу отыскал вложенные в какую-то брошюру деньги, взял три красненькие; поколебавшись, добавил еще одну пятерку, остальные положил на место. Снял со стены гордость брата – новенькую бескурковку «ижевку». Разломил, опять закрыл. Сунул в карманы ватника горсть патронов. Вот и все: рюкзак уложен, ноги вогнаны в резиновые сапоги.








