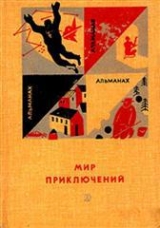
Текст книги "Мир приключений 1966 г. №12"
Автор книги: Сергей Абрамов
Соавторы: Александр Абрамов,Евгений Велтистов,Николай Томан,Глеб Голубев,Сергей Другаль,Александр Кулешов,Игорь Акимов,Яков Наумов,Юрий Давыдов,Яков Рыкачев
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 43 страниц)
– Сплю я, что ли? Ничего не понимаю.
Я уже по его лицу понял, что игра удалась: он почти поверил. Теперь надо было стереть это “почти”.
– Ты когда-нибудь читал о Калиостро или о Сен-Жермене? – спросил я и по девственно пустым глазам его понял: не читал. – История никак не может объяснить их, особенно Сен-Жермена. Этот граф жил в восемнадцатом веке, а рассказывал о событиях двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого веков, словно при том присутствовал. Его считали колдуном, астрологом, Агасфером и наперебой приглашали ко двору европейских монархов. Он, между прочим, и будущее предсказывал, и довольно удачно. Но объяснить, что это за человек, никто так и не мог. Историки отмахивались: шарлатан, мол, а надо было сказать: телепат. Вот и все. Он принимал мысли из прошлого и будущего. Как и я.
Мюллер молчал. Я уже не догадывался, о чем он думал. Может быть, он раскусил мое шарлатанство? Но у меня был все-таки один неопровержимый и непобитый козырь – Сталинград.
– Будущее? – задумчиво повторил он. – Значит, ты можешь предсказывать будущее?
“Не надо уводить далеко, – подумал я. – Мюллер не глуп и привык мыслить реалистически”. На этом я и сыграл.
– Твое предсказать не трудно, – ответил я не менее коварно на его коварный вопрос. – Сам понимаешь: после Сталинграда подпольщики и партизаны повсюду активизируются. Не дожить тебе до лета, Мюллер. Никак не дожить.
Он так и скривился в усмешечке: “Хозяин-то положения все-таки я”. А вслух кольнул:
– Я тоже могу предсказать твое будущее, без телепатии. Услуга за услугу.
– Мужской разговор, – засмеялся я. – Мы же можем изменить будущее. Ты – мое, я – твое.
Он вскинул брови, опять не поняв. Ну что ж, раскроем карты:
– Ты переправишь меня к партизанам. Притом сегодня же. А я гарантирую тебе бессмертие до конца месяца. Ни пуля, ни граната тебя не тронут.
Он молчал.
– Теряешь ты немного – мою жизнь, а выигрываешь куш – свою.
– До конца месяца, – усмехнулся он.
– Я не всесилен.
– А гарантии?
– Мое слово и мои документы. Ты ведь их видел. И догадался, должно быть, что и я кое-что могу.
Он долго раздумывал, молча и рассеянно блуждая взором по комнате. Потом разлил остатки коньяка по бокалам. Он ничего не ел, и хмель уже сказывался: руки дрожали еще больше.
– Ну что ж, – процедил он, – посошок на дорогу?
– Не пью, – сказал я. – Мне нужна ясная голова и рука твердая. Ты мне дашь оружие, хотя бы твой “вальтер”, и руки свяжешь легонько, чтоб сразу освободиться.
– А под каким соусом я тебя отправлю? У меня тоже начальство есть.
– Вот ты и отправишь меня к начальству повыше. Какой-нибудь лесной дорогой.
– Придется ехать с шофером и конвоиром. Справишься?
– Надеюсь, конвоира тебе не жалко?
– Мне машину жалко, – поморщился он.
– Машину я тебе верну вместе с водителем. Идет?
Он подошел к телефону и начал вызванивать. Я даже подивился той быстроте, с какой он все это проделал. Через какие-нибудь полчаса гестаповский “оппель-капитан” уже бороздил запорошенный снегом проселок. Рядом со мной, положив автомат на колени, сидел тощий фриц со злым лицом. Пусть злится. Это меня не тревожило, равно как и мое обещание Мюллеру. Ведь обещал я, а не Громов, который в конце концов окажется на моем месте. Только когда это произойдет и где? Если в машине, то я должен сделать все, чтобы мой злополучный Джекиль быстро сориентировался. Я потянул не туго связанные на спине руки. Ремешок сразу ослаб. Еще рывок – и я уже мог положить освободившуюся правую руку в карман ватника, прихватив ею ледяную сталь пистолета. Теперь надо было только ждать: каким-то шестым, а может быть, шестнадцатым чувством я уже предугадывал странную легкость в теле, головокружение и тьму, гасившую все – свет, звуки, мысли.
Так и произошло. Я очнулся под рукой Заргарьяна, снимавшего датчики.
– Где был? – спросил он, все еще невидимый.
– В прошлом, Рубен. Увы…
Он горестно вздохнул. Никодимов уже на свету просматривал пленку, извлеченную из контейнера.
– Вы следили за временем, Сергей Николаевич? – спросил он. – Когда вошли и когда вышли из фазы?
– Утром и вечером. День.
– Сейчас двадцать три сорок. Совпадает?
– Примерно.
– Пустяковое отставание во времени.
– Пустяковое? – усмехнулся я. – Двадцать лет с гаком.
– В масштабе тысячелетий ничтожное.
Ио меня волновали не масштабы тысячелетий. Меня волновала судьба Сережки Громова, оставленного мной почти четверть века назад на колпинском пригородном проселке. Думаю, впрочем, он не потерял времени даром.
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Новый эксперимент начался буднично, как визит в поликлинику. Накануне я не собирал друзей, Заргарьян не приезжал, и поутру меня никто не напутствовал. В институт я добрался на автобусе, и Никодимов тут же усадил меня в кресло, не уточняя градуса моей доброй воли и готовности к опыту.
Он только спросил:
– Когда у вас в прошлый раз начались неприятности? К вечеру, во второй половине дня?
– Примерно. На улице уже темнело.
– Приборы зафиксировали сон, потом нервное напряжение повысилось – и, наконец, шок…
– Точно.
– Я думаю, мы теперь сумеем предупредить это осложнение, если оно возникнет, – сказал он. – Вернем ваш психический мир обратно.
– Я именно этого и не хотел. Вы же знаете, – возразил я.
– Нет, сейчас мы рисковать не будем.
– Какой риск? Кто говорит о риске? – загремел Заргарьян, появляясь как призрак – весь в белом на фоне белых дверей.
Он был в соседней камере – проверял усилители.
– За одну минуту твоего путешествия отдаю год жизни. Это уже не наука, как думает Никодимов, – это поэзия. Ты любишь Вознесенского?
– Относительно, – сказал я.
Он продекламировал:
– “В час осенний… сквозь лес опавший… осеняюще и опасно… в нас влетают, как семена… чьи-то судьбы и имена…” – Он оборвал цитату и спросил: – Что запомнил?
– “Осеняюще и опасно”, – сказал я.
Я уже его не видел: он говорил из темноты.
– Главное – осеняюще! Поэтому будем торжественны. Учти, ты у врат будущего.
– Ты в этом уверен? – донесся голос Никодимова.
– Бесповоротно.
Больше я ничего не слыхал. Звуки погасли до тех пор, пока в мертвую тишину эту не ворвался какой-то монотонный, громыхающий гул.
Тишины уже не было, и даже тумана не было. Я покачивался в мягком кресле у широкого, чуть вогнутого наружу окна. Рядом со мной и напротив сидели в таких же креслах незнакомые мне люди. Обстановка напоминала огромную кабину воздушного лайнера или вагон пригородного дачного поезда, где сидят по трое друг против друга по бокам прохода от двери к двери. Этот проход тянулся, должно быть, метров на пятьдесят. Я старался осмотреться, не разглядывая соседей, искоса, не подымая глаз. Первое, что привлекло внимание, – были мои руки, большие, странно белые, с сухой и чистой кожей, какая бывает после частого и придирчивого мытья. И, самое главное, это были руки старого человека. Сколько же мне лет и кто я по профессии? – подумал я. – Лаборант, врач, ученый? Руки и костюм – не новый, но и не очень заношенный, из странно выглядевшего материала с непривычным рисунком, – не давали прямого ответа, а гадать было бессмысленно.
Я посмотрел в окно. Нет, это был не воздушный лайнер, потому что летели мы слишком низко для такого крупного самолета, ниже, что называется, бреющего полета. Но это был и не поезд, потому что летели мы над землей, над домами и перелесками, едва не срезая верхушек сосен и елей, причем именно летели так, что пейзаж за окном сливался и мутнел.
Я достал платок из кармана и протер глаза.
– Болят? – сочувственно заметил пассажир, сидевший против меня, седой, морщинистый человек в золотых очках без дужек, непонятно как висевших над переносицей. – Забываем на склоне лет, что в окошечко уже не посмотришь. Это вам не пятидесятые годы. Обсервейшн-кар! В таком каре только пушкинских “Бесов” читать: “Мутно небо, ночь мутна…”
– А что, не нравится? – спросил не без вызова молодой человек, сидевший с краю.
– Нет, почему? Кому ж это не понравится? Из Ленинграда в Москву за полтора часа. Новинка.
– Почему новинка? – пожал плечами молодой человек. – О монорельсовых дорогах говорили еще лет двадцать назад. Это только модернизация. А вы, чем в окно смотреть, телевизор включите, – сказал он мне.
Я замешкался, не совсем понимая, где этот телевизор и как ею включать. Меня предупредил мой седой визави: нажал какой-то рычажок сбоку, и окно закрыл знакомый голубой экран. Изображение возникло в нем как-то в глубине, позволяя видеть его даже сидящим сбоку, как и я.
Оно было цветным и стереоскопическим и представляло огромный многоэтажный дом, красиво отделанный серыми и красными плитками. На его плоскую крышу в беспримесной лазури неба опускался вертолет. “Передаем новости дня, – сказал невидимый диктор. – Посещение руководителями партии и правительства трехсотого дома-коммуны в Киевском районе столицы”. Группа хорошо одетых немолодых людей вышла из кабины вертолета и скрылась под куполом из органического стекла. Замелькали лифты-скоростники и лифты-эскалаторы. Объектив аппарата устремился вниз, к зеркальным витринам первого этажа. “Весь этаж занимают магазины, мастерские и столовые, обслуживающие население дома”. Гости неторопливо прохаживались по этажам и комнатам, обставленным с необычным для меня выбором красок и форм. “Один поворот пластмассового рычага – и постель уходит в стенку, выдвигая спрятанный книжный шкаф. А эту кушетку вы можете расширить и удлинить: ее металлические крепления и губчатая поверхность растягиваются вдвое”. А следом уже открывалась перспектива этажных холлов с большими телевизионными и киноэкранами. “Этот этаж целиком предоставлен молодежи, предпочитающей жить отдельно”, – комментировал диктор, раздвигая для нас стены непривычно меблированных комнат.
– Не понимаю. Зачем все это делается? – пренебрежительно фыркнула дама с вязаньем, наискосок от меня.
Я взглянул на юношу, сидевшего с краю, ожидая его реплики, и не ошибся. Как он был похож на юношей, которых я знал! Он принял от них эстафету горячности, почти мальчишеской запальчивости, непримиримости ко всему, что не идет в ногу с веком.
– Дома-коммуны не сегодня начали строить, а вам все еще непонятно зачем, – сказал он.
– Непонятно, – упорствовала дама. – Слава богу, от коммунальных квартир избавились, а тут опять!
– Что – опять?
– Ваши дома-коммуны. Жилищные склоки воскрешаем.
– Не говорите глупостей! Люди уходят от изолированных отдельных квартир не к прошлому, а к будущему. Не к коммунальным квартирам, а к домам-коммунам. А это новое качество быта!
Дама с вязаньем умолкла. Никто ее не поддержал. А на экране уже подымались нефтяные вышки, отвоевывая свинцово-багровое небо у елей и лиственниц. “Мы с вами в Третьем Баку, – продолжал диктор, – на только что освоенном новом участке Якутского нефтеносного района Сибири”. Третье Баку! На моем веку их было только два. Сколько же лет прошло? Я обращал этот же молчаливый вопрос и к хирургам в белых халатах, демонстрировавшим на экране бескровную операцию пучком нейтронных лучей, и к изобретателям состава для склеивания ран, и к самому диктору, появившемуся, наконец, перед зрителями. “В заключение я хочу напомнить нашим зрителям о дефицитных профессиях, в которых остро нуждается наше хозяйство. По-прежнему требуются наладчики автоматических цехов, диспетчеры телеуправляемых шахт, операторы атомных электростанций, сборщики универсальных электронно-счетных машин”.
Голубой экран погас. Уже другой голос откуда-то сверху подчеркнуто произнес:
“Подъезжаем к Москве. Включаем предупредительные огни. Одновременно с зеленым светом будет включен эскалатор”.
Над дверью впереди запрыгали красные огоньки. Потом они потемнели и стали синими. Затем их размыл и унес ярко-зеленый, свет. Вышедшие в проход пассажиры поплыли вперед вместе с полом. Поплыл и я, так и не заметив остановки вагона. Я и не увидел его снаружи. Эскалаторная дорожка, ускоряя движение, привела нас в вестибюль метро. Я не узнал его, да, честно говоря, и не успел рассмотреть: мы понеслись с быстротой ракеты, замедлив движение только у эскалаторных лестниц, которые и вынесли нас на перрон. “Где же кассы? – подумал я. – Неужели метро бесплатно?” Утвердительным ответом был поток пассажиров, хлынувший к открытым дверям подошедшего поезда.
Я вышел на площади Революции, которую узнал сразу: и под землей, где меня встретили знакомые бронзовые скульптуры в аркаде, и на земле, где уже издали сквозь зеленую сетку сквера глядели на меня желтые колонны Большого театра. И памятник Марксу стоял на том же месте, только вместо невзрачного “Гранд-отеля” высилось гигантское белое здание, сверкавшее ребрами из нержавеющей стали, а вместо бокового крыла “Метрополя” уходила вправо перспектива шумной многоэтажной улицы. И пейзаж в движении показался мне давно знакомым, почти не изменившимся. По-прежнему по широким тротуарам так же неторопливо и часто струились многоцветные капельки человеческого потока, еще более расцвеченные высоким по-летнему солнцем. А по асфальтовым каналам площади, огибая тротуары, завихрялся другой, столь же пестрый автобусно-автомобильный поток. Но присмотревшись внимательнее, я легко обнаружил различие. Другой покрой и другая расцветка одежды, другие линии и формы машин. Большинство их шло без колес, на воздушной подушке, напоминая лобастых китов или дельфинов, беззвучно плывущих в воздухе, “Сколько же лет прошло?” – снова спросил я себя и снова не мог ответить.
Перейти площадь было нельзя: чугунное кружево решетки вилось вдоль тротуара и только на остановках золотых сигарообразных автобусов открывало проходы на мостовую. Я пошел вниз, к Александровскому саду, миновав Исторический музей, заглянул в пролет Красной площади. Там все было привычно – и зубчатка древней стены, и часы на Спасской башне, строгий массив Мавзолея и архитектурное чудо Василия Блаженного. Но огромного здания гостиницы, которую у нас уже начали строить в Зарядье, не было видно вовсе. Только еще дальше, может быть на противоположном берегу Москвы-реки, поднимались за храмом незнакомые высотные здания.
Я прошел в сад и присел на скамейку. И хотя город уже кипел своей полнокровной, стремительной жизнью, здесь в эти утренние часы, как и у нас, было почти безлюдно. По правде сказать, я растерялся. Куда и зачем идти? Где мой дом? Кто я? И что предстоит мне пережить сегодня? Я нащупал в кармане бумажник, очень пухлый и плотный, из мягкого, прозрачного пластика. Уже сквозь него, не вынимая карточки, я прочел на ней мое имя, профессию и адрес. Я опять был служителем Гиппократа, чем-то руководившим в университетской хирургической клинике, и, должно быть, знаменитостью, потому что нашел в бумажнике поздравления от трех заграничных ученых обществ, присланные профессору Громову ко дню его шестидесятилетия.
Итак, двадцать лет спустя! Для меня – уже старость, для науки – “шаги саженьи”. Д’Артаньяна, ехавшего на встречу с Арамисом и Атосом, терзали сомнения: не горько ли будет увидеть состарившихся друзей? Сомнения его рассеялись, но рассеются ли мои? Я мысленно представил себе визит по адресу, обозначенному на карточке. Дверь, наверное, откроет Ольга, постаревшая на двадцать лет. А вдруг не Ольга? Усложнять ситуацию явно не хотелось. Я машинально перебрал пачку денежных купюр, лежавших в бумажнике. На один день в будущем наверняка хватит. Так что же делать? Может быть, просто пройтись по улицам, объехать город, увидеть побольше, подышать в буквальном смысле воздухом будущего? Разве этого мало? Для Заргарьяна и Никодимова – увы! – мало! Какое материальное подтверждение я мог принести им из будущего? Пойти в Ленинскую библиотеку – она, конечно, существует и здесь, – порыться в каталогах, поинтересоваться тематикой научных журналов? Допустим, мне даже удастся найти что-нибудь близкое работам моих ученых друзей. Допустим. Но пойму ли я что-нибудь в статьях ученых восьмидесятых годов, если порой даже элементарные популяризаторские попытки Заргарьяна бессильны преодолеть мое математическое невежество? Выучить наизусть запись какой-нибудь формулы? Да я забуду ее тотчас же! А если их серия? Если мне встретятся совсем уже незнакомые математические символы? Нет, чушь зеленая – ничего не выйдет!
С такими мыслями я побрел на остановку такси. Впереди меня была только одна женщина; она, видимо, торопилась, то и дело поглядывая на ручные часы.
– Уже десять минут жду – и ни одной машины, – сказала она. – Конечно, на автобусе проще и бесплатно к тому же, но на автупре занятнее.
– На автупре? – переспросил я.
– Вы, наверно, приезжий, – улыбнулась она. – Так мы называем такси без водителя, с автоматическим управлением. Прелесть!
Но первый же автупр привел меня в содрогание. Что-то противоестественное было в этой лобастой машине без колес и шофера, бесшумно подплывавшей к нам и выбросившей на остановке четыре паучьи ножки. Невидимка за рулем открыл дверь, пассажирка села и что-то сказала в микрофон. Так же бесшумно исчезли ножки, закрылась дверь, и машина пропала за поворотом. Я долго и, должно быть, с глупым видом смотрел ей вслед, растерянно спрашивая себя: “А что ты скажешь в микрофон и как будешь рассчитываться, если не хватит мелочи?” Я уже подумывал о бегстве, как на остановке появился еще пассажир. В его подчеркнутой худобе и седине с прочернью была какая-то своеобразная элегантность, а Курчатовская подстриженная борода лопаткой придавала ему чуть вызывающий вид.
– Спешу, – признался он, нетерпеливо оглядывая площадь. – Вон идет, кажется.
Лобастый автупр уже подплывал, подруливая к остановке.
– Охотно уступлю вам очередь, – сказал я. – Я не спешу.
– Зачем? Вместе поедем, если не возражаете. Сначала отвезем вас, потом меня.
В темных его глазах мелькнуло что-то до жути знакомое. Тот же высокий, покатый, с зализами лоб, тот же взгляд, пронзительный и насмешливый. Только борода была лишней. Неужели он?
ПОСТАРЕВШИЙ ЗАРГАРЬЯН
Я еще раз придирчиво заглянул ему в глаза. Он. Мой Заргарьян, только постаревший на двадцать лет. Но я и виду не подал, что узнал его.
– Куда вам? – спросил он.
Я только плечами пожал: не все ли равно куда ехать человеку, двадцать лет не видевшему Москвы?
– Тогда поехали. Чур, не возражать – я гид. Кстати, где вы обедаете? Хотите в “Софии”? Вместе? Честно говоря, не люблю обедать один.
Он и к пятидесяти годам не утратил мальчишеской пылкости. И в роль гида вошел сразу и горячо.
– По улице Горького не поедем. Ее почти не перестраивали. Лучше по Пушкинской. Совсем новая улица – не узнаете. Запрограммировано?
Он продиктовал маршрут в микрофон. Такси, беззвучно захлопнув дверь, поплыло, огибая сквер.
– А как рассчитываетесь? – спросил я.
– Вот в эту копилочку. – Он показал на щель в панели под ветровым стеклом.
– А если мелочи нет?
– Побеспокоим разменное устройство.
Такси уже свернуло на Пушкинскую, похожую на Пушкинскую моих дней, как Дворец съездов на заводской клуб. Может быть, она была внешне иной и в шестидесятые годы: ведь подобие миров не предполагает их идентичности, но сейчас и здесь она была иной и масштабно, и качественно. Двадцатиэтажные взлеты стекла и пластика, не повторяя друг друга, вписывались в скалистый орнамент каньона, на дне которого кипел многоцветный автомобильный поток. Тротуары, как в торговом пассаже, тянулись в два этажа, соединяясь над улицей кружевными параболами мостов. Такие же мосты связывали и дома, образуя дополнительные аллеи над улицей.
– Для велосипедистов, – пояснил Заргарьян, перехватив мой взгляд. – Там же бассейны и площадки для вертолетов.
Он добросовестно играл роль гида, с удовольствием смакуя мое удивление. А лобастый наш “дельфин” тем временем пересек бульвар, пролетел столь же неузнаваемую улицу Чехова и подрулил по Садовой к небоскребу “Софии”. Ни площади, ни ресторана я не узнал. Маяковский, будто изваянный из бронзового стекла, так и блистал на солнце, вздымаясь над площадью выше колонны Нельсона в Лондоне. Сверкал и параллелепипед ресторана “София”, играя отраженным солнечным светом, как сплав хрусталя с золотом. Ресторанный зал поражал и внутри. Привычно белые столики под старомодно крахмальными скатертями соседствовали со странными геометрическими фигурами, похожими на шатры из дождя и аргоновых нитей.
– Что это? – оторопел я.
Заргарьян улыбнулся, как фокусник, предвкушая еще больший эффект.
– Сейчас увидите. Сядем.
Мы сели за один из привычно крахмальных столиков.
– Хотите стать невидимым и неслышным для окружающих?
Он что-то тронул, подняв уголок скатерти, и зал исчез. Нас отделял от него шатер из дождя без влаги и сырости. В дождь вплетались светящиеся нити без стекла и проводки. Нас окружала благоговейная тишина пустого собора.
– А выйти можно?
– Так это же воздух, только непрозрачный. Светозвукопротектор. У нас в лаборатории мы применяем черный. Абсолютная темнота.
– Я знаю, – сказал я.
Теперь удивился он, подслушав в моем ответе что-то для себя новое.
Мне надоело играть в загадки.
– Вы Заргарьян? Рубен Захарович? – спросил я, уже совершенно уверенный, что не ошибаюсь.
– Узнали, – усмехнулся он. – Значит, и борода не помогла.
– Я по глазам вас узнал.
– По глазам? – опять удивился он. – На газетных и журнальных портретах глаза хорошо не выходят. А где же вы меня еще видели? В кино?
– Вы по-прежнему занимаетесь физикой биополя? – начал я осторожно. – Тогда не удивляйтесь тому, что сейчас услышите. Я вам сказал неправду о том, что двадцать лет не был в Москве. Я вообще не был в этой Москве. Никогда. – Я помедлил немного, ожидая его реакции, но он молчал, продолжая рассматривать меня с возрастающим интересом. – Мало того, я не то лицо, которое вы сейчас видите. Я фантом в ого оболочке, гость из другого мира. Явление, вам, вероятно, хорошо знакомое.
– Вы читали мои работы? – спросил он недоверчиво.
– Нет, конечно. У нас вы их еще не опубликовали. Ведь наше время отстает от вашего лет на двадцать.
Заргарьян вскочил:
– Позвольте, только теперь я вас понял. Значит, вы из другой фазы. Вы это хотите сказать?
– Именно.
Он помолчал, поморгал глазами, отступил на шаг. Светящаяся пелена дождя наполовину скрыла его, комически срезав часть затылка, спины и ног. Потом он снова вынырнул и сел против меня, с трудом сдерживая волнение. Лицо его словно засветилось изнутри, и в этом свечении были и сокрушающее удивление человека, впервые увидевшего чудо, и радость ученого, что это чудо совершается в его присутствии, и счастье ученого, могущего управлять такими чудесами.
– Кто вы? – наконец спросил он. – Имя, специальность?
Я засмеялся.
– Чудно как-то говорить от имени двух человек, но приходится. Имя одно и здесь, и там. Звание – профессор. Это здесь. А там – без званий, можно сказать, рядовая личность. И специальности разные: здесь – медик, хирург видимо, а там – журналист, газетчик. Да еще там я моложе на двадцать лет. Как и вы.
– Любопытно, – сказал Заргарьян, все еще оглядывая меня с интересом. – Все мог ожидать, только не это. Сам отправлял людей за пределы нашего мира, но чтобы здесь такого гостя встретить – об этом и не мечтал. И дурак, конечно. Ведь материя едина по всей фазовой траектории. Я здесь, и я там – вот и засылаем друг к другу гостей. – Он засмеялся и вдруг спросил совсем в другой интонации: – А кто ставил опыт?
– Никодимов и Заргарьян, – лукаво ответил я, готовый к новому взрыву удивления.
Но он только спросил:
– Какой Никодимов?
Теперь удивился я.
– Павел Никитич. Разве это не его открытие? Разве вы не с ним работаете?
– Павел умер одиннадцать лет назад, так и не добившись признания при жизни. Фактически это его открытие. Я пришел к нему другими путями, как психофизиолог. (Мне послышалась затаенная горечь в его словах.) К сожалению, первые удачи с наложением биополя пришли уже позже. Мы ставили опыты с его сыном.
Я даже не знал, что у Никодимова был сын. Впрочем, возможно, он был только здесь.
– А вы счастливее нас, – задумчиво произнес Заргарьян, – начали-то раньше. Через двадцать лет вы добьетесь гораздо большего. Это ваш первый опыт?
– Третий. Сперва я побывал рядом, совсем в подобных мирах. Потом подальше – в прошлом. А сейчас еще дальше – у вас.
– Что значит “ближе” или “дальше”? “Рядом”, – саркастически повторил он. – Какая-то наивная терминология!
– Я полагаю….. – замялся я, – что миры… или, как вы говорите, фазы с иным течением времени находятся дальше от нас, чем совпадающие…
Он откровенно рассмеялся.
– “Ближе, дальше”!.. Это они вам так объясняют? Дети.
Я обиделся за моих друзей. И вообще мой Заргарьян мне нравился больше.
– А разве четвертое измерение не имеет своей протяженности? – спросил я. – Разве теория бесконечной множественности его фаз ошибочна?
– Почему четвертое? – знакомо закипел Заргарьян. – А вдруг пятое? Или шестое? Наша теория не определяет его очередности или направления в пространстве. И кто вам сказал, что она ошибочна? Она ограничена, и только. Слова “бесконечная множественность” просто нельзя понимать буквально. Так же как и бесконечность пространства. Уже вашим современникам это было известно. Уже тогда релятивистская космология исключала абсолютное противопоставление конечности и бесконечности пространства. Поймите простую вещь: конечное и бесконечное не исключают друг друга, а внутренне связаны. Свя-за-ны! – скандируя, повторил он и усмехнулся, заглянув в мои пустые глаза. – Что, сложно? Вот так же сложно объяснить вам, что здесь “ближе” и что “дальше”. Я могу переместить ваше биополе в смежный мир, опередивший нас на столетие, но где он находится, близко или далеко, геометрически определить не смогу. – Он вдруг дернулся и замер, словно ого веселый бег мысли что-то оборвало или остановило.
Секунду – другую мы оба молчали.
– А ведь это идея! – воскликнул он.
– Вы о чем?
– О вас. Хотите прыгнуть в будущее еще дальше?
– Не понимаю.
– Сейчас поймете. Я усложняю ваш опыт. Вы едете со мной в лабораторию, я отключаю ваше биополе и перевожу его в другую фазу. Что скажете?
– Пока ничего. Обдумываю.
– Боитесь? А риск все тот же. И там вам сорок, а не шестьдесят – сердце в порядке, иначе бы не рисковали. Я бы с наслаждением поменялся с вами, да не гожусь. Знаете, как трудно найти мозг-индуктор с таким напряжением поля?
– Вы же нашли.
– Троих за десять лет. Вы четвертый. И считайте, что вам повезло. Обещаю экскурсию поинтереснее полета на Марс. Подыщу вам потомка в пятом колене с таким же полем. Скачок лет на сто, а? Ну что… что вас смущает?
– Мое биополе. Вдруг они его потеряют?
– Не потеряют. Я сначала верну вас обратно. Минуточку даже поприсутствуете в своем пространстве, а потом очнетесь в другом. Не бойтесь, взрыва не будет, ни извержения, ни излучения. А ваша аппаратура зафиксирует все, что надо. Ну как, летим?
Он поднялся.
– А обед? – спросил я.
– Потом пообедаем. Мы – здесь, вы – в будущем.
– Летим, – сказал я и тоже встал.
ЦЕЙТНОТ
Я, повторив слова Заргарьяна, даже не подозревал, что мы именно полетим. Сначала мы поднялись на скоростном лифте на крышу, где приземлялись маршрутные такси-вертолеты, а через две-три минуты уже парили над Москвой, направляясь на Юго-Запад.
Панораму Москвы конца века я не забуду до самой смерти. Я все время твердил себе, что это не моя Москва, не та, в которой я родился и вырос и которую отделяют от этой незримые границы пространства-времени и двадцать лет великой преобразующей стройки. Я упрямо внушал себе это, а глаза убеждали в другом. Ведь и у нас в моем мире шла та же стройка в том же темпе и направлении, те же силы ее вдохновляли, ту же цель преследовали. Так, значит, и у нас к концу третьей пятилетки подымется такой же красавец город, может быть даже еще красивее. Я как бы видел картину будущего, жадно всматривался, ища памятные детали, и радовался, как мальчишка, узнавая старое в новом, знакомое, но изменившееся, как изменяется юноша, достигший расцвета лет.
Все знакомое сразу бросалось в глаза – Дворец съездов, золотые луковицы кремлевских соборов, мосты через Москву-реку, Большой театр – такой игрушечный сверху, Лужники, университет. Другие высотные здания моих дней терялись в многоэтажном каменном лесу, а может быть, их и не было. Город выплеснулся далеко за линию кольцевой автомобильной дороги – она пролегала на месте нашей, во всяком случае, едва ли с большими отклонениями, но она была шире или казалась шире, и машины, как муравьи, ползли по ней такой же широкой, редко утончавшейся ленточкой.
Больше всего поражали эти масштабы и краски городского уличного движения. Радужные автомобильные реки-улицы и ручьи-переулки. Велосипеды и мотоциклы на асфальтовых аллеях, пересекавших город по крышам домов. Вагоны-сороконожки, скользившие по ниточкам монорельсовых эстакадных дорог. А над ними порхавшие от площадки к площадке черно-желтые и сине-белые стрекозы-вертолеты.
На одной из таких площадок на крыше огромного, высоченного дома мы и сошли. Самый дом я не успел рассмотреть на подлете, а первое, что бросилось мне в глаза на плоской его крыше, окаймленной высокой металлической сеткой, был широкий бассейн с прозрачной, подсвеченной со дна зеленоватым мерцанием, очень чистой водой. Вокруг теснились шезлонги, резиновые маты, палатки, буфет под туго натянутым парусиновым тентом.
– Обеденный перерыв, – сказал Заргарьян, поискав глазами среди купальщиков и сидевших в буфете полуголых людей в плавках и купальниках. – Сейчас мы его найдем. Игорь! – вдруг закричал он радостно.
Загорелый атлет в темных, защитных очках, игравший поодаль на теннисном корте, подошел к нам с ракеткой.
– Кто-нибудь есть в лаборатории? – спросил Заргарьян.
– А зачем? – лениво отозвался атлет. – Они все в шестом секторе.
– Установка не обесточена?
– Нет, а что?
– Познакомься с профессором для начала.
– Никодимов, – сказал атлет и снял очки.
Он совсем не походил на длинноволосого Фауста.
– Что-нибудь случилось? – спросил он.
– Нечто непредвиденное и любопытное. Сейчас узнаешь, – не без торжественности произнес Заргарьян.
Человек с юмором несомненно нашел бы что-то общее в этой ситуации с моим первым визитом в лабораторию Фауста. Даже кнопку нажал Заргарьян с той же лукавой многозначительностью, и так же включился эскалатор – тогда коридор у входа в лабораторные помещения, сейчас лестница, ведущая с крыши в те же лаборатории. Она плавно поползла вниз, пощелкивая на поворотах.
– Вы разрешите, – сказал Заргарьян, – я объясню все этому ребенку на арго биофизиков. Это будет и точнее, и короче.
Я тщательно пытался понять что-либо в нагромождении незнакомых мне терминов, цифр и греческих букв. Лексика моего Заргарьяна, даже когда он увлекался и забывал о моем невежестве, так не подавляла меня: я что-то в ней все-таки уяснял. Но молодой Никодимов схватил все на лету и глядел на меня с нескрываемым любопытством. Он уже не казался мне тяжеловесом и тяжелодумом, я даже подивился легкости, с какой он ринулся в уже знакомую мне путаницу штепселей, рычагов и ручек.







