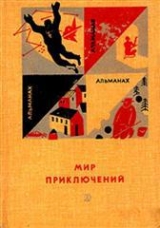
Текст книги "Мир приключений 1966 г. №12"
Автор книги: Сергей Абрамов
Соавторы: Александр Абрамов,Евгений Велтистов,Николай Томан,Глеб Голубев,Сергей Другаль,Александр Кулешов,Игорь Акимов,Яков Наумов,Юрий Давыдов,Яков Рыкачев
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 43 страниц)
***
Губернатор Лагард не ездил в Сагалло. Он довольствовался сообщениями лазутчиков. Саид-Али, переводчик таджурского султана, барышники, все же проникавшие в Новую Москву, да несколько данакильцев, прельстившихся новенькими ружьями системы Гра, не оставляли донесениями обокского губернатора.
Лагард отправлял шифрованную информацию в Париж. Но оттуда лишь подтверждали получение депеш. Париж, очевидно, прощупывал позицию Санкт-Петербурга. С императором Александром правительство республики не хотело ссориться. Правда, еще в начале ашиновской экспедиции русский посол в Риме барон Икскуль официально отрекся от “этой шайки”, но все же не мешало убедиться в позиции Зимнего дворца. И Париж медлил.
Курьерская фелюга из Адена привозила почту. Лагард накидывался на газеты – французские, итальянские, английские. Искал свое имя, находил свое имя. У него сладостно екало сердце: маленький колониальный чиновник нежданно-негаданно очутился на грани событий чрезвычайных.
Он находил в газетах не только свое имя: об Ашинове упоминалось чаще. Журналисты расписывали мощь русского воинства в Африке. Английская “Таймс” в статье “Экспедиция казаков” сообщала, что люди “капитана Ашинова” высадились в Таджуре “в полной военной форме”. Французский репортер произвел атамана в “полковники лейб-гвардии”. Из Рима и Неаполя сообщали: книгопродавцы бойко торгуют портретами атамана, о нем читают публичные лекции, а некий майор Сан-Миниателли, бывший пассажиром на “Амфитрите”, “окончательно удостоверил личность варварского авантюриста, уже сражавшегося в Африке с итальянцами”.
Но Париж медлил. Лагарда снедало нетерпение. Как! Ужели не понятно, что Сагалло соседствует с караванными дорогами в Абиссинию? Разве не ведомы горячие симпатии абиссинцев к единоверцам русским? А возможность возникновения русской морской станции? Данакильцы султана Лойта недавно показали Ашинову пласты каменного угля! Чего же медлят высокоумные государственные мужи? Понятно – в Париже чехарда: генерал Жорж Эрнест Буланже рвется к власти (и правильно делает), зашаталось и пало министерство радикала Флоке, а теперь, кажется, вскочил в седло Тирар со своими умеренными республиканцами. Впрочем, и в этой кутерьме, право, не мешало бы подумать о заморских территориях…
Но вот началось наконец. Первым явился “Пингвин”, разведывательное судно. Авизо, как звучно говорили во французском флоте. Конечно, три пушки калибром семьдесят пять миллиметров чего-нибудь да стоят. Однако морской министр не слишком-то щедр. Что? Идут следом? Ах, вот как… И губернатор велит откупорить шампанское. Да здравствует флот!
Они картинно положили якоря на рейде Обока – крейсер и канонерка. Черт подери, это внушительно: шестнадцать стволов на крейсере, плюс десять на канонерке. Еще шампанского! И добрый коньяк на стол. Милости просим, адмирал Олри. Пожалуйте, капитан Верон. Прошу, лейтенант Бугенвиль.
“Что думает господин губернатор? – спрашивают моряки. – Послать русским ультиматум?” О да, Лагард уверен – ультиматум, подкрепленный пушками, будет исполнен немедленно. Пушки – последний довод королей? Ха-ха! Но первый довод республик.
Губернатор настораживается, замечая сдержанность моряков, этого адмирала Олри, кавалера ордена Почетного легиона, и этого носатого капитана Верона, закаленного в дальних плаваниях, и этого молодого виконта Бугенвиля.
Гм!.. Олри хмурит брови, Верон отводит глаза, а виконт Бугенвиль пылко заверяет: одно дело – хлестать картечью по дикарям и совсем другое – стрелять в мирных белых поселенцев… Но, господа, господа, – удивляется Лагард, – права Франции неоспоримы! Сказать по секрету, даже если они спорны, следует на них настаивать… Итак, за дело, господа!”
В знойный полдень открылась французам бухта Сагалло. Крейсер, канонерка и авизо приближались медленно. Показался форт с русским флагом на мачте. Корабельный отряд, развернувшись строем фронта, застопорил машины. Дымы шатнулись, потом встали отвесно.
“Пингвин” спустил шлюпку. Дежурные гребцы сели без оружия. Переводчик Сеид-Али, скользнув по шторм-трапу, умостился на заспинной доске.
На берег Сеид-Али вышел один. Из ворот форта бежали колонисты. Сеид-Али поискал глазами Ашинова. Тот шел широким спокойным шагом. Рослый, в белой рубахе, облепившей грудь, в синих шароварах, заправленных в мягкие сапоги.
Сеид-Али отдал пакет Ашинову и тотчас вернулся на шлюпку: ему не велели дожидаться ответа. Матросы ударили веслами, точно за ними погоня, и вот уже шлюпка исчезла.
Подоспела Софья Николаевна, Ашинов протянул ей бумагу:
По приказу морского министра и по поручению губернатора предлагаю г. Ашинову:
1. Снять флаг, неправильно поднятый им на французской территории.
2. Очистить форт со всеми людьми без исключения.
3. Вынести на расстояние 100 метров от форта на берег оружие и боевые снаряды, которые он без разрешения привез на нашу территорию, и покориться французским законам.
Если через полчаса г. Ашинов не исполнит в точности вышеизложенное, то сим он предупреждается, что будет принужден к тому силой.
Какая “французская территория”, какие “французские законы”? Ошеломленные колонисты не понимали, что отпущено лишь полчаса и что срок исполнения ультиматума рассчитан именно на то, чтобы его невозможно было исполнить.
Шлепали волны, реяли чайки, плыл душный день, а там, в бухте, вершили свои грозные эволюции крейсер, канонерка, авизо. Истекли тридцать минут, и оттуда, из блистающей бухты, донесся громкий и странный звук, будто длинной орясиной ударили по воде.
Но ударили не по воде – рвануло, грохнуло где-то рядом, совсем рядом, не разберешь, правда, впереди ли, сзади ли. И мгновенно стихло. Только стало не так тихо, как раньше, не шлепки волн, не шерстяное потрескивание флагдуха были в этой тишине, а сухой и дробный шорох каменной осыпи: в крепостной стене зиял пролом.
Принадлежал ли адмирал Олри к новомодной “молодой школе” французских морских теоретиков, сугубым ли практиком был – кто его знает, но действовал он хватко. Сделав несколько выстрелов фугасными снарядами, корабли еще приблизились к берегу и тотчас ударили картечными гранатами.
Шпионы давно донесли Лагарду, что в казарме поселились семейные. Губернатор Лагард не сказал об этом адмиралу Олри, просто посоветовал сперва разрушить казарму, дабы лишить ашиновцев опорного пункта. Олри счел совет дельным. И теперь в покоях, комнатках и залах все клубилось, выло, шипело, взвизгивало – свинец раскаленным веером крушил женщин и детей.
Варю Мартынову сразило вместе с шестилетним мальчонкой. Пелагее Рубцовой картечь перебила ногу. Потеряв сознание, она привалилась в уголок, рядом с казаком Шевченко, тот хрипел, захлебывался кровью. Софья Николаевна, подхватив чью-то девочку, ринулась сквозь дым и огонь, выскочила во двор и охнула: она была ранена в предплечье. Полумертвую девочку доктор Доброклонский взвалил на плечи, побежал к своей палатке, где он только что поднял большое белое полотнище с алым крестом. Но доктор так и не добежал до госпиталя: палатку смел выстрел с крейсера.
– Боже мой, боже мой… – беспомощно бормотал доктор, озираясь и замечая, как люди бегут из крепости.
Ашинов с перекошенным от боли и ярости лицом старался удержать их. Джайранов, отворив склад, поспешно раздавал оружие. Софья Николаевна, зажимая здоровой рукой раненую, спешила к мужу.
В ее бледном лице, в несвязных отрывистых словах, в том, как решительно преградила она путь бегущим, было столько гневной энергии, что все вдруг затоптались на месте, услышали вопли из горящей казармы, и тогда уж повернули, тогда уж ринулись назад, к казарме, к оружейному складу, и теперь Ашинов распоряжался, и его распоряжения исполнялись с тем остервенением, какое бывает, когда все одно пропадать, но пропадать на миру, с честью.
Кто-то из французских марсовых заметил подозрительное движение в предгорьях, плотнее прильнул к биноклю и четко различил вооруженную толпу: данакильцы во главе с Абдуллой валили выручать “москов”. Адмирал Олри приказал перенести огонь на чернокожих.
Обстрел форта внезапно прекратился, новомосковцы воспользовались передышкой, вынесли из крепости раненых, толику боезапаса, кое-какую провизию, кое-какой скарб.
Тем временем примчались гонцы: у Абдуллы много убитых, много раненых, Абдулла просит “москов” уходить в горы, пусть скорее уходят в горы: франки сейчас высадят солдат…
Атаман был контужен.
“Маринушку опалило порохом, – смутно, как в забытьи, соображал Ашинов, – бедный Марченко души не чаял в дочке, нету Маринушки, и Кольку убили… А-а, Шавкуц, уцелел, брат?.. Твои джигиты живы? Они молодцом, твои джигиты… Садись, Джайранов. Садись, старый приятель, знаю ваш обычай – никогда не сядешь рядом со старшим, хороший обычай, но ты уж садись, вот так…”
Не атаман Ашинов явился к шлюпке под белым флагом, а Софья Николаевна и доктор Добровольский. Французский офицер, вежливо козырнув, пригласил их на переговоры с адмиралом Олри и губернатором Лагардом. Софья Николаевна молча указала на убитых ребятишек и женщин. Офицер, побледнев, сдернул фуражку.
***
Часть казаков призывала драться до последнего издыхания: “Стоять за знамя! Умрем!” Некоторые подались в горы, к данакильцам. Большинство потерянно взирало на Ашинова.
До последнего издыхания? Умрем? Он был храбрецом, видывал смерть. И в схватках с турками на Кавказе. И в закаспийских рейдах при покорении Средней Азии. И здесь, в Африке: с несколькими казаками сражался под стягом махдистов-повстанцев против англичан, бок о бок с абиссинцами на рысях атаковывал батальоны итальянских захватчиков. Он был храбрецом, этот широкогрудый богатырь, что сидит под огромной финиковой пальмой, сидит, сгорбившись, в разодранной рубахе, опаленный порохом. Окаянный запах пожарищ шибает ему в ноздри, губы у него вздрагивают.
До последнего издыхания? Умрем? Может, атаману легче всего пойти на смерть. Ринуться на француза, на десант, в штыки ринуться, саблей рубать. А зачем? Для чего? Нет Новой Москвы. Орудийным ураганом смело все – и станицу и мечту. И следа не оставят вольные казаки на здешних берегах. Разве что могильные холмики. В горы уйти, к султану Лойту? Ни сил, ни желания. Он, атаман Николай Иванов Ашинов, во избежание напрасных, бессмысленных жертв принимает условия капитуляции.
Десант высадился без выстрела. Колонистам велели грузиться в баркасы. Французы бросились к бочкам со спиртом, вышибли днища, хлебали спирт чем ни попало, капрал с ястребиной рожей черпал поварешкой, орал: “Вива-а-а-ат! Что хотим, то и делаем!”
Приняв пленных, эскадра начала выбирать якоря. В те же минуты послышались взрывы – французские саперы взрывали минами уже и без того почти разрушенные строения.
В отличие от пехотинцев-десантников моряки держались рыцарями: оказали помощь раненым, накормили всех, даже бельем и обувкой ссудили. Офицеры сочувственно объясняли Ашинову, что вынуждены подчиняться министру и что все было б иначе, не отступись правительство России от ашиновцев.
И действительно, петербургские высшие сферы, не желая ссориться с французской республикой, пальцем не шевельнули в защиту безвестных людишек. Участь “бродяг” была решена: французы доставят их в Порт-Саид или в Александрию, там будут ждать русские суда. Потом повезут бывших колонистов в Одессу, в Севастополь. Согласно высочайшему повелению всех ждет наказание.
Так закончилось хождение за три моря русских мужиков, взыскующих града, искателей вольной землицы.
Е.Велтистов
ГЛОТОК СОЛНЦА
Фантастическая повесть [20]20
Сокращенный вариант. Полностью повесть выйдет в издательстве “Детская литература” в 1967 году.
[Закрыть]

Пятнадцатого мая 2066 года на глазах у ста тысяч зрителей спортивный гравилет С-317 с гонщиком Григорием Сингаевским вошел в шарообразное серебристое облако, возникшее на его пути, и больше не появился.
Это произошло быстрее, чем вам удалось прочитать лаконичную фразу из протокола. Ни один из гравилетчиков, я в этом убежден, не заметил, как появился в чистом небе, на трассе наших гонок, странный серебристый шар. Да, пожалуй, в тот момент никто из нас, тридцати парней, вцепившихся в руль своих машин, никто, пожалуй, не мог сообразить, что это такое – неправдоподобно круглое облако, гигантская шаровая молния или просто запущенный каким-нибудь сумасшедшим елочный шар огромной величины, – это нечто, ударившее нам в глаза слепящим металлическим блеском. Я летел вторым после Сингаевского, точнее, метров на шестьсот сзади и на сто ниже, не упуская из виду силуэт его желтого гравилета, и помню, что сразу за вспышкой жесткого света инстинктивно рванул ручку тормозных двигателей (приказ судьи соревнований раздался чуть позже); помню, как машина вдруг задрала нос, выбросила меня из кресла и с азартом понеслась в белое пекло. То, что это пекло, а не твердая металлическая поверхность, я догадался, увидев, как быстро и красиво, на почти идеальном развороте, нырнул туда желтый гравилет и растворился, исчез в сиянии. Говорят, в эти секунды на телеэкранах была ясно видна счастливая улыбка на моем лице, удивившая всех зрителей; кажется, я даже засмеялся, наваливаясь на упрямо поднятый руль. Я жал на руль, жал как только мог, но чудовищная тяжесть давила мне в грудь, сбрасывала руки, и я чувствовал, что безотказная, такая знакомая машина подчиняется уже не мне, а какой-то силе, вращающей ее, как щепку в водовороте…
На этом сумасшедшая гонка вокруг облака для меня закончилась: я потерял сознание, все так же глупо улыбаясь. “Глупо” – это мнение тех, кто ознакомился с короткой диктофонной записью моих впечатлений, сделанной в больнице. Ну, а для меня, казалось бы, неподходящая к моменту улыбка была проявлением особой радости, с которой я прожил весь день и не хотел расстаться. И об этом, конечно, ничего но скажешь в официальном докладе, в котором надо припомнить и точно изложить обстоятельства гибели своего товарища.
С того дня прошел уже год, я на год стал старше, но не это главное. Насколько я знаю, в истории моей планеты еще не было таких странных на первый взгляд и закономерных, давно ожидаемых людьми событий. И я хочу начать рассказ с того самого утра, когда меня разбудило прикосновение прохладных иголок сосны.
Я сразу вскочил на ноги и понял, что это во сне, может за секунду до пробуждения, я стоял с Каричкой под старой сосной, под ее единственной зеленой лапой, и прощался. А еще хотел включить на ночь диктофон с лентой формул. Ничего бы тогда сказочного не было, я знал бы на пятьдесят формул больше, и все. Сразу же выскочил из дому и, пренебрегая скользящими среди травы лентами механических дорог, помчался к морю, к каменной лестнице, где стояла погнутая старая сосна. А добежав до знакомой лестницы, пошел вниз медленно, не спеша, радуясь и грустя из-за своего предвидения.
Каричка бежала вверх, прыгая через ступени, – честное слово, это была она, я не придумал. И когда она вскинула голову, я увидел корону ее волос, знаете, как солнце, каким его рисуют дети, – мягкое, пушистое, лохматое; я увидел челку над самыми глазами, золотые ободочки в них, и мне почему-то стало совсем грустно.
– Март, – сказала она шепотом, – что я знаю…
И тогда я засмеялся – в первый раз в тот день. Было так приятно стоять у обрыва над самыми волнами, перед запыхавшейся Каричкой, и не знать, что будет дальше.
– Март, – сказала она опять, – ты придешь первым.
– Откуда ты знаешь? – Наверное, я покраснел: я не люблю, когда кто-то вмешивается в мои дела, но сейчас мне было просто приятно.
– Я колдунья, ты не догадался? – Она прыгнула через две ступени. – И вообще, утром надо здороваться.
– Здравствуй, – сказал я, хотя это и выглядело странно в середине разговора.
– Прощай. Я уезжаю.
– Разве сегодня? – Я еще на что-то надеялся, хотя все знал, когда меня во сне уколола ветка. – А почему же Сим ничего не сказал?
– Я совсем забыла предупредить его…
– А Андрей? – Я уже кричал, потому что Каричка убегала и голос ее летел из кустов.
– Привет ему! Я спешу! Буду смотреть, как вы летите. И помни: я колдунья!
Ну, вот мы и остались одни, сосна. Будь у меня крылья, я бы рванулся из-под твоей лапы, махавшей Каричке, прямо в небо, кувыркнулся среди облаков и нырнул в прохладную глубину. Но крыльев у меня не было. У меня был красный гравилет, вылизанный до перышка, отлаженный до винтика, спокойно стоявший в ожидании гонок, которые теперь Каричка увидит только на экране. У меня были Андрей и Сим, я должен был передать им привет от уехавшей Карички. И я просто на своих двоих спустился по лестнице, на ходу сбросил одежду и вошел в воду.
И тут мне опять стало весело.
– Ты придешь первым, бум-бум-бум! – распевал я во все горло, лежа на спине и глядя прямо в лицо солнцу. – Я колдунья, помни! – прорычал я удиравшему в панике крабу, которого спугнул у скользкого от водорослей камня.
Так я довольно долго дурачился, а сам вспоминал белое в синий горошек платье, каштановый затылок и изгиб шеи, когда она низко опускает голову, подрагивание запыхавшихся губ. Эти сухари, электронные души – Андрей и Сим – уже, наверно, трудятся, считают, а я здесь, в светло-зеленом прозрачном мире, гоняюсь за рыбешками, фыркаю, как дельфин, и приветы Карички со мной. Я мог бы взболтать море до самого дна, если бы совесть не намекала, что пора вернуться из глубин на землю, в институт.
Не знаю, зачем придумали эти ползущие в траве пластмассовые дороги. Ими почти никто не пользуется, люди предпочитают ходить или бегать. Ракеты, трансконтинентальные экспрессы, вертолеты – понятно: экономия времени. И гравипланы – понятно: красивые, удобные, современные машины. А от гоночных гравилетов дух захватывает! Они как цирковые артисты: самые обычные с виду и самые ловкие, самые смелые, рискованные в работе.
Я всегда волновался, когда входил в ангар, и сейчас, пробираясь между машин осторожно, как только мог, старался не задеть чужое творение. Именно творение, потому что хотя спортивные гравилеты похожи между собой – легкое птичье крыло, сломанное пополам, с прозрачными каплями кабин на сгибе, – все же опытный глаз гонщика сразу улавливал разницу в конструкции. Она была в изломе крыльев. Десять разных цветов, в которые были окрашены машины, символизировали десять городов, прославивших лучших гонщиков. Никто не знал пока, какие из этих тридцати войдут в первую тройку и продолжат гонки на первенство континентов. Может быть, самое быстрое крыло – мое, ярко-красное, с плавной линией изгиба, обтянутое металлическими перьями?
Я стоял у своего гравилета, трогал ладонью перья и слушал, как они отзываются чистым, долго не смолкающим звоном.
Потом весь день я ощущал в пальцах этот легкий серебристый звон, вспоминал таинственную фразу, казавшуюся очень значительной: “Март, что я знаю…”
Наверное, когда я пришел в лабораторию и уселся за свой стол, заваленный бумагами, моя улыбка взбесила Андрея. Он так и сказал:
– Прости, Март, но у тебя вид блаженной обезьяны. Ты точно впервые слез с дерева и ходишь на задних лапах.
– Ага, – откликнулся я, – ты почти угадал: я еще древнее! Только недавно вылез из моря и впервые понял, что значит дышать.
– И как, понравилось?
Кажется, Андрей был удивлен. Обычно я не реагирую на его зоологические шуточки. Но сегодня готов беседовать даже с неодушевленными предметами.
– Прекрасно! Легкие – гениальное изобретение. Кстати, тебе привет от Карички. Она уехала сдавать экзамены.
– Мне она ничего не сказала, – вмешался в разговор Сим.
И Андрей сразу нахмурился:
– Сим, не отвлекайся, пожалуйста. Поговорим в перерыве. Жаль. Я рассчитывал подкинуть Каричке задание с Л-13.
– Давай мне, – предложил я, удивляясь собственному великодушию. – Обожаю задания с Луны. Сим, тебе тоже поклон.
Андрей молча протянул мне листы. А Сим мигнул оранжевым глазом: он принял поклон к сведению.
Часа три мы работали молча. Такой порядок завел Андрей. Он старший в нашей группе. Ему двадцать один год, он окончил три факультета. У Андрея Прозорова бывает только два состояния: или он молча работает, или шутит о несовершенстве человека.
Это несовершенство было представлено в лице бесстрастного Сима – счетной информационной машины, подпиравшей своими железными плечами стены нашей лаборатории. Мы все трое – Каричка, Андрей и я – работали на беспощадно быстрого Сима и только-только успевали загружать его электронное чрево задачами и расчетами.
Обычно утренняя порция бумаг на столе повергает меня в уныние. После того как я на рассвете пробежал десяток километров, прыгал с вышки, бросал копье и толкал ядро, эти бумаги мне кажутся такими тяжелыми, что не хочется брать их в руки. И хотя я осознаю, что курс программирования полезен для недоучившегося студента, я начинаю сердиться… Я сержусь, как это ни странно, на лунных астрономов и астрофизиков Марса, засыпающих нас сводками. Я сержусь на ракеты-зонды и автоматические обсерватории, ощупывающие своими чуткими усиками горячее Солнце и бросающие из черного пустого космоса водопад цифр прямо на мой стол. Я сержусь даже на Солнце – за что, сам не пойму. Со стороны посмотришь – человек работает нормально: стучит клавишами, пишет, зачеркивает и снова пишет формулы, трет кулаком подбородок. А он, букашка, оказывается, дуется на само Солнце и только к концу дня, расшвыряв все бумаги, чувствует себя победителем. Но что он победил: свой гнев или огненные протуберанцы? Нет, только очередную пачку бумаг.
Сегодня я пересмотрел свое отношение к бумагам. Изучая листы информации с грифом Л-13, я почему-то вспомнил, как увидел однажды в лесу Каричку: она стояла под деревом и задумчиво рисовала в воздухе рукой; солнечные лучи, пробившись сквозь крону, воткнулись в землю у ее ног; мне показалось, она развешивает на них невидимые ноты, и я не стал мешать рождению музыки, тихо ушел… А ведь у этих ребят с тринадцатой лунной станции, которые засыпают меня формулами, сказал я себе, нет ничего: ни прохладного ветра, ни бодрых раскатов грома, ни голубого неба – только град метеоров, беззвучно пробивающих купола зданий, одиночество да волчьи глаза звезд.
А я в кабинете перебираю бумажки, стоившие чудовищных усилий, риска, а иногда и жизней. Нет, что-то не так устроено в этом мире! Почему я, здоровый, румяный, сижу за стеклянной стеной и пальцем, которым мог бы свалить быка, нажимаю на кнопки? Зачем я здесь, а не где-то в песках Марса? Я сам должен нацеливать на звезды телескопы, радары и прочие уловители видимого-невидимого, задыхаться от жары, дрожать от мороза и посылать на Землю, в Институт Солнца добытые мною цифры. Чтоб Андрей Прозоров обрабатывал их, а Сим мгновенно переваривал. Вот это будет правильно. И если говорить откровенно, меня ведь никто не держит на привязи в операторской и за спиной моей трепещут крылья гравилета. Я уже видел, как мчусь на своем гравилете прямо к Солнцу, а рядом со мной – Каричка…
– Неужели на Л-13 такие юмористы? – не оборачиваясь, сказал Андрей.
– А что?
– Ты опять улыбаешься?
– Это я так, вообще. А с Л-13 покончено. Возьми. Андрей взглянул на мои расчеты и кивнул: он был доволен.
– Ты заметил, – сказал Андрей, – без женщин гораздо легче работается.
– Не согласен, – прогудел Сим. – Когда Каричка поет, я работаю быстрее.
От неожиданности мы с Андреем рассмеялись.
– Каков Сим, а? – Андрей подмигнул мне.
А я крикнул:
– Присоединяюсь, Сим! – и засвистел “Волшебную тарелочку Галактики”.
– Вот доказательство, – нравоучительно произнес Сим. – Все вы поете ее песни. – И он предупредительно распахнул перед нами дверь.
…Я не изменил своего обычного режима перед гонками. Во-первых, не пропустил лекцию: забрался в зимний сад на втором этаже и под какими-то колючими кустами включил телевизор. И сразу же окунулся в пространство, населенное галактиками, и с легкостью спящего понесся навстречу далеким мирам, представшим предо мною ничтожной песчинкой мироздания – в виде изящных устричных раковин и клубка скрученных в кольца змей, ярких, блестящих шаров и едва различимых пятен темного тумана. Где-то вдали от меня они жили своей жизнью, как грозовые облака в далях неба, взрывались и угасали, крутились и разлетались в разные стороны. Я слышал знакомый голос профессора, вглядывался в мелькавшие формулы, а сам думал про то, как эта лекция запоздала. Она безнадежно устарела бы даже для древних египтян, имей они телевизоры. То, что я видел, было тысячи и миллионы лет назад, и кто знает, какие они теперь – эти спиральные и эллиптические, разложенные по научным полочкам, расклассифицированные, как домашние животные, галактики.
Мне очень хотелось быть сегодня всемогущим. Потом, после лекции, когда я делал гимнастику, крутился на центрифуге и, вытянувшись во весь рост, заложив руки за голову, отдыхал в зале невесомости, я щедро раздавал людям бессмертие и сверхсветовые скорости, цивилизации других планет и невидимые пружины, вращающие галактики. Я занимался и делами помельче: зажигал искусственные солнца, смещал земную ось, бурил насквозь весь шарик, строил роботов с гибким мышлением человека – словом, воплощал все то, что уже описано в фантастических книгах. И в то же время – до чего человек умеет ловко совмещать высокое, торжественное со своими практическими заботами! – ловил шумы с улицы, представлял, как прибывает в город публика, как притащили грузовые вертолеты каркасы трибун и устанавливают их на берегу, как развешивают судьи огромные золотые шары, мимо которых мы, гонщики, пронесемся много раз. И уже круглые площадки с подвижными хоботками телекамер повисли, наверное, над морем. И уже прилетел на судейской машине комментатор с бархатистым, убаюкивающим голосом.
Подходя к ангару, я и вправду услышал знакомый баритон, льющийся из динамиков. Комментатор Байкалов прежде всего сообщил болельщикам, что час назад он вел репортаж о подводном заплыве в Красном море и теперь рад подняться под облака. Облаков, правда, не было: синоптики убрали с нашего пути все помехи и – я знал это – в заключение готовились зажечь полярное сияние. На телеэкране, висевшем на стене прямо над моей машиной, мелькали знакомые кадры города, взбудораженного праздником. Камеры, подчиняясь полководческим жестам Байкалова, выхватывали из всеобщей суматохи разгоряченные лица, яркие флаги, парящие машины. Посадочные площадки были уже плотно уставлены транспортом, и пассажирские гравипланы выбирали свободные крыши. Блеснули на солнце акульи тела двух ракет, и комментатор, несомненно, заметил их со своей высоты; несколько минут он держал ракеты в резерве, а когда они сели возле леса, взял у пассажиров интервью.
Честно говоря, на нас неприятно действовали эти картинки. Гонщики старались не смотреть на экраны, громко разговаривали, чересчур много шутили, а когда Байкалов перешел к биографиям, все полезли осматривать машины.
И вдруг в ангаре стало тихо. В голубом квадрате ворот появился высокий человек в белом свитере – Гриша Сингаевский. Он пришел самым последним и сразу догадался, что надо просто выключить эту болтливую технику. “Ура Сингаевскому!” – крикнул кто-то, и мы радостно завопили, как вырвавшиеся на перемену школьники. Его все любили – неторопливого скуластого синоптика с твердым взглядом блестящих глаз. Вот кто был настоящим воздушником! Я думаю, если бы ему запретили полеты, он бы просто не знал, как жить.
Сингаевский только взглянул на простодушно-прямое крыло моего гравилета и сразу догадался.
– Ну что? Хочешь меня обогнать? Попробуй поищи ее!
И хлопнул по плечу. Другие тоже приглядывались, но ничего не говорили. А он прямо сказал: попробуй поищи.
– Что ж, поищу, – ответил я, чувствуя, как волнение охватывает меня.
– Желаю.
– И тебе.
Мы поднялись с ровного травяного поля тремя группами – группа белых, желтых, красных – и пошли не к морю, где гудела толпа тысяч в сто, а над городом. Это был не парадный строй, скорее, мы казались беспечными туристами или, скажем, разноцветными бумерангами, брошенными ленивой рукой. Но такое впечатление было обманчиво, как обманчив вид спокойного мускула, в котором постепенно напрягаются нервы. Ничто в воздухе не двигалось, кроме нас, и это опустевшее вдруг пространство пугало своей голубой торжественностью. Мы крались над самыми крышами, приглядываясь друг к другу, примериваясь крылом к волне гравитонов. Самое важное было нащупать, поймать сильную волну. Уже задрожали стрелки приборов и шевельнулись, чуть приподнялись чуткие перья на крыле машины, но я знал, что еще рано ловить эту самую волну.
А перья тихонько пели, но все равно это была не та волна. Я делал едва заметные глазу скачки – поднимался и опускался, рыскал по сторонам. Многие гонщики тоже искали волну, стараясь не выдать своего напряжения. Уже неумолимо приближались полукруг стадиона и синее полотно моря, вдали сверкнули золотые точки – стартовые шары, а мы, герои дня, шли к ним совсем не парадным строем, а беспорядочной толпой. Что ж, в конце концов каждый музыкант перед началом концерта раскладывает ноты и настраивает свой инструмент. Звучит эта разноголосица в оркестровой яме не очень-то приятно для слуха, зато потом взмахнет дирижер, замрет зал, каждый инструмент будет петь свое и в их едином порыве родится мелодия.
Однако, если уж прибегать к сравнениям, то я думаю, вряд ли музыканты перед выступлением так кляли свою судьбу, как наши ребята, приближаясь к золотым воротам гонок. Я видел это по мелким рывкам машин и представлял, как ворчат гонщики на всю Вселенную. Мы должны были ловить волны гравитонов, которые посылали далекие галактики. Что поделаешь – спорт!
А перья вдруг запели: “Март, я колдунья…” Мне сразу стало легче, я решил больше не смотреть на дрожащую стрелку. Поднял голову – прямо перед носом шар. Тормознул, встал на линию, замер с включенным двигателем. Мне теперь все равно, откуда начинать. Пусть Сингаевский висит сверху. Пусть другие перескакивают с места на место. Пусть выбирают позицию. Я не двинусь. Я все равно ее поймаю – свою волну.
– Готов! – ответил я, как и все, главному судье и инстинктивно подался в кресле вперед. Я видел теперь только цепочку шаров и голубое спокойное пространство.
Ребята пошли легко, красиво, плавно набирая скорость. Я даже чуть задержался, когда фыркнула стартовая ракета, а через мгновение висел уже в хвосте у группы, причем резал дорожку наискосок – вверх и налево: искал ее, одну-единственную, мою волну. Хоть перевернись ты, Галактика, хоть взорвись на смех другим, а я сумею ее найти, обгоню ветер, поймаю солнечный луч, глотну горячего солнца.
Так я резал дорожку наискосок, и меня пронзала дрожь нетерпения: глаза устремились вперед, словно могли увидеть волну, и весь я летел впереди машины. Но нельзя, никак нельзя было пускать двигатель на полную мощность: рано. И постепенно дух спокойствия возвращался ко мне: сначала остыла голова, потом улеглись зудевшие руки. Может быть, некоторые нетерпеливые гонщики и торопились, а основная группа шла на большой скорости, но еще не в темпе финишного рывка. Ничего, у самого последнего гонщика еще есть преимущества. Во-первых, поворот, вот он. Ставлю машину на крыло, плавно делаю вираж и обхожу белый гравилет – ни треска, ни толчков, ни снижения скорости. Итак, дорогой мой коллега, ты, надеюсь, понял преимущества прямого крыла: выигранные метры на поворотах, это раз. А второе, когда будет хорошая волна…







