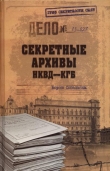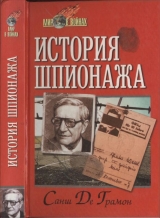
Текст книги "История шпионажа"
Автор книги: Санш Де Грамон
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 36 страниц)
Позиция западных стран по отношению к перебежчикам с Востока полна противоречий. Официальный Вашингтон поощряет дезертирство как бегство к свободе, прекрасное решение для порабощенных жителей Советского Союза и его сателлитов. Комитет по расследованию антиамериканской деятельности в своем докладе «Модели коммунистического шпионажа» предлагает создание программы из четырех пунктов, которая сделает дезертирство более безопасным и привлекательным.
1. Дезертиры должны освобождаться от ответственности за урон, нанесенный в результате их разведывательной деятельности. Это ограничение не должно относиться к шпионажу, и шпион или дипломат, который занимался разведывательной деятельностью до времени побега, может преследоваться законом после того, как он выберет свободу.
2. Дезертиров нельзя подкупать. Александр Орлов отмечал, что «предложение денег не сыграет хорошую роль, так как чувства людей, принимающих подобное решение, нельзя тронуть деньгами, потому что они оставляют свои семьи, свою страну, свое прошлое, с которым они неразрывно связаны. Они почувствуют себя оскорбленными. Они не хотят, чтобы их считали предателями, они не хотят быть предателями в собственных глазах».
Хотя их и не следует подкупать, им нужно предоставлять гарантии финансовой безопасности. Когда Петрову предложили 5000 фунтов, австралийский представитель настаивал на том, что это не было взяткой. Однако это лишь вопрос семантики. Перебежчику нужно давать деньги, но при этом следует утверждать, что его не подкупают. В докладе говорится: «Дипломат или агент коммунистической страны, выбирая свободу, теряет все, кроме одежды, которая была на нем, и денег, которые лежали в его кармане. Он должен начать новую жизнь в стране, чьи традиции и язык он часто не знает».
3. Дезертирам следует предоставлять постоянное место жительства в Соединенных Штатах Америки. Попадая под действие суровых иммиграционных законов и квот, перебежчик теоретически оказывается в позиции человека без страны, как только он попадает на Запад. Он рассказывает все, что знает о советской разведке, а затем сталкивается с возможностью выдворения за пределы США.
4. Дезертирам нужно обещать, что их жизнь будет находиться под защитой. Люди, прожившие большую часть жизни с пониманием мощи советских секретных служб, знают, что они не находятся в безопасности от похищения или убийства.
Склонение к дезертирству дает весьма позитивные результаты. Часть дезертирующих офицеров КГБ или ГРУ приносит западным разведывательным организациям ценнейшую информацию, которая заставляет советскую разведку менять свои планы и перемещать агентов.
Но американские представители, работающие в Западной Германии, знают проблему перебежчиков гораздо лучше и придерживаются противоположной точки зрения. Они указывают, что перебежчики не приносят пользы Западу по трем причинам. Во-первых, на каждого перебежчика, ценного с точки зрения разведки, приходится несколько сотен людей, не имеющих абсолютно никакой информации. Тем не менее всех их нужно проверять. Судьба обычного перебежчика несчастна. Большая часть дезертиров бежит из Польши или Чехословакии в Западную Германию. Вот что случается с перебежчиком, если он не важное официальное лицо, к которому нужно относиться с почтением.
Перебежчиков обычно задерживают баварские пограничники. О них извещаются западные разведывательные службы, и представители военной контрразведки, французской и британской разведок ведут долгие допросы. Затем на дезертиров набрасываются «Голос Америки», радио «Свобода», радио «Свободная Европа», которые стремятся узнать о переменах и настроениях людей по ту сторону железного занавеса. После этого короткого «медового месяца», во время которого с перебежчиком хорошо обращаются, так как ему есть что рассказать, он оказывается в положении скота. Обратившегося за предоставлением политического убежища человека помещают в «высококлассный концентрационный лагерь» – Федеральный сборный пункт для иностранцев возле Нюрнберга. Поскольку беженцы составляют 25 % жителей Западной Германии, политическое убежище предоставляется не всем. У властей этой страны хватает проблем с собственными беженцами, чтобы еще беспокоиться по поводу перебежчиков из Советского Союза и его сателлитов. Беженцы из Восточной Германии не считаются перебежчиками – с официальной точки зрения, они переезжают из одной части страны в другую, и им автоматически дают гражданство Западной Германии.
Остальные попадают под действие Женевской конвенции, в которой говорится, что политическое убежище должно быть предоставлено тем, кто покинул свою страну из-за преследований по политическим мотивам. Многие люди уезжают по личным, а не по политическим причинам, и им политическое убежище не предоставляется. Даже тем, кому оно должно быть дано, окончания всех процедур приходится ждать в лагере вместе со своими семьями. В это время они не имеют законного статуса. Короче говоря, не могут работать, путешествовать, жениться. Бюрократический абсурд доходит до того, что этим людям нельзя даже умереть до окончания всех формальностей.
Если человеку отказывают в предоставлении политического убежища или в предоставлении гражданства Западной Германии по экономическим причинам, он может прожить в лагере два года, необходимых для автоматического приобретения гражданства ФРГ. Затем он имеет право ехать в те страны, где ценится дешевая рабочая сила. Неопределенность, в которой находится лагерь (каждый год Западная Германия проводит кампании по его закрытию, которое постоянно переносится на следующий год), – нерадостное приветствие для тех, кто «выбрал свободу», поэтому неудивительно, что довольно высоко число тех, кто вернулся на родину. Промучившись в лагере около года, перебежчик иногда предпочитает вернуться в родную страну и провести там определенный срок в тюрьме.
Это подводит нас ко второй причине, по которой дезертирство не поощряется нашими союзниками в Западной Германии. Перебежчик, вернувшийся на родину, представляет собой огромную ценность для Востока с точки зрения пропаганды и разведывательных данных. Когда он возвращается домой, то выступает на радио, описывая ужасы Запада, лагеря, бесконечное ожидание, плохие условия жизни. Это отвращение неподдельно, поэтому его слова звучат искренне, что очень редко встречается в радиовыступлениях в условиях тоталитарного режима. Когда возвращенец утрачивает свою ценность, его отправляют в лагерь, в тюрьму или в один из слаборазвитых регионов Советского Союза.
Третья причина двоякого отношения Запада к дезертирам – понимание того, что недовольный режимом человек может принести больше пользы, если останется у себя на родине. Наиболее энергичные из оставшихся в СССР и странах – его союзниках способны вести довольно эффективные подрывные действия. Они могут способствовать изменениям в системе или начать восстание.
Их можно использовать в качестве агентов «трения», которые создают внутренние трудности в жизни режима. Все эти преимущества утрачиваются, как только такой человек дезертирует. Эта проблема особенно остро стоит в Западной Германии, руководители которой с тревогой смотрят на нарастающий поток беженцев с Востока. Их надежды на объединенную Германию тают с каждым новым потоком беженцев.[26]26
Как известно, объединение двух германских государств произошло в октябре 1990 года. (Прим. ред.
[Закрыть]Таким образом, вместо общей для Вашингтона и союзных государств программы по работе с дезертирами существуют противоречия между Соединенными Штатами и странами, в которых приток перебежчиков особенно велик. Идеологическая пища, которой нас кормят дома, питает веру в то, что дезертирство должно поощряться как вид самоопределения человека. Факты, однако, утверждают, что оно создает проблем больше, чем решает, и для самого перебежчика, и для страны, в которую он дезертирует. И, поскольку нет общей рабочей программы, судьба «ценных» перебежчиков часто зависит от человеческого фактора. В некоторых случаях побег удается благодаря терпению и уму представителей дипломатических или разведывательных организаций, а в некоторых оказывается неудачным из-за несоответствующих ситуации действий.
В 1959 году Бирма стала свидетелем двух побегов, один из которых закончился провалом, а второй успехом. Неудачный побег был первым, но это не испугало второго перебежчика.
Когда М. И. Стригина назначили в 1957 году военным атташе в Рангуне, его жене и четырнадцатилетней дочери не разрешили поехать с ним. Традиционно – первый знак того, что над человеком собираются тучи. Для дипломата это служит сигналом, что его семья будет взята в заложники, если он соберется дезертировать. Механизм этот как правило маскируется. Стригину, возможно, сказали следующее: «Ваша поездка не будет долгой; Ваша дочь уже заканчивает обучение, а Вы ведь хотите, чтобы она закончила советскую школу, поэтому пусть она завершает учебу, а Ваша жена останется с ней».
Александр Орлов отмечал, что человек, которого отправили за границу без семьи, начинает беспокоиться и перестает эффективно работать. Он знает, что ему больше не доверяют. В этом случае есть два выхода:
«Такой человек пишет в Москву, что не может работать, что он хочет вернуться, его работа замедляется – это уже не одно и то же. Нельзя отправлять человека рисковать жизнью и одновременно показывать ему, что он потерял доверие. Поэтому ему привозят жену и детей. Некоторые сотрудники, семьи которых остались в России, никогда не поменяют безопасность и жизнь членов своей семьи на сомнительное будущее в США. Они продолжают работать, возвращаются в Москву и пользуются случаем только тогда, когда они уверены, что никто не пострадает».
Полковник Стригин, спокойный человек, похожий на Фрэнка Синатру, переживал слишком сильно. Он был ветераном войны, вступил в Красную Армию в возрасте семнадцати лет, за боевые заслуги уже в тридцать один год стал полковником.
Два года он провел во Франкфурте, где служил офицером по связи с американскими войсками и из-за этой работы попал под подозрение. Он видел западную жизнь, ему нравилась открытость американских офицеров, с которыми работал. После командировки по Западной Германии он сравнил то, что увидел, с тем, что писали в газетах и журналах о жизни на Западе. Эти семена сомнения попали на почву, удобренную недоверием руководства. Он провел в Рангуне два года, а его жена и дочь все еще были в Москве.
Неспособность Стригина сконцентрироваться на работе привела к официальным упрекам. 28 апреля ему сделали выговор на собрании членов КПСС, состоявшемся в посольстве. Он признал свои ошибки, объяснив их болезнью сердца, и сказал, что уже подал заявление о переводе в Москву. Он попросил членов партии простить его. То, как он защищался, привело в раздражение посла, который заметил: «Он обещает изменить свое поведение и улучшить работу, но ведет себя, как женщина».
Через три часа после собрания полковник Стригин, охваченный волнением и неуверенностью, пытался покончить с собой. Он был найден лежащим без сознания в своем доме, об этом, по установленному порядку, известили посольство. Сотрудники службы безопасности буквально прилетели к его дому и неохотно позволили увезти в больницу, где ему сделали промывание желудка, которое показало, что он принял большую дозу снотворного.
В больнице около его кровати стояла охрана в штатском. Когда Стригин на следующий день пришел в себя, охранники начали ругать его и называть предателем.
«Я не предатель! – закричал Стригин. – Это вы предатели. Почему вы не говорите на английском, чтобы вас все поняли?» Он обратился за помощью к медсестре, которая измеряла его температуру. «Вы разве не понимаете? – сказал он, разозлившись. – У меня в России осталась четырнадцатилетняя дочь».
Той ночью Стригин предпринял безуспешную попытку обратиться за политическим убежищем. Воспользовавшись невнимательностью своих охранников, он вскочил кровати и выпрыгнул из окна своей палаты, которая находилась на первом этаже. Он бежал, спотыкаясь, по двору больницы и кричал: «Бирманская армия, помогите!» Он добрался до комнаты охраны, но солдаты были слишком удивлены, чтобы действовать быстро, и к тому моменту, когда они вызвали дежурившего офицера, Стригина уже схватили русские.
Они объяснили врачам, что у него был нервный срыв. Врачи не обращали внимания на требования Стригина вызвать руководителя бирманской контрразведки, хотя он дал им даже номер его телефона. Охранникам удалось довести полковника до бессознательного состояния, и его отвезли в посольство.
На следующий день в газетах появились короткие заметки, рассказывавшие о произошедшем в больнице, но власти не приняли никаких мер.
Через несколько дней в аэропорту Рангуна приземлился китайский самолет. К самолету подъехали девять черных лимузинов и окружили его. Из восьми вышло по пять человек. Из девятой вывели слабого человека, который не мог идти самостоятельно. Его почти загрузили в самолет. Охрана не пропускала к Стригину журналистов и фотографов.
Операция была организована в тесном взаимодействии с китайскими коммунистами, и Стригина сопровождал китайский военный атташе. О судьбе полковника ничего не известно.
Контрастом неудачному побегу полковника Стригина стало дезертирство в следующем месяце Александра Юрьевича Казначеева, который бежал с подобающим для дипломата спокойствием. В его случае не было неприятных сцен в аэропорту, прыжков из окна и криков в больнице. Его побег был образцовым. По словам Арнольда Бейхмана, освещавшего этот случай для «Христиан сайенс монитор», дезертирство оказало большое влияние на общественное мнение Бирмы. «То, что советский дипломат, работавший в течение двух лет в Бирме, решил оставить свое правительство, до сих пор остается главной темой разговоров», – писал он. Казначеев работал в посольстве и был агентом разведки.
Редактор рангунской газеты «Гардиан» так комментировал этот случай:
«Фактом, который нанесет престижу СССР больший урон, станет то, что Казначееву еще нет тридцати лет, то есть до недавнего времени он знал только лучшее из того, что может предложить Советский Союз. То, что он решил отказаться от этих официальных благ при первом же знакомстве со свободой человека в Бирме, нанесет советской пропаганде такой удар, от которого она не сможет оправиться в этой части мира».
Кем же был молодой член привилегированного советского «нового класса», который дезертировал через несколько месяцев после того, как ему дали важное задание, и всего через месяц после неудачного побега его коллеги?
Казначеев происходил из семьи, которая, по западным меркам, относится к высшему слою среднего класса. Можно сказать, что его семья «была обеспеченной». В юности он мог позволить себе бросить школу и стать стилягой – советским вариантом хиппи.
Стиляги выражают свое презрение к режиму, эксцентрично одеваясь, бросая учебу, имитируя американских подростков. Они подражают американцам, протестуя против скуки и обыденности советской жизни. При Сталине такое «декадентское» поведение молодежи подавлялось массовыми отправками в лагеря. При Хрущеве протесты против подобного поведения детей влиятельных родителей появляются только в печати. Газета «Советская культура» писала:
«Стиляги составляют только часть молодежи, но до сих пор власти ничего не предпринимают против них, хотя они выставляют напоказ свою эксцентричную внешность: длинные пиджаки в желтую или зеленую клетку, яркие „американские“ галстуки, накладные карманы, подкладные плечи, завернутые манжеты, узкие брюки и – гордость всего наряда – желтые или светло-коричневые ботинки с толстыми подошвами, которые должны быть на размер больше, чтобы носки загибались вверх. Их прически – образец искусства, они любят бакенбарды. Вечера они проводят в барах или бильярдных салонах, либо там, где можно танцевать. Вечером их можно встретить в любой гостинице, где есть оркестр, но они предпочитают танцевать под плохие записи американского джаза. С ними приходят девушки-стиляги, которые носят обтягивающие до неприличия юбки и платья. Они носят юбки с разрезом. Летом они носят сандалии. Их прически сделаны в стиле „модных“ киноактрис».
Эдвард Кренкшо писал в книге «Жизнь без Сталина»:
«Они именуют города и улицы их старыми названиями: вместо Ленинград они говорят Петроград, вместо Сталинград – Царицын, о чем другие уже не вспоминают. Московскую улицу Горького они называют Бродвеем. Когда они встречаются на улицах, то говорят: „Добрый вечер, леди и джентльмены“, даже если встречаются только юноша и девушка. Не употребляется слово „товарищ“, вместо него используется „мистер“. Копейки называют центами, рубли – долларами».
Мать Казначеева была медсестрой, в 1941 году она стала врачом, но никогда им не работала, его отец был специалистом по электронике в одном из институтов Академии наук СССР. Александр был единственным ребенком в семье – еще один признак нового класса. Казначеев сказал, выступая перед Комитетом сената по внутренней безопасности: «У меня нет московских друзей или знакомых, у которых бы было три или четыре ребенка. Я никогда не видел таких семей. Я могу утверждать, что 30 % городского населения могут позволить себе завести двух детей, 50 % – только одного ребенка, а 20 % вообще не могут позволить себе завести детей… Около 80 % населения России живет в городах в таких условиях, о которых я сейчас рассказал. Население России составляло 50 % населения Советского Союза в 1919 году. Сегодня эта цифра не превышает 30 %».
Впервые Казначеев проявил свое «неудовлетворение жизнью» в старших классах школы, когда он присоединился к группе стиляг. Он вспоминал, что группа состояла «из разной молодежи – от уголовников до нонконформистов».
Для него вступление в эту группу было «выражением оппозиции режиму, выражением разочарования молодежи в условиях, в которых она живет, в учении партии, выражением осознания того, что молодежь – рабы коммунистического режима».
Однако восторжествовал здравый смысл, и Александр осенью пошел в школу. Следующая организация, в которую он вступил, была совершенно другой по характеру. Комсомол – молодежная организация, в которой состоит около 90 % советских студентов. Казначеев решил поступить в Московский институт востоковедения, и ему пришлось подать заявление в комсомол, членство в котором было обязательным для поступающих. «Это было необходимо, – говорил он. – Так же необходимо, как и быть гражданином СССР. Если ты гражданин Советского Союза, в молодости ты не можешь не быть членом комсомола, так как это может быть опасно».
Членство в комсомоле включало в себя посещение собраний и политическую работу во время выборов. «Мне дали несколько домов, которые я должен был посещать по крайней мере раз в неделю, составлять списки избирателей, читать им лекции о политике и решениях советского правительства, я должен был сделать так, чтобы все они пришли на выборы и проголосовали. Как правило избиратели были пассивны и не проявляли ни малейшего интереса к выборам. Когда они приходили на участки, около 50 % не знали, за кого голосуют, хотя кандидат всегда только один».
Проучившись три года в институте востоковедения, Казначеев, благодаря отличному диплому и рекомендации комсомола, смог поступить в Московский государственный институт международных отношений – школу Министерства иностранных дел СССР.
Там он изучал бирманский язык, институт окончил в 1956 году. Человека, знающего бирманский, МИД обычно отправлял в Африку или Южную Америку, но Казначеева в начале 1957 года отправили в Бирму. К тому времени он уже успел жениться и развестись, и его бывшая жена и маленький ребенок остались в СССР.
С марта по декабрь он проходил языковую и географическую подготовку в Рангуне. Вернувшись в Москву, произвел хорошее впечатление на свое руководство, и его отправили в советское посольство в Рангуне в должности пресс-атташе.
За день до отъезда в Рангун Казначеева пригласили выпить двое дипломатов, работавших ранее в Бирме. Они сказали: «Мы работаем в политической разведке, и мы выбрали вас для нашей работы».
Казначеев вспоминал: «Это было не предложение, а приказ. Я не мог отказаться. Они сказали, что меня выбрали из-за того, что я знал Бирму и бирманский язык. Я подписал клятву, что буду хранить все секреты, доверенные мне, что я буду делать все возможное для выполнения своих обязанностей. Меня предупредили, что, если я выдам какую-либо государственную тайну, меня ждет наказание, вплоть до смертной казни. Мне приказали никому не говорить о том, что я работаю на разведку, даже послу».
Казначеев прибыл в Рангун с прикрытием дипломата. Он был пресс-атташе, представителем «низшего дипломатического ранга, не имеющим ничего общего с прессой». Его тайными обязанностями были: переводить с бирманского языка на русский документы, похищенные советской разведкой, встречаться с бирманскими политиками, получать информацию о политических партиях, пытаться завербовать в их рядах советских агентов, встречаться с представителями других иностранных миссий в Рангуне, включая американцев, следить за поведением и моралью других советских граждан.
Связь между Казначеевым и советским режимом ослабла тогда, когда он понял, что людей его национальности любили не все бирманцы. Он понял, что с ними трудно знакомиться. Его встречали с подозрением, а не с восторгом.
«Многие люди открыто отказывались иметь со мной что-либо общее», – говорил он. Однажды он приехал в маленький город на реке с тремя бирманцами, с которыми ему удалось подружиться. «Мы искали дом, в котором можно было провести две-три ночи. Нас пустил к себе местный лоцман. Он пришел на следующий день, спросил, кто я, и узнал, что я из советского посольства».
«Забирай свои вещи и проваливай», – сказал бирманец Казначееву. Бирманцы, которые не знали, что гость говорит по-бирмански, в разговоре произнесли такую фразу: «Из-за русских всегда неприятности. Они все шпионы».
Описание Казначеевым холодного приема, который бирманцы оказывают русским, и ошибок, которые они делают в этой стране, вполне можно назвать «Скверный русский». Он показал, что просчеты и ошибки, допускаемые американцами на Дальнем Востоке, которые описаны в книге «Скверный американец», допускает и СССР. Приведем несколько моментов из этой книги, которые, по словам Казначеева, можно отнести и к русским:
На задания отправляют американцев, не знающих языка: «В советском посольстве в Рангуне я был единственным человеком, который мог разговаривать на бирманском языке. Больше таких людей в посольстве не было».
Американцы неохотно идут на контакт с местными жителями: «Вся система советских внешних отношений построена так, что она не дает устанавливать тесные контакты с местными жителями. Конечно, работникам посольства приказывали заводить друзей среди местного населения… но в то же время нам рекомендовали не заходить слишком далеко в отношениях с бирманцами. Нас постоянно предупреждали, что никому нельзя доверять».
Американцы не могут встречаться с местными жителями на их уровне: «Как правило в посольстве говорили, что страна бедна, в ней нет ничего интересного, жители страны ленивы, бедны, полны предрассудков». Когда бирманский студент, учившийся в Москве, женился на русской девушке, «посол был в ярости, он называл девушку проституткой… потому что она вышла замуж за человека низшей расы».
Американцы не пытаются подстроиться под обычаи страны, в то время как русские завоевывают людей пониманием их традиций: «Я лично присутствовал на встрече советских представителей и влиятельных бирманских монахов в Мандалае, центре бирманского буддизма. В состав советской делегации входил и посол СССР. Когда члены делегации прибыли в пагоду, им предложили сесть. Они отказались по совету посла. Им предложили поесть, но они отказались, сказав, что пища не подходит советским желудкам. Член парламента Бирмы позднее упомянул об этом инциденте в разговоре с послом, который раздраженно сказал: „Зачем нам садиться? В России, если мы хотим выразить уважение к кому-либо, мы стоим“».
Возможно, Казначеев мог бы быть представителем русского аналога «Скверного американца», но он понимал страну, в которой жил, и пытался исправить ошибки других. Он полюбил Бирму и ее жителей. «Практически все свободное время я проводил со своими бирманскими друзьями. Рабочий день в советском посольстве длился с 8 утра до 2 дня. После этого я начинал совершенно другую жизнь. Я навещал своих друзей, которые часто приглашали меня к себе домой. Я в значительной мере привык к бирманскому образу жизни. Иногда бирманцы говорили мне, что они забывали, что я иностранец. Я ненавидел оставаться в посольстве, атмосфера которого была очень натянутой и недружелюбной. Моя настоящая жизнь начиналась только тогда, когда я был со своими друзьями.
Среди бирманцев у меня было много близких друзей. Я верил им, и они очень хорошо относились ко мне. Некоторые из них знали о том, что я хочу бежать, за несколько месяцев до того, как я предпринял этот шаг. Фактически, я доверил им свою жизнь, и они меня не предали».
Казначеев стал известен в советских кругах Рангуна как «любитель Бирмы». Профессор Горшков, приезжавший сюда в составе миссии ООН, докладывал в Москву, что молодой дипломат попал под влияние капиталистического окружения и ведет себя очень подозрительно. Но в Москве не обратили внимания на это предостережение, так как Казначеев был сотрудником разведки, которому по роду деятельности приходилось часто встречаться с бирманцами.
Прожив в Бирме два года, Казначеев понял, что единственным решением при его нарастающем отвращении ко всему советскому и любви к Бирме может быть дезертирство. Он планировал сдаться бирманским властям, но опыт полковника Стригина показал ему, что правительство Бирмы скорее всего не сможет эффективно решить эту проблему.
Казначеев хорошо обдумал свой побег. 23 июня 1959 года он приехал в центр Рангуна. Вместо того чтобы обратиться в американское посольство, он пошел в библиотеку Информационной службы США, находившейся в большом здании. То, что он посетил это здание, не должно было вызвать подозрений. Дипломат сказал библиотекарю, что хочет встретиться с кем-нибудь из посольства, вскоре в библиотеку пришел один из сотрудников. Он очень осторожно отнесся к просьбе Казначеева, понимая, что подобный инцидент может создать США плохую репутацию в глазах бирманцев. Однако слова русского звучали довольно убедительно, и встреча была назначена на следующий день в том же месте.
На этой встрече Казначеев сказал, что откажется от советского гражданства в обмен на политическое убежище. Он выразил опасение в связи с возможностью возмездия, направленного против его родителей, бывшей жены и двухлетнего ребенка. Однако добавил при этом, что высокое положение в обществе его отца ограждает его от подобных действий, а тот факт, что он разведен, возможно, защитит бывшую жену и ребенка.
Затем Казначеева допросил сотрудник ЦРУ, который должен был дать свое согласие на организацию побега. Перебежчика должны были привезти в американское посольство, но акция была задержана дипломатическими осложнениями. В тот день американский посол Уолтер П. Макконаги принимал советского посла Алексея Шилборина, который наносил прощальные визиты перед отъездом из страны.
Американская приверженность протоколу не позволяла провести советского дезертира на территорию посольства в тот момент, когда его руководитель обменивался любезностями с американским коллегой. Казначеева держали в надежном месте до тех пор, пока не окончился визит советского посла. После этого двадцатисемилетнему перебежчику предоставили комнату на верхнем этаже посольства, в которой он и находился пять дней до отъезда в Вашингтон.
Американский посол незамедлительно уведомил правительство Бирмы о дезертирстве, а официальное заявление для прессы было сделано 26 июня. Неизбежная пресс-конференция была проведена. На следующий день Казначеев отвечал на вопросы журналистов, говоря по-бирмански.
Во время пребывания в посольстве Казначеев написал объяснение побега и кратко рассказал о своей жизни. Ему дали одежду, так как у него было только то, в чем он бежал, он читал газеты и журналы, его познакомили с фильмотекой посольства.
Посол Макконаги поддержал требование бирманского МИД допросить перебежчика. В день отъезда в Вашингтон его привезли для допроса в Министерство обороны в Рангуне. Беседа продолжалась с 12 до 4 часов дня. Министр иностранных дел Бирмы Ю Чан Хтун Аунг предложил советскому послу встретиться с Казначеевым до его вылета в Вашингтон, но предложение было отвергнуто.
Из Министерства обороны дезертира на лимузине американского посольства в сопровождении бирманских военных доставили в аэропорт Рангуна. Он позировал фотографам, стоя на трапе самолета американских ВВС. Улыбаясь, повернулся к группе людей из советского посольства, которые также делали снимки.
Контраст с вынужденным полетом полковника Стригина, произошедшим всего за месяц до этого, был поразителен. Казначеев вошел в самолет сам, без сопровождения. Охрана не отгоняла фотографов, у официальных представителей в карманах не лежали шприцы со снотворным, а в полете путешественника не сопровождала вооруженная охрана.
В то время как мы наблюдаем такой очевидный побег от притеснений к свободе, чем можно объяснить обратное? Это побег от свободы к притеснениям? У перебежчиков из СССР прямое мышление, а у перебежчиков из США искривленное? Два самых интригующих побега с участием американцев произошли в начале и конце того времени, которое называют «позорным десятилетием».