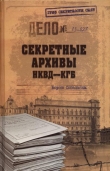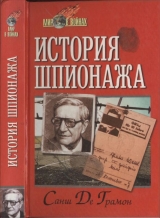
Текст книги "История шпионажа"
Автор книги: Санш Де Грамон
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 36 страниц)
11. «Я люблю измену, но не предателей»[21]21
Октавий Цезарь.
[Закрыть]
В истории всегда существовали Абели и Лонсдейлы, предатели – хотя о них известно меньше – тоже не были редкостью, но за годы холодной войны фигура перебежчика приобрела такую значимость, что одной из важнейших функций советской и американской разведок стало поощрение недовольных «сменить систему». Человек отворачивается от своей страны, работы, семьи, он бросает все и принимает новую веру, новые принципы и обязанности, которые иногда ему совсем не подходят. Перебежчики постоянно движутся в обоих направлениях, и в Москве и Вашингтоне уже можно найти целые кварталы, в которых они живут.
Дезертирство в наши дни перестало быть просто изменой, оно стало решением личных проблем, альтернативой самоубийству, лекарством от невроза, бегством от пустоты и абсурда и, помимо всего, идеологическим решением. Люди, ставшие дезертирами, очень разные – это могут быть известные ученые и общественные деятели, а также простые туристы, моряки, артисты балета.
На Западе существует двоякое отношение к дезертирам. Русских, бежавших на Запад, мы делаем героями, а американцев, бежавших на Восток, предателями. Эта двоякость отражает наивную уверенность в том, что первые поднялись к свету из ада, а последние опустились на дно зла.
Трудно понять, почему человек может отказаться от благ свободного общества и принять ограничения, существующие в странах по ту сторону железного занавеса. Мы полагаем, что такой человек должен быть неуравновешен или страдать от неразрешимого давления. С другой стороны, мы считаем нормальным желание русского бежать из своей страны в Соединенные Штаты, где он может жить в свободном обществе.
Ближе к истине было бы то, что человек в любом обществе склонен думать, что условия, в которых он живет, естественны. Как правило он не знаком с другими условиями жизни. Он окружен знакомыми вещами и считает нормальным то, что может привести в ужас представителя другого общества. В худшем случае эти условия можно сравнить с «Чарли Чаплином в фильме о золотой лихорадке, когда он бегает в лачуге, с трудом держащейся на краю скалы» (Чеслав Милош, «Пытливый ум»[22]22
Czeslaw Milosz, The Captive Mind. (London: Seeker and Warburg, 1953).
[Закрыть]). Пропаганда убеждает русских в том, что на Западе живется не лучше, чем в СССР. Дезертирство редко вызвано сознательным выбором бегства в лучший мир. Гораздо чаще оно становится жестом отчаяния. По мнению Чеслава Милоша, дезертир может преодолеть пропаганду своей страны только из-за отчаяния и отвращения к ней:
«Пропаганда, существующая в Советском Союзе, убеждает русских в том, что нацизм и американизм одинаковы только потому, что их породила одинаковая экономическая система. Русский верит в эту пропаганду немногим меньше американца, которого журналисты убеждают в том, что гитлеризм и сталинизм – одно и то же».
Когда в августе 1960 года на Восток бежали Уильям Мартин и Бернон Митчелл, президент Эйзенхауэр выразил негодование от лица нации, сказав, что предатели заслуживают смерти. Они бежали с ценной информацией о деятельности Агентства национальной безопасности. Когда на Запад в 1954 году бежал офицер КГБ Петр Дерябин, ЦРУ скрывало его в течение пяти лет, настолько ценную информацию он принес с собой. Когда его представили общественности, он стал бежавшим героем: он «выбрал свободу», он «обманул коммунистическую диктатуру» и так далее. На самом деле он сделал то же, что и Мартин и Митчелл, – предал свою страну, оставил семью, которая, несомненно, пострадала от этого шага (у Мартина и Митчелла семей не было), и принес секретную информацию в качестве пропуска в США. В частных разговорах сотрудники ЦРУ признают, что к этому поступку Дерябина побудила не идеология, а оппортунизм, что многие другие важные перебежчики руководствовались практическими соображениями, решая бежать в другую страну. У них плохие отношения с Москвой, разваливается семейная жизнь, им не дают продвигаться по службе – все, что раньше толкало человека к спиртному, теперь может толкнуть его к дезертирству.
Однако нельзя недооценивать отвращение к коммунистической системе, которое овладевает перебежчиками. Время от времени они описывают нарастающее осознание лжи, которое заставило Чеслава Милоша написать следующее:
«Мое решение было вызвано не работой мозга, а протестом желудка. Человек может убедить себя в том, что он поправит свое здоровье, глотая живых лягушек, он проглотит одну лягушку, затем вторую, но третью лягушку не примет его желудок. Таким же образом все мое существо восстало против нарастающего влияния доктрины на мое мышление».
Ужасным в наши дни стало то, что людям по обе стороны железного занавеса приходится глотать живых лягушек, и по обе стороны находятся брезгливые люди, восстающие против этого. Мартина и Митчелла к дезертирству подтолкнул шок от того, что они узнали о методах работы ЦРУ. Мы должны рассматривать дезертирство как человеческую проблему, как болезнь нашего времени, а не как вопрос борьбы добра и зла.
Дезертиры имеют огромную ценность для разведки. В ЦРУ признают, что агентство получило больше информации о советской разведке именно от дезертировавших агентов, нежели от собственных шпионов. Русским, в свою очередь, Мартин и Митчелл предоставили подробное описание АН Б, а также взломанные шифры СССР. Кроме разведывательных данных, дезертиры дают хороший повод для ведения пропаганды. Каждая сторона с выгодой использует неприятное положение, в котором оказалась другая сторона. Методы пропаганды одинаковы – о дезертирах пишут в газетах, а сами они появляются на экранах телевизоров. Затем пресса внимательно следит за тем, как они привыкают к новой жизни.
Американский дипломат, недавно работавший в Москве, вспоминает состояние удивления, которое он испытал, отправившись кататься на коньках со своей семьей. В парке имени Горького на зиму были залиты дорожки, что сделало парк огромным катком. Были построены деревянные кабинки для переодевания, и дипломат, завязывавший шнурки на ботинках, был удивлен, услышав рядом с собой английскую речь. Он повернулся и узнал в говоривших группу американских дезертиров. Другие американцы, посещавшие Москву, также сообщают, что встречали перебежчиков в общественных местах. Говорят, что их лидерами стали Гай Берджесс и Дональд Маклин.
Берджесс и Маклин представляют собой простейшее объяснение дезертирства – дезертирство по необходимости. Они бежали тогда, когда британская разведка начала интересоваться их политическими убеждениями. Они живут в Москве с 1951 года, и об их жизни известно от иностранцев, посещающих Россию.
Сыновья Маклина каждое лето ездят в детский лагерь на побережье Азовского моря. Они пионеры. И Маклин, и Берджесс работают в отделе английской литературы в издательстве Правительства СССР. Берджесс более общительный из двух англичан, завербованных советской разведкой, когда они начали работать в Министерстве иностранных дел. Когда в 1959 году в Россию приезжал Рэндольф Черчилль, он встречался с Берджессом. В 1957 году американский адвокат Уильям Гудман был в московской опере, человек, сидевший рядом с ним, представился Берджессом. Они разговаривали во время антрактов. Берджесс казался совершенно спокойным. «Они стали обычными московскими интеллигентами», – такой вывод сделал Гудман.
В прошлом октябре Берджесс был на вечере, устроенном в честь отъезда корреспондента агентства Франс Пресс. Берджесс сказал, что хотел бы поехать в Великобританию, чтобы навестить свою мать, Еву Бассет. Он свободно обсуждал свою жизнь в Москве, однако заметил во время разговора, что «ко всем приходит осознание того, что ты совершил ошибку», добавив при этом; «Через десять лет я чувствую себя счастливее, чем пять лет назад». Когда он уходил с вечера, на котором были журналисты всех московских газет, он сказал с каким-то странным удовлетворением: «Боже мой, я думаю, что это снова будет на первых полосах мировых газет». Маклин бывает в обществе реже, чем его друг, и спокойно живет со своей женой Мелиндой, бывшей жительницей Чикаго.
Еще один пример дезертирства из-за угрозы ареста – семья Стернов. Марта Додд Стерн, дочь американского посла в Германии Уильяма Додда, и ее муж, Альфред Стерн, бежали в 1957 году в Мексику после того, как стало известно, что они входили в сеть Джека Собла. Супруги отказывались отвечать на повестки, вызывавшие их в суд, и были оштрафованы на 25 000 долларов каждый за неуважение к суду. В сентябре было предъявлено обвинение в шпионаже и организации заговора. К этому времени они уехали из Амстердама в Прагу по поддельным парагвайским документам.
Всем новым перебежчикам устраивают своего рода медовый месяц. Стернов возили на экскурсии по всей России. Посетители Ясной Поляны, имения Л. Н. Толстого, могут найти их имена в книги записей. Там они провели целую неделю. Но шум вокруг них скоро прошел, и они поселились в Праге. Марта Стерн, душа семьи, пыталась получить работу в пропагандистском журнале «Жизнь Чехословакии». Она написала главному редактору письмо, в котором указывала на ошибки в стиле англоязычных номеров журнала и предлагала улучшить его. В ответном письме редактор написал: «У нас уже есть редактор английских номеров, перебежчик с тридцатилетним стажем». С тех пор семья Стернов живет в безвестности, с мыслью, которая, видимо, преследует всех перебежчиков: «Я никогда не вернусь домой».
Мотивы тех, кто дезертирует по собственной воле, более загадочны, мы изучим случаи американских перебежчиков, которые сочетают в себе разное происхождение и разные мотивы. Общее у этих американцев только то, что они бежали из Соединенных Штатов в Советский Союз. И если мы не можем понять загадку, почему они это сделали, так как они не говорят о своих истинных причинах, мы можем проследить механизм их дезертирства.
Мистическое. Профессор Александр Казем-Бег преподавал русский язык и литературу в женском колледже в Коннектикуте. Он жил в США с двадцатых годов, он и двое его детей были гражданами США. Профессор принимал активное участие в жизни одного из обществ людей, бежавших из СССР, которые появлялись в двадцатых и тридцатых годах. Он писал статьи для журнала Русской Православной Церкви, проводил беседы о событиях в мире, его любили студенты.
В 1956 году он попросил предоставить ему отпуск, в течение которого собирался поехать в Швейцарию, чтобы лечить болезнь глаз. Он уехал в августе, а через месяц от него пришло письмо, в котором он говорил, что был слишком болен, чтобы вернуться. К письму было приложено свидетельство врача. Через некоторое время «Правда» объявила о том, что Казем-Бег приехал в Москву. Он стал писать обычные для перебежчиков антиамериканские статьи. В «Правде» началось необычное обсуждение культуры в США: с одной стороны выступал Казем-Бег, говоривший об отсутствии культуры в США, с другой стороны выступал Илья Эренбург, утверждавший обратное. Позже профессор Казем-Бег сказал приезжавшим в Москву американцам, что он «приехал на родину, чтобы умереть».
Романтическое. Роберт Вебстер, 30-летний инженер по производству пластмассы, работавший в компании «Рэнд девелопмент корпорейшн», приехал в Россию в августе 1959 года, чтобы подготовить стенд своей компании на московской выставке. Вебстер оставил в Пенсильвании жену и двоих детей. Его экспонат, пластмассовый бассейн необычной формы, пользовался успехом на выставке, и Вебстер заслужил поощрение президента компании X. Дж. Рэнда.
В октябре, когда выставка закрывалась и американцы собирались домой, Вебстер написал Рэнду письмо, в котором говорил, что остается в Москве. Он писал: «Я сравнил обе системы, решил, что останусь жить здесь. Я делаю этот выбор по идеологическим причинам». Американцы, работавшие с Вебстером, знали о другой причине. Он решил остаться из-за официантки Веры. Русским был нужен хороший специалист по производству пластмассы на новом заводе в Ленинграде, и с помощью Веры они переманили Вебстера к себе. Счастливое время продолжалось примерно год, но в 1960-м его жена начала получать открытки, в которых он выражал надежду на «скорую встречу». В начале 1961 года Вебстер обратился в посольство США за разрешением на въезд в страну. В посольстве ему сказали, что поскольку он стал гражданином СССР, то теперь может вернуться в Соединенные Штаты только по квоте иммигрантов из России. Вебстер все еще ждет, когда подойдет его очередь.
Интроверт. Брюс Дэвис в юности сменил много школ. Учителя помнят его мальчиком, который ни во что не вмешивался. Ученики называли его «пилюлей». В 1954 году он перевелся из калифорнийской школы в школу «Эшбери-парк». В журнале он так описал свои амбиции: «получить степень и вернуться на Западное побережье». Отслужив два года в военно-морских силах, Дэвис поступил на курсы инженеров по электронике в университете штата Аризона. Провалившись на экзаменах, он стал изучать внешнюю политику. В конце концов бросил университет и начал служить в армии. Армия также не оправдала его ожиданий, и в августе 1960 года Брюс ушел в самовольную отлучку из своей артиллерийской части и перешел границу с Восточной Германией.
Через два месяца советское посольство в Вашингтоне обнародовало следующее заявление, подписанное Дэвисом:
«19 августа я ушел из своей части вооруженных сил США и пересек границу Западной и Восточной Германии в поисках политического убежища. Мне двадцать четыре года. Я родился и вырос в Соединенных Штатах Америки. Я служил в армии в течение четырех лет и девяти месяцев и пришел к своему решению в результате двухлетних размышлений.
С конца Второй мировой войны американская пресса неоднократно осуждала холодную войну и железный занавес, которые, по ее мнению, были организованы социалистическими странами. В связи с этим в США создается мнение, что ответственность за начало третьей мировой войны может лежать только на социалистических странах. Именно эти утверждения американской прессы и породили во мне сомнения. Я спрашивал себя: как Советский Союз, пострадавший сильнее других стран в результате Второй мировой войны, может готовить новую войну? В то же время американцев заставляют думать, что Америка ищет мира, хотя, как я мог убедиться за время службы в армии, мы ищем только пути усиления мощи нашей армии».
Очевидно, прожив два месяца в Советском Союзе, Дэвис уже научился писать под диктовку.
Попутчик. Моррис Блок был одним из членов группы, отправившейся в Китай в 1957 году, бросив вызов Госдепартаменту США после посещения Московского молодежного фестиваля, на котором он показал себя готовым последовать партийной доктрине. Когда у членов группы брал интервью корреспондент Си-би-эс Дэниэл Шорр, он спросил, как они относятся к участию СССР в венгерских событиях. Один из студентов ответил, что многие члены группы не одобряют вмешательство Советского Союза. В это время Блок выкрикнул: «Не ври, разве не знаешь, что Шорр хочет начать контрреволюцию?»
У Блока по возвращении из Китая в 1957 году был изъят паспорт. В январе 1958 года он был вызван для дачи показаний о деятельности группы в Комитет сената по расследованию антиамериканской деятельности. Когда его паспорт был предъявлен в качестве свидетельства, Блок подошел к столу, на котором он лежал, взял его и положил в карман.
Он отказался вернуть его, у суда не было полномочий изымать его силой, поэтому его обвинили в неуважении к суду. Вскоре после этого Блок уехал по этому паспорту в Европу, а в августе 1959 года оказался в Москве, вне пределов досягаемости комитетов Конгресса и паспортных служб. Сейчас он работает в порту в Одессе.
Подвох. Владимир Слобода был одним из многих членов советских секретных служб, которые поехали на Запад после Второй мировой войны под видом перемещенных лиц в поисках убежища. В это время было трудно выявить всех «спящих» агентов среди беженцев, и многие агенты СССР попали в США или Канаду с помощью филантропов и международных организаций.
Слобода родился на принадлежавшей Польше Львовщине, которая в 1939 году была присоединена к Украинской республике. В 1953 году он без документов перешел из Польши в Германию, где принял одно из предложений, которые делают мужчинам-беженцам, – он вступил в американскую армию. Благодаря знанию русского и польского языков он был отправлен в группу военной разведки в Форт Брэгг, в Северной Каролине. Он помогал готовить «банды» – парашютные подразделения, обучавшиеся проведению диверсий на территории социалистических стран. В 1958 году Слобода стал гражданином США. Его перевели в разведывательную группу в Германии в чине сержанта.
В августе 1960 года он, оставив свою часть, жену и троих детей, бежал в Восточную Германию. Провозглашенный «Известиями» героем, он вскоре стал привычным лицом на экранах телевизоров. Московское радио на всю Европу транслировало его выступления. Слобода рассказывал о полетах У-2, о шпионских сетях, отправляющих агентов в Восточный Берлин. «Большинство своих агентов ЦРУ вербует с помощью шантажа, угроз, подкупа», – говорил он.
Он называл американских военных шпионами и рассказывал о разведывательных подразделениях. В статье, опубликованной в «Правде», он писал:
«Я знаю, что в Западной Германии существует широкая разветвленная сеть американской разведки. Действиями американской разведки и спецслужбами других стран руководит ЦРУ, чья европейская штаб-квартира находится во Франкфурте-на-Майне. Многочисленные подразделения ЦРУ разбросаны по всей Западной Германии, и часто они маскируются под обычные военные части.
Самые большие группы военной разведки США – 513-я разведывательная группа, 66-я разведывательная группа и 532-й разведывательный батальон 7-й армии. Эти группы состоят из нескольких тысяч профессиональных агентов, и их силы постоянно растут. 513-й разведывательной группой командует полковник Франц X. Росс, который руководит многочисленными отделениями группы, находящимися практически во всех городах Западной Германии и в Западном Берлине».
Если события развивались по принятому в СССР сценарию, Слобода сейчас снова работает в спецслужбах Советского Союза, и его должны были произвести в полковники за восемь лет успешной работы за границей.
Ученый. В декабре 1956 года в СССР бежал ученый, украинец по национальности, прославившийся работой на испытательном полигоне в Соединенных Штатах. У него была информация о двух межконтинентальных баллистических ракетах, «Титан» и «Атлас», он был авторитетом в области аэрофотосъемки и, возможно, знал о полетах У-2 над территорией СССР, которые только начинались в то время. Кроме того, он работал на полигоне Аламогордо, где была испытана первая атомная бомба.
Он представляет собой типичный случай того, что известно как «синдром ученого»: убежденность в том, что наука сама по себе закон, стоящий выше этики и религии. В наши дни ученый, как художник эпохи Возрождения, будет работать в той стране, где ему создадут лучшие условия, как Леонардо да Винчи, покинувший родную Флоренцию ради Рима и покровительства Медичи.
Профессор Орест Макар работал в России до 1949 года, затем жил в США до 1956 года и вернулся в Россию. Равнодушного, по собственному признанию, к политике, его беспокоило только то, что могла система предложить ученому: «Изучая научную литературу по своей проблематике, я пришел к выводу, что в Советском Союзе наукой занимаются очень серьезно, я думаю, что лучшие условия для проведения исследований предлагаются именно там. Поэтому я хочу продолжать свою работу в СССР», – объяснял он.
Профессор Макар и его жена Александра приехали в США в 1949 году в качестве беженцев. Он родился в западной части Украины, хорошо знал украинский, сербский, польский и немецкий языки. К сожалению, он плохо знал английский, поэтому вскоре после того как получил место преподавателя в университете Сент-Луиса, он был уволен на основании плохого выполнения своей работы. До того как заняться преподавательской деятельностью, он восемь месяцев работал на полигоне Уайт-Сэндз, где проходили испытания американских ракет, был консультантом по математике и физике в ВВС и армии США, работал на полигоне Аламогордо. В Уайт-Сэндз он имел доступ к секретным материалам, но ушел с исследовательской работы «по личным причинам» незадолго до окончания проверки службой безопасности.
Возможность дезертировать ему дало приглашение на международную конференцию по проблемам фотограмметрии, которая состоялась летом 1956 года в Стокгольме. Макар поехал туда со своей женой и написал друзьям, что задержится в Швеции, чтобы прочитать курс лекций. Он обратился в советское посольство, попросил политического убежища, и его встретили «с распростертыми объятиями». В настоящее время он преподает у себя на родине, во Львовском политехническом университете.
Говорила ли в нем уязвленная гордость ученого, когда он сравнивал почести, оказываемые ученым в СССР, с обращением, с которым столкнулся в университетах Америки? В Советском Союзе звание «ученый» дает привилегии, высокое положение в обществе. Ученые всегда идут впереди, государство предоставляет им дачи, новые квартиры, машины с шофером, налоговые льготы, награды и все то, что освобождает ум для исследований. В болоте американской университетской жизни ученым приходится постоянно конкурировать друг с другом на всех уровнях – на приеме у ректора, в лаборатории, перед студентами. Нет привилегированного статуса, а продвижение по служебной лестнице не автоматическое – профессор Макар узнал, что даже ученого могут уволить.
Кроме этого, ученого привлекает и собственная незаменимость. Фраза «встретили с распростертыми объятиями» отражает сегодняшнее положение ученого, необходимого обеим сторонам. Ученый стал наемником, который продает свои знания не за деньги, а за лучшие условия работы. Если ему дать современную лабораторию и хороших ассистентов, ему будет все равно, где изготовлено оборудование – в России или в Америке. Разве у науки есть флаг?
Характер научной работы отделяет человека от реальности. В связи с этим можно упомянуть Ганса Эртеля, вице-президента Академии наук Восточной Германии, одного из четырех крупнейших специалистов мира по теоретической метеорологии, которого в марте 1960 года осудили за простую финансовую аферу. Работая в Восточном Берлине, он в течение семи лет был резидентом Западного Берлина. Это позволяло ему менять восточногерманские марки на западногерманские по курсу один к одному, в то время как официальный курс составлял четыре восточногерманские марки за одну западногерманскую. За семь лет работы он выкачал из Западного Берлина около 15 тысяч долларов. Вот как он объяснял это: «Тридцать лет жизни в абстрактной сфере естественных наук оторвали меня от реальности».
Когда уважаемые ученые ведут себя как мелкие мошенники, можно не удивляться тому, что они меняют политические системы как перчатки.
Со времен Клауса Фукса и Бруно Понтекорво на Восток бежала целая группа математиков и физиков, уверенных в том, что по ту сторону железного занавеса науку уважают больше. Но как может закрытое общество, в котором человек не в силах избавиться от присутствия государства во всех сферах жизни, предоставить свободу своим ученым?
В России ученые и художники стоят вне общества. Так было с тех пор, когда власть в стране захватили большевики, которые решили, что, хотя на исправление социальной несправедливости могут уйти годы, в сфере науки и искусства это можно сделать сразу. Привилегированные группы родились вместе с коммунистическим режимом, и они стали своего рода высшим классом, к которому массы жителей могут стремиться без всякой зависти. Рабочие живут на уровне существования, а исследователи, инженеры, математики, физики, химики катаются как сыр в масле, после того как они доказали системе образования, что они смогут увеличить мощь и славу Советского Союза.
При таком положении вещей наука занимает место религии, и ученым предоставлена возможность спокойно мыслить, что раньше могла себе позволить только Церковь.[23]23
Видимо, содержащиеся в этом и предыдущих абзацах выводы о положении советских ученых, инженеров, художников и представителей ряда других профессий соответствовали тогдашней информированности автора в этом вопросе. (Прим. ред.).
[Закрыть] Советский Союз прославляет своих ученых, утверждая, что они лучшие в мире, что интеллигенция страны ни с чем не сравнима. Нить советских заявлений о научных открытиях, «украденных Западом», тянется гораздо дальше, чем самоутверждение советской власти. Вот что говорится в Большой Советской Энциклопедии:
«В восемнадцатом веке механик-самоучка И. П. Кулибин разрабатывал модели мостов с замечательными механическими свойствами, механик И. И. Ползунов изобрел паровой двигатель, в девятнадцатом веке член Российской академии Б. С. Якоби изобрел гальванотехнику и построил первую моторную лодку с электродвигателем, инженер П. Н. Яблочков создал дуговую лампу, а A. Н. Лодыгин изобрел угольную лампу накаливания, А. С. Попов изобрел и первым использовал радиоприемник, H. Е. Жуковский создал теорию аэродинамики, был теоретиком воздушных полетов».
С существованием такой традиции, в которой неграмотные крестьяне делают важнейшие открытия современности, советская система рассчитывает на способности своих ученых. Они не связаны какой-либо догмой. Они освобождены от обязательств писателей и художников, которые принадлежат к привилегированной части общества только до тех пор, пока их творчество совпадает с линией партии. Есть антипартийное искусство и антипартийная литература, но как может существовать антипартийная наука?! Ученые могут принять то, что им предлагает государство, без кризиса сознания. Иногда им приходится появляться на партийных мероприятиях, но газеты и журналы, которые они читают, стоят вне марксистско-ленинской доктрины. Они ничем не связаны по природе своих занятий.
Помимо этого, в настоящее время существует научный обмен между Востоком и Западом. Ученые в США знают о программах в России, знают, кто над чем работает, принимаются как должное трудности (или возможности) проведения теоретических исследований, вторжение (или его отсутствие) требований безопасности в личную жизнь ученого. Советские ученые посещают все больше научных конгрессов, предоставляющих возможность для обсуждения проблем науки и ученого в двух разных системах, а также дающими возможность дезертировать. Между учеными существует солидарность, которая переходит национальные границы, подтверждая мысль Маркса о том, что один класс в разных странах может быть связан сильнее разных классов в одной стране. Маркс имел в виду рабочих, но ученые лучше доказывают это утверждение.
К кому американский ученый чувствует большую близость: к сотруднику ЦРУ, который проверяет его на детекторе лжи; к представителю компании, который говорит, что на новый проект не будут выделяться средства только потому, что он не станет новым продуктом; к ректору университета, который увольняет преподавателя, потому что он не напечатал статью; или к советскому ученому, работающему над той же проблемой, которого он встретил на международной конференции? А благодаря миграции, которая происходила последние пятнадцать лет, близость в науке может принять и другой характер. Например, на недавней научной конференции в Женеве встретились советский и американский ученые, они разговорились и в итоге обменялись адресами. У них была одинаковая фамилия – Рейнхарт. Оба были родом из Лейпцига. Оказалось, что они троюродные братья. Русский недавно навещал их восьмидесятилетнюю тетю, живущую в Восточной Германии. Эти люди с одинаковым происхождением и воспитанием в какой-то момент просто разошлись в разные стороны.
Американские ученые часто указывают на большое количество проводимых в СССР теоретических исследований. (Только треть исследований относится к техническим отраслям и прикладной науке, две трети носят теоретический и фундаментальный характер.) Рассказывают – хотя это может быть и выдумкой, показывающей тем не менее, что для советского правительства не существует странных проектов, – что один советский ученый работает над созданием двигателя, который будет использовать в качестве энергии ход времени. Он продолжает свои исследования, несмотря на критические статьи, появляющиеся в «Правде» и говорящие о том, что его «научная фантастика» подрывает престиж советской науки.
Такие истории досаждают американским ученым, которым приходится продавать свои проекты коммерческим фирмам или правительству. Получая деньги, они имеют дело с практичными людьми, которые не во всякий проект станут вкладывать деньги.
В США есть ученый, который добивается субсидий тем, что звонит по междугородной связи своему руководству и говорит: «Что вы делаете с нашим атомным проектом? Ах, он вам не нужен. Хорошо, мы продадим его русским».
Боязнь того, что русские получат какой-либо проект из-за ошибки правительственного чиновника, стала основным стимулом развития американских научных программ. Не так давно адмирал Риковер сказал, выступая в Аннаполисе, что, если бы в правительстве узнали, что русские отправляют своего человека в ад, ему, адмиралу Риковеру, предоставили бы полную свободу действий, чтобы первым туда попал его человек.
С другой стороны, русские ученые часто бегут на Запад из-за своих эксцентричных взглядов, не соответствующих советскому обществу. Один венгерский ученый любил проводить спиритические сеансы. В условиях «народной демократии» это крайне недостойно ученого. Сейчас он работает на известную американскую компанию, которая поощряет его увлечения и даже купила ему все необходимое для проведения сеансов.
Однако основной поток ученых направлен на Восток, во многом благодаря тому, что Советский Союз известен как лучшее место для деятелей науки. Совсем по-другому дело обстоит для еще одной привилегированной части русских – интеллигенции и военного персонала. Один из представителей ЦРУ сказал автору этих строк: «У нас есть целый список агентов советских разведывательных служб, которые пришли к нам, принеся много ценной информации. О некоторых из них мы до сих пор не говорим».
Эти люди живут в Москве в роскоши, пользуясь теми же благами, что и ученые и художники. Но они живут и в постоянном страхе. Всегда рядом очередная чистка, и нет ничего опаснее, чем работа советского офицера разведки. Благодаря характеру своей деятельности они знают все о недостатках своей страны. Они профессиональные детективы, имеющие досье на всех политических деятелей, они безмолвные свидетели оргий, взяточничества, борьбы за места у власти – всего того, что существует во всех российских режимах начиная со времен Ивана Грозного.
Таким образом секретные службы воспитывают собственных перебежчиков, которые могут сомневаться в разумности побега на Запад, но, благодаря доступу к секретной информации, имеют лучшее представление о жизни в капиталистическом обществе.