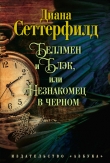Текст книги "Сказки Золотого века"
Автор книги: Петр Киле
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
ГЛАВА XIV
Бал у грота Дианы. Сон. Послесловие
1Приглашения участвовать в подписке на бал получили, разумеется, знакомые и знакомые знакомых, с условием, что они приведут на бал не кого угодно, а из общих знакомых, то есть из круга избранных из жителей Пятигорска и семейств из России, съехавшихся в то лето до 1500. Задумано было устроить не просто танцы, какие еженедельно происходили в зале ресторации, а нечто небывалое, празднично прекрасный пикник-бал. Все приготовления делались в доме Чиляева у Лермонтова со Столыпиным. Центральным местом для бала был выбран грот Дианы, который следовало разукрасить всячески и осветить, для чего наклеили до двух тысяч разных цветных фонарей. Как рассказывает один из участников, «Лермонтов придумал громадную люстру из трехъярусно помещенных обручей, обвитых цветами и ползучими растениями, и мы исполнили эту работу на славу. Армянские лавки доставили нам персидские ковры и разноцветные шали для украшения свода грота, за прокат которых мы заплатили, кажется, 1500 рублей; казенный сад – цветы и виноградные лозы, которые я с Глебовым нещадно рубили; расположенный в Пятигорске полк снабдил нас красным сукном, а содержатель гостиницы Найтаки позаботился о десерте, ужине и вине».
Один из декабристов Н.И.Лорер, переведенный в 1837 году из Сибири рядовым Тенгинского пехотного полка, в 1840 году произведенный за отличие в боях в прапорщики, оказался заинтересованным и грустным зрителем веселья гвардейской молодежи. "Составилась подписка, и затея приняла громадные размеры, – пишет он в воспоминаниях. – Вся молодежь дружно помогала в устройстве праздника, который 8 июля и был дан на одной из площадок аллеи у огромного грота, великолепно украшенного природой и искусством. Свод грота убрали разноцветными шалями, соединив их в центре в красивый узел и прикрыв круглым зеркалом, стены обтянули персидскими коврами, повесили искусно импровизированные люстры из простых обручей и веревок, обвитых чрезвычайно красиво великолепными живыми цветами и вьющеюся зеленью; снаружи грота, на огромных деревьях аллей, прилегающих к площадке, на которой собирались танцевать, развесили, как говорят, более двух тысяч пятисот разноцветных фонарей...
Хор военной музыки поместили на площадке, над гротом, и во время антрактов между танцами звуки музыкальных знаменитостей нежили слух очарованных гостей, бальная музыка стояла в аллее. Красное сукно длинной лентой стлалось до палатки, назначенной служить уборною для дам. Она также убрана шалями и снабжена заботливыми учредителями всем необходимым для самой взыскательной и избалованной красавицы. Там было огромное зеркало в серебряной оправе, щетки, гребни, духи, помада, шпильки, булавки, ленты, тесемки и женщина для прислуги. Уголок этот был так мило отделан, что дамы бегали туда для того только, чтоб налюбоваться им.
Роскошный буфет не был также забыт.
Природа, как бы согласившись с общим желанием и настроением, выказала себя в самом благоприятном виде. В этот вечер небо было чистого темно-синего цвета и усеяно бесчисленными серебряными звездами. Ни один листок не шевелился на деревьях.
К восьми часам приглашенные по билетам собрались, и танцы быстро следовали один за другим. Неприглашенные, не переходя за черту импровизированной танцевальной залы, окружали густыми рядами кружащихся и веселящихся счастливцев".
Из этих последних то и дело обращали внимание то на хорошеньких женщин, то на красавцев, как Алексей Столыпин и князь Сергей Трубецкой. Из женщин была очень хороша дама Дмитревского, чьи карие глаза он воспел в стихах. Лермонтов после очередного тура вальса подошел к Лореру и спросил:
– Видите ли вы даму Дмитревского?.. Это его "карие глаза"... Не правда ли, как она хороша?
"Она была в белом платье какой-то изумительной белизны и свежести, – пишет Лорер. – Густые каштановые волосы ее были гладко причесаны, а из-за уха только спускались красивыми локонами на ее плечи; единственная нитка крупного жемчуга красиво расположилась на лебединой шее этой молодой женщины как бы для того, чтобы на ее природной красоте сосредоточить все внимание наблюдателя. Но главное, что поразило бы всякого, это были большие карие глаза, осененные длинными ресницами и темными, хорошо очерченными бровями. Красавица, как бы не зная, что глаза ее прелестны, иногда прищуривалась, а обращаясь к своему кавалеру, вслед за сим скромным движением обдавала его таким огнем, что в состоянии была бы увлечь и, вероятно, увлекала не одного своего поклонника".
Лермонтов был весел и танцевал больше, чем обыкновенно; он пригласил на бал Екатерину Григорьевну Быховец, которую молодежь называла не иначе, как "очаровательная смуглянка" или "очаровательная кузина Лермонтова".
– Кузина, могу ли я ухаживать за другими дамами? – спросил он, протанцевав первый вальс и удивив ее даже тем, что так хорошо танцует.
– Что за вопрос? – рассмеялась Екатерина Григорьевна.
– Во-первых, я пригласил вас; а во-вторых, и сердцем буду с вами, – он загляделся на Иду Мусину-Пушкину, одну из дочерей казачьего генерала Мусина-Пушкина.
– То есть с Варварой Александровной, хотите сказать?
– Да. Еще, в-третьих, у вас недостатка в кавалерах не будет. Тот же Мартынов дважды справлялся у меня, в самом ли деле вы моя кузина.
– Боже упаси, он же глуп! – рассмеялась Екатерина Григорьевна, которая успела заметить, как Лермонтов с приятелями потешаются над Мартыновым, и тетрадь с карикатурами он показывал ей.
– Как все рослые красавцы. Это им идет.
Тут подошел Глебов и пригласил на танец "очаровательную кузину Лермонтова"; затем ее пригласил князь Васильчиков, затем Сергей Трубецкой, затем Мартынов, словно они сговорились против Лермонтова, друзья его.
– Екатерина Григорьевна, я, знаете ли, припоминаю, что видел вас в Москве, – Мартынов произнес фразу, видимо, чтобы сказать что-нибудь.
– Выйдя в отставку, отчего же вы не возвращаетсь в Москву? – спросила она тоже, чтобы сказать что-нибудь.
– Что вам Лермонтов сказал по этому поводу? – вдруг насторожился Мартынов.
– Ничего. А что?
– У него манера все обращать в шутку. Я так привык к жужжанию пуль, что, боюсь, в Москве умереть от скуки.
– Вам "и скучно и грустно"?
– Можно так сказать.
– Это не я сказала, а Лермонтов. Так вы хотите остаться здесь?
– Не знаю еще. Может быть, отправлюсь в путешествие в Мекку, в Персию, куда-нибудь...
– Как Печорин Лермонтова?
– Нет; надеюсь, я не столь отвратительный тип, как Печорин. Благородство для меня не пустой звук.
– Знаете, я не нахожу Печорина столь ужасным, чтобы отзываться о нем с таким ожесточением, как вы.
– Мы ведь все время говорим о Лермонтове. У него страсть делать людей смешными и нелепыми, когда сам он первый смешон и нелеп. Я говорю это по-дружески, как он рисует на меня карикатуры и сочиняет эпиграммы.
– Он поэт...
– Кто из нас не пишет стихов?
– Вы тоже?
– И мое стихотворение о декабристах ходит в списках, как Лермонтова на смерть Пушкина.
– Как! И вы известный поэт?
– Нет, меня никто еще не знает. До сих пор меня занимала война. Моя будущность еще в тумане, который однако уже рассеивается.
– И что вы там видите? – спросила Екатерина Григорьевна и не удержалась от смеха.
В это время музыка умолкла, и Лермонтов подошел к кузине.
– Горца с длинным кинжалом, – произнес поэт по-французски. – Это загадка, которую он нам всем загадал.
Мартынов поморщился, поклонился даме и поспешно отошел.
– Увы! Я была с ним не очень любезна, а вы, Мишель, его вовсе обидели.
– Ну, я же сказал лишь то, что он изображает. На кого же ему обижаться? Впрочем, пусть он потребует у меня удовлетворения.
– О чем говорите, Мишель? Вы друзья или враги?
– Бог знает! – расхохотался Лермонтов. – Но куда интереснее, я вам скажу по секрету, на этом балу нас ожидает одно происшествие. Ведь недаром мы разукрасили грот Дианы, и теперь он имеет вид внутреннего убранства башни царицы Тамары.
– Из легенды?
– Здесь, на Востоке, вся наша жизнь близко соприкасается с небом и с древними преданиями.
– Будет представление? Когда?
– Всех приглашают к ужину. Пусть уходят. В гроте Дианы сойдутся сейчас сто юношей пылких и жен, нет, поменьше, конечно. Идемте.
Ужин был сервирован в аллее под деревьями. Военный оркестр над гротом играл концертную музыку, которая в самом гроте, в тишине, где собрались два десятка любовных пар, несла в себе отзвуки гор, словно из глубин веков. Лермонтов поначалу укрылся, и голос его звучал неведомо откуда:
В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале.
В той башне высокой и тесной
Царица Тамара жила:
Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон, коварна и зла.
Среди присутствующих каким-то образом выделилась одна, которая, как в живой картине, изображала царицу, и все невольно почувствовали себя участниками события, а поэт продолжал:
И там сквозь туман полуночи
Блистал огонек золотой,
Кидался он путнику в очи,
Манил он на отдых ночной.
И слышался голос Тамары:
Он весь был желанье и страсть,
В нем были всесильные чары,
Была непонятная власть.
Из публики, усевшейся ужинать, кое-кто прослышал о представлении в гроте Дианы, и появились зрители.
На голос невидимой пери
Шел воин, купец и пастух;
Пред ним отворялися двери,
Встречал его мрачный евнух.
На мягкой пуховой постели,
В парчу и жемчуг убрана,
Ждала она гостя... Шипели
Пред нею два кубка вина.
Сплетались горячие руки,
Уста прилипали к устам,
И странные, дикие звуки
Всю ночь раздавалися там.
Как будто в ту башню пустую
Сто юношей пылких и жен
Сошлися на свадьбу ночную,
На тризну больших похорон.
– Ах, это сон! Не может быть! – шептались зрители.
Но только что утра сиянье
Кидало свой луч по горам,
Мгновенно и мрак и молчанье
Опять воцарялися там.
Лишь Терек в теснине Дарьяла,
Гремя, нарушал тишину;
Волна на волну набегала,
Волна погоняла волну;
И с плачем безгласное тело
Спешили они унести;
В окне тогда что-то белело,
Звучало оттуда: прости.
И было так нежно прощанье,
Так сладко тот голос звучал,
Как будто восторги свиданья
И ласки любви обещал.
В это время оркестр на танцевальной площадке заиграл, вместо новой интродукции, вальс-фантазию Глинки, которой заслушивались, вместо кружения, но нашлись и пары, с упоением отдавшиеся звукам полета и любви.
"Бал продолжался до поздней ночи, или, лучше сказать, до самого утра, – писал Лорер. – С вершины грота я видел, как усталые группы спускались на бульвар и белыми пятнами пестрили отблеск едва заметной утренней зари.
Молодежь также разошлась. Фонари стали гаснуть, шум умолк... "
Лермонтова с его кузиной провожали молодые люди с фонарями, как писала в письме Екатерина Григорьевна, "один из них начал немного шалить. Лермонтов, как cousine, предложил сейчас мне руку; мы пошли скорей, и он до дому меня проводил".
В чем выражалась шалость молодого человека, из-за которой Лермонтов пожелал увезти кузину, неизвестно, но, возможно, это было проявлением какого-то недовольства им в то время, когда пикник-бал увенчался полным успехом.
2
Среди недовольных был Мартынов, ведь именно во время празднеств особенно остро ощущаешь тщету надежд и упований, увы, к тому же уже утраченных. Пять дней прошли в мучительных сомнениях, пребывание в Пятигорске, где Лермонтов не давал ему житья – самозабвенно покрасоваться, стало бессмысленным, надо было на что-то решиться, но и уязвленный карикатурами и эпиграммами, а главное, смехом приятелей и даже дам, а может быть, и из-за карточного долга, он не мог просто взять и уехать. На вечер у Верзилиных Мартынов пришел, против обыкновения, мрачный и сердитый. Вполне возможно, Лермонтов угадал его настроение и решимость и ожидал развязки. По своему обыкновению, он продолжал свои поддразнивания в отношении Эмилии Александровны, и она не говорила и не танцевала с ним, как вспоминала впоследствии. Тогда, переменив тон насмешки, он сказал ей по-французски:
– Мадемуазель Эмилия, прошу Вас на один только тур вальса, последний раз в моей жизни.
– Ну уж так и быть, – отвечала по-русски Эмилия Александровна, – в последний раз, пойдемте.
Он дал слово не сердить ее больше, и они, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К ним присоединился Лев Пушкин, который также отличался злоязычием, как замечает Эмилия Александровна, и принялись они вдвоем острить свой язык наперебой. Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с Надеждой Петровной, стоя у рояля, на котором играл князь Трубецкой. Не выдержал Лермонтов, говорит Эмилия Александровна, и начал острить на его счет, называя его "montagnard an grand poignard" (горец с большим кинжалом). Надо же было так случиться, что, когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово poignard раздалось по всей зале. Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом, как заметила Эмилия Александровна. Он подошел к Лермонтову и, сдерживая себя, сказал ему:
– Сколько раз просил я вас оставить свои шутки, по крайней мере, при дамах, – и быстро отошел прочь, не дав опомниться поэту.
– Язык мой – враг мой, – промолвила Эмилия Александровна, тоже немало претерпевшая от шуток Лермонтова.
– Это ничего, – отвечал Лермонтов спокойно, – завтра мы будем добрыми друзьями, как мы с вами, не правда ли?
Лев Пушкин, свидетель обычных шуток поэта над Мартыновым, не нашел ничего неожиданного в выходке последнего, поэтому преспокойно отправился к себе. "Танцы продолжались, – замечает Эмилия Александровна, – и я думала, что тем кончилась вся ссора".
Но когда стали расходиться, Мартынов повторил свою фразу, на что Лермонтов будто бы ответил: "Что ж, на дуэль, что ли, вызовешь меня за это?"
– Да, – решительно заявил Мартынов, вызвав поначалу лишь смех у приятелей.
На вечере у Верзилиных присутствовал и князь Васильчиков, который шутки Лермонтова не расслышал, но видел, как, выходя из дома на улицу, Мартынов подошел к Лермонтову и сказал ему очень тихим и ровным голосом по-французски: "Вы знаете, Лермонтов, что я очень часто терпел ваши шутки, но не люблю, чтобы их повторяли при дамах", – на что Лермонтов таким же спокойным тоном отвечал: "А если не любите, то потребуйте у меня удовлетворения".
Дело не в словах, но ровный голос одного, спокойный тон другого, верно, соответствует действительности и говорит о том, что конфликт назрел, и каждый из противников предугадывал настроение другого. А приятели, с готовностью взявшие на себя роль секундантов, по свидетельству князя Васильчикова, до последней минуты уверены были, что ссора, столь ничтожная и мелочная, кончится примирением, уже поэтому, возможно, миролюбивые усилия прилагали без всякого успеха.
На другой день Лермонтов собирался в Железноводск, куда нередко уезжал, что вышло кстати, поскольку по дуэльным правилам противников следовало разлучить для более верного поиска путей к примирению между секундантами. Ссора произошла 13 июля вечером, дуэль была назначена на 15 июля тоже почему-то под вечер. Поскольку Лермонтов был меткий стрелок, а Мартынов отчего-то плохой, – однажды, говорят, целясь в забор, он попал в корову, – все беспокоились за участь последнего, может быть, поэтому, уезжая, Лермонтов сказал, что стрелять в него не будет, а он – как хочет. Однако Лермонтов не надеялся по всему на примирение, он заходил к Екатерине Григорьевне несколько раз, пока не уговорил ее приехать на другой день в Железноводск.
3
Для секундантов – Столыпина, князя Васильчикова, Глебова и князя Трубецкого – сразу возникли сложности, о которых писал князь Васильчиков спустя много лет: «Хотя формальный вызов на дуэль и последовал от Мартынова, но всякий согласится, что вышеприведенные слова Лермонтова „потребуйте от меня удовлетворения“ заключали в себе уже косвенное приглашение на вызов, и затем оставалось решить, кто из двух был зачинщик и кому перед кем следовало сделать первый шаг к примирению». Если верить князю Васильчикову, по сути, выходит, что и вызов последовал от Лермонтова, и он же зачинщик, но почему-то все уговаривали именно Мартынова, будто он зачинщик и от него же последовал вызов, который следует взять обратно, поскольку повод к ссоре и к дуэли слишком ничтожен. Мартынов, очень естественно, не мог согласиться с подобными доводами, доказывающими его ничтожность. Деваться ему было некуда. Ему следовало доказать себе и всем, что он не ничтожество. Говорят о недругах и врагах Лермонтова, которые могли подстрекать Мартынова на дуэль с поэтом, но вряд ли это имело решающее значение.
– Послушайте! Лермонтов уехал в Железноводск, чтобы разрядить обстановку, и теперь мы можем спокойно обсудить, как уладить дело, – заговорил князь Васильчиков тоном умника, совершенно согласно с произвищем, данным ему поэтом.
– То есть склонить Мартынова к примирению? – уточнил князь Трубецкой.
Глебов покачал головой:
– Мартынов спросил меня, буду ли я его секундантом, – он снова повел головой от удивления. – "Да, – сказал я, – но только в том случае, если он доверяет мне вполне". – "Доверяю, разумеется," – отвечает он. – "И готов слушаться меня во всем". – "Да". Тогда я заявил ему, что буду искать все возможности к примирению его с Лермонтовым, чтобы не допустить дуэли. Он подумал и тихо произнес: "Вот это невозможно". Я убеждал его, что причина для дуэли слишком ничтожна. Шутки, карикатуры – это обычная форма нашего времяпрепровождения. Карикатуры рисовал и я, наравне с Лермонтовым. Подшучивал над тобой и я, а шуткам Лермонтова смеялись мы все, включая и тебя. Если он хорошо рисует и карикатуры, это его достоинство; а если его ум более быстр и остер, чем у нас, это тоже его достоинство; я уже не говорю об его таланте поэта. Что же, за все это его надо вызвать, как государь император отправил его первый раз на Кавказ в ссылку?
– Весьма резонно, – подал голос Столыпин.
– А Мартынов твердит свое: "Я много раз просил его: по крайней мере, при дамах не потешаться надо мной".
– Его понять можно, – заметил князь Трубецкой. – Нравиться дамам – это единственное утешение, какое у него осталось еще.
– Господа! – Столыпин решил высказаться. – Нам должно определиться с тем, кто чей секундант, и соответственно защищать интересы противников.
– Какая разница? Ссора среди своих, дуэли не должно быть, либо она должна закончиться без кровопролития, – цель у нас одна, – заговорил снова князь Васильчиков.
– Мы все между собою друзья-приятели, но двое из нас отныне противники, и цели у них разные, – настаивал Столыпин.
– Мартынов не в себе и плохой стрелок, – Глебов рассмеялся. – Он промахнется, а Лермонтов выстрелит на воздух.
– Но первый выстрел за Лермонтовым, и он не промахнется, если прицелится, – возразил князь Трубецкой.
– Лермонтов сказал, что он не станет стрелять, а Мартынов – как хочет, – напомнил Столыпин. – Мне это не нравится, тем более что Мартынов по всему всерьез намерен принять поединок, как и подобает. Иначе зачем же выходить к барьеру? Право, Мишель меня бесит.
– Но, в конце концов, он сам все это затеял, как затеял и бал. Да и вызов исходил скорее от него, чем от Мартынова, который был принужден подтвердить готовность со своей стороны и на дуэль, – заключил князь Васильчиков.
– К чему же мы пришли? – рассмеялся князь Трубецкой, собираясь уходить.
– Михаил Павлович, – Столыпин обратился к Глебову, – переговорите еще раз с Мартыновым. Вам он доверяет, впрочем, как и Лермонтов. Мне же ему сказать нечего, кроме того, что он готов взять на себя роль Дантеса, который не понимал, "на что он руку поднимал".
– О, нет! – воскликнул князь Васильчиков. – Нельзя равнять Лермонтова с Пушкиным.
– С этим я не спорю, князь, – Столыпин оглядел всех взглядом. – Для многих Лермонтов ничем не отличается от молодых офицеров, пишущих стихи, да он так держит себя среди нас, как буян-гусар, а не поэт.
– С кем поведешься, от того и наберешься, – заметил князь Трубецкой.
– Но для тех, кто обладает вкусом и знаком с его стихами и романом, гениальность Лермонтова очевидна. Я высказываю не свое мнение. Это не новость даже здесь, в Пятигорске, где съехались со всей России.
– У меня бы на такого человека не поднялась рука, – произнес Глебов. – Да, Мартынов тоже почитает себя поэтом. Он написал даже стихотворение о декабристах, которое распространяется в списках.
– Не из-за него ли он пострадал? – рассмеялся князь Трубецкой. – Его отправили в отставку и в столицы не пускают? И он здесь изображает ссыльного поэта в черкесском костюме и с большим кинжалом? Каково Лермонтову? Вся его слава – коту под хвост!
Все рассмеялись и разошлись.
Столыпин поскакал в Железноводск, где едва дождался Лермонтова, который лазил по горам.
– Послушай, никто не принимает всерьез эту дуэль, кроме Мартынова, который крайне ожесточен.
– Конечно, дела его плохи, – задумчиво проронил Лермонтов.
– Ты готов его убить?
– С чего бы?
– Значит, все будет, как с Барантом?
– Да, – улыбнулся Лермонтов, – если он промахнется.
– А если не промахнется? Он наверняка не промахнется, если ты не станешь в него целить и стрелять. Ведь первый выстрел за тобой как вызванному.
– Нет, я говорил, у меня рука не поднимется на него. Я просто предоставил ему возможность вызвать меня и стреляться со мной, коли он видит во мне виновника всех его несчастий.
– Каких несчастий?
– Не знаю. Выйдя в отставку по домашним обстоятельствам, отчего же он не уехал в Москву? Отчего у него дома не знают, что он вышел в отставку?
– А чорт с ним.
– И правда!
– Дело в тебе, Мишель. Выходя к барьеру, нельзя не целиться... Потом можешь выстрелить на воздух. Иначе у противника лишний шанс убить тебя.
– Что если я хочу умереть? – устало и с грустью проронил Лермонтов, не желая более спорить с Монго.
– С тебя станется! – чуть ли не в бешенстве вскричал Столыпин. – Ты готов просить прощения у Мартынова?
– За что? За шутку, которую он сам изображает? Горец с большим кинжалом – это я выдумал? Впрочем, я готов сказать, что не думал его обидеть...
– Да будь он в мундире кавалергарда или драгуна, ты все равно нашел бы, над чем посмеяться.
– Если бы среди кавалергардов нашлись бы шутники над бароном Дантесом, который безуспешно волочился за женой Пушкина и женился на его свояченице, чтобы избежать дуэли, он бы убрался восвояси.
– Если бы ты был среди кавалергардов, уж точно, ты первый стрелялся бы с Дантесом, вместо Пушкина.
Лермонтов расхохотался и вышел проводить Столыпина, который возвращался в Пятигорск. Была ли у него в душе надежда на то, что Мартынов одумается? Что секунданты – приятели его и Мартынова – найдут способ помирить их? Не допустить дуэли? Если и была, то теперь она исчезла. Мартынов вконец озлился, как шеф жандармов граф Бенкендорф.
Проводив Столыпина, Лермонтов до ночи бродил по горам, ему хотелось подняться все выше и выше, где солнце все светило, но день мерк, и чувство одиночества в целом мире охватило его, ничего страшного, ибо звучала в его душе песня, поначалу без слов, звуки небес, а чтобы они не рассеялись без отзвука в мироздании, он, вместо нот, обозначал их словами:
1
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
2
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?
3
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
4
Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;
5
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.