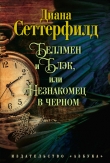Текст книги "Сказки Золотого века"
Автор книги: Петр Киле
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
Приехав в Петербург, Лермонтов отправился по новому адресу бабушки на Шпалерной улице, где она сняла отдельный дом за оградой как бы вдали от городского шума. Его встретила прислуга.
– Где же бабушка? – у всех веселые лица, значит, ничего страшного не произошло.
– Уехала.
– Куда?
– В Тарханы.
Войдя в гостиную, убранному по-старинному, с фамильными портретами, Лермонтов словно перенесся в Тарханы, но здесь же, рядом с дорогими его сердцу портретами его матери, отца и бабушки, висел портрет корнета лейб-гвардии Гусарского полка. Как скоро жизнь становится воспоминанием, обнаруживая, как в зеркале, драгоценные черты. Он вошел в комнату, где нашел свой письменный стол, книги, картины, словно он прежде здесь жил. На столе лежала новая книжка – "Стихотворения М. Лермонтова", только что выпущенные в свет.
Но тут раздались голоса, Лермонтов вышел из кабинета. То прибежали Шан-Гирей и Дмитрий Столыпин, узнавшие об его предстоящем приезде от Монго-Столыпина, который приехал еще вчера. Вскоре подъехал сам Монго с последними петербургскими новостями, среди которых главной новостью был бал у Воронцовых-Дашковых, не обычный, а ежегодный, особенно пышный среди масленичных празднеств, для избранных, с участием государя императора, императрицы и великих князей.
Монго-Столыпин привез приглашение Лермонтову на бал.
– Ты уже был у них? – на вопрос Лермонтова Столыпин важно кивнул, но промолчал. – Как тебя встретила графиня?
– Признаться, она больше радовалась твоему приезду, Мишель, чем моему, – истины ради проговорил Столыпин.
– Это естественно. Со мною она говорила бы о тебе.
– Нет, Мишель, твой приезд – событие, как и книжка твоих стихотворений.
– В книжке ничего нового, – с горьким чувством заметил Лермонтов.
– Твои стихи до сих пор переписывали и с журнальных публикаций, а собранные вместе, говорят, производят удивительно сильное впечатление. Даже я открыл и зачитался.
Лермонтов громко расхохотался, на что сразу отреагировали Шан-Гирей и Дмитрий, решив, что могут вмешаться в разговор кавказских офицеров.
На другой день Лермонтов отправился на бал у Воронцовых-Дашковых, который почти в точности повторял один из придворных балов, описанный Пушкиным: "Избранные званы были во дворец на бал утренний, к половине первого. Другие на вечерний, к половине девятого. Я приехал в 9. Танцевали мазурку, коей оканчивался утренний бал. Дамы съезжались, а те, которые были с утра во дворце, переменили свой наряд. Было пропасть недовольных: те, которые званы были на вечер, завидовали утренним счастливцам".
У Воронцовых-Дашковых 200 человек были званы к часу; позавтракав, они тотчас принялись плясать, а потом уселись обедать. На вечер к ним званы еще 400 человек, которых, впрочем, ожидают только танцы, карты и десерт, ужина не будет, – отмечает в дневнике современник, собираясь на бал, – как и в других домах прежде в этот день его не бывало.
Программа была составлена загодя, приглашения разосланы, вряд ли в списке приглашенных на утро или вечер числились Алексей Столыпин и Лермонтов. Приглашения они получили скорее всего от самой графини Александры Кирилловны и на вечер.
На утреннем балу присутствовали великие князья – наследник Александр Павлович и Михаил Павлович. На вечерний бал они остались в числе 200, к коим присоединились 400, в числе которых Лермонтов сразу привлек всеобщее внимание: его армейский мундир с короткими фалдами среди гвардейских мундиров напомнил всем, что эта форма дана ему в наказание за дуэль с французом. Знакомые приветствовали его, но сдержанно, многие делали вид, что не узнают его. Графиня, хозяйка бала, нарочно протанцевала с ссыльным поэтом, что было для нее веселым вызовом по отношению к ее именитым гостям, которые не любили его.
Наследник и великий князь Михаил Павлович переглянулись, предчувствуя историю, какая может выйти для Лермонтова, с явлением на балу государя императора.
Граф Соллогуб, вместо приветствия, закричал:
– Да что ты тут делаешь! Убирайся ты отсюда, Лермонтов, того и гляди, тебя арестуют! Посмотри, как грозно глядит на тебя великий князь Михаил Павлович!
– Не арестуют у меня! – щурясь сквозь свой лорнет, вскользь проговорил граф Иван Илларионович Воронцов-Дашков, церемонимейстер двора, проходя мимо.
– Соллогуб! – расхохотался Лермонтов. – Нет худа без добра. Я служу теперь не под началом великого князя.
– Ты служишь теперь под началом генерала Клейнмихеля? Так и он здесь.
В это время произошло общее движение среди публики, в бальную залу, залитую светом, вошла императрица Александра Федоровна, стареющая без печали о том и молодая в поступи ее худощавой высокой фигуры. За нею следовал государь император. Это было для всех большим сюрпризом – и для публики, и для хозяев, – именно появление императрицы, которая во всю нынешнюю зиму не была ни на одном частном бале. Правда, она не танцевала, но оставалась довольно долго, развлекаясь как зрительница видом и весельем великолепного бала.
Бросая взор поверх голов, государь скоро заметил армейский мундир, который отнюдь не прятался где-то в уголке, а танцевал беззаботно и всякий раз с самыми красивыми дамами.
– Кто это?
– Лермонтов, – рассмеялась императрица, выражая радость, что видит поэта, в "Стихотворениях" которого она нашла несколько молитв. – Здесь и Монго-Столыпин в мундире Нижегородского драгунского полка. Он в самом деле очень красив, я хочу сказать, мундир.
– Да и он красавец, – согласился Николай I, не без зависти поглядывая на молодого красавца, каким и он был некогда, теперь лишь величие осанки и сана составляли его силу и гордость. Его лицо из ласкового и внимательного сделалось суровым, и свой орлиный взор он обратил на великого князя Михаила Павловича, который, танцуя мазурку, несколько раз пытался подойти к Лермонтову, но тот, как нарочно, уносился с кем-либо из дам в сторону. Граф Воронцов-Дашков, опытный царедворец, со своим лорнетом вскоре понял, что это игра с огнем, и подал знак графине. Едва мазурка кончилась, Александра Кирилловна, протанцевавшая ее с Монго, то строптивая, то нежная с ним на виду у всех, увела Лермонтова во внутренние покои, возбудив ревность у его родственника и друга.
– Идите за мной, не останавливаясь, не заговаривая ни с кем, – вполголоса говорила она весьма повелительно.
– Куда вы ведете меня, графиня?
– Это не свидание, успокойтесь. Вам угрожает опасность ареста. Бестолковый Соллогуб выпалил то, чем уже запахло в воздухе.
– Опасность ареста?
– Это не шутка, Мишель.
– Вы сказали: Мишель? – нежный тон хорошенькой женщины тронул Лермонтова.
– Нет, я сказала: Михаил Юрьевич.
– Тоже хорошо звучит в ваших устах.
– Я понимаю, вы истосковались по ласке, я имею в виду вас всех, кавказских офицеров, но будем благоразумны. Может быть, появление государыни на балу спасло вас от ареста.
– Но государь этого не забудет. Куда мы идем?
Графиня вывела Лермонтова запутанными ходами из особняка и отвезла его домой. Вернувшись, она подошла к великому князю Михаилу Павловичу и сказала, что Лермонтова она пригласила на бал и как хозяйка отвечает за неприкосновенность своих гостей, и если кого винить, то надо ее. Великий князь успокоил графиню словами, что теперь с него спросят за его беспокойного гусара, хотя и бывшего.
Избежав ареста и гауптвахты за весьма незначительную провинность, Лермонтов оказался, по всему, в еще худшем положении. Николай I, когда к нему поступили наградные списки офицеров за летнее сражение при реке Валерик, собственноручно вычеркнул фамилию поручика Тенгинского пехотного полка, представленного к золотому оружию. Безоглядное мужество поэта и не нравилось царю.
– Что же, тебя в самом деле, Мишель, могли посадить под арест, ибо твое появление на балу нашли неприличным и дерзким, – Алексей Столыпин навещал теперь каждый день Лермонтова, не встречая его в свете, поскольку он в ожидании приезда бабушки счел за благо вести себя тише воды, то есть просто уединился в своем кабинете.
– Кабы знал, где упасть, соломки бы подослал, – шутил Лермонтов по поводу нового происшествия с ним.
– Это тебе не с маленькой саблей явиться на парад, а с кинжалом, – расхохотался и Столыпин.
– Я тут узнал тайну моего отпуска: бабушка просила о прощении моем, а мне дали отпуск.
– Прощения не вышло. Теперь все понятно.
– Но арест – это уж слишком. Однако, что же, и в отставку выйти не дадут? – призадумался Лермонтов.
ГЛАВА XII
Первенец творенья. Последняя встреча в Москве
1Лермонтов побывал у Краевского и отдал ему стихотворение «Оправдание», то есть, по своему обыкновению, прочел вслух, чтобы проверить впечатление.
– Как! – изумился Андрей Александрович, полнеющий, деловитый, преуспевающий. – Ты с этим вернулся с Кавказа?
– А что? Разве я не прислал тебе "Завещание"?
– Оно будет опубликовано в февральской книжке.
– Чего же тебе еще? Ну, как?
– Дай я посмотрю своими глазами. У тебя все звучит лучше некуда.
– Читай, читай. Еще найдешь грамматическую ошибку, – расхохотался Лермонтов, все такой же подвижный и шаловливый в солидном кабинете своего издателя, как прежде.
– Тебя не исправишь. У тебя неправильность звучит лучше, чем правильно. "Из пламя и света // Рожденное слово..." Пришлось так и печатать – в первой книжке за этот год. Видал?
– Нет, журналы до нас плохо доходят. Ну, как?
– Целая повесть. Целая жизнь! Сколько же было у тебя, Мишель, я не говорю, любовных историй, а жизней?
– Одна.
– Что?
– И любовь одна. И жизнь одна.
– Зато во вселенских масштабах, как у Демона?
– Да! – Лермонтов расхохотался и выбежал вон.
Стихотворение "Оправдание" было опубликовано в мартовской книжке "Отечественных записок", чего Лермонтов ожидал с нетерпением: ему хотелось, чтобы оно попалось на глаза той, с которой он теперь все чаще вступал в диалог, вполне сознавая, что оказался в ситуации, когда впору писать канцоны или сонеты, как Данте или Петрарка.
Между тем, просматривая журналы на досуге, Лермонтов ознакомился с рядом статей об его романе "Герой нашего времени" от резко отрицательных до весьма обширных, ученых, как он их называл, и те, и другие вызывали у него хохот. Отвечать на критику не хотелось, но у него созрела идея набросать предисловие к роману, Краевский готовил второе издание, ибо первое издание давно уже разошлось, случай по тем временам исключительный. Андрей Александрович, узнав о намерении поэта написать предисловие к роману, схватился за голову: половина романа была уже отпечатана, а предисловие, конечно, необходимо.
– Если завтра принесешь, еще можно вставить между Частью I и Частью II.
Лермонтов уединился у себя в кабинете и сам набросал весьма ученую статью в духе Белинского, не ведая о том, что отвечает на отзыв о Герое государя императора.
"Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана...
Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых... Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на оскорбление личности!
Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии...
Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает и, к его и нашему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить – это уж бог знает!"
За дверью раздались голоса, Лермонтов выглянул: Алексей Столыпин без обычного для него несокрушимого спокойствия и ощущения молодечества справился с живостью:
– А ты слышал о похоронах старого князя Трубецкого?
– Да. Серж так и не успел свидеться с отцом. Где он? Боюсь, вскрылась рана.
– При выносе тела присутствовал государь; сопровождал гроб верхом во главе Кавалергардского полка.
– Какая честь!
– Однако государь у Литейного узнал о том, как два кавалергарда допустили некую неисправность при принятии штандарта из Зимнего дворца. Это его настолько возмутило, что он вернулся во дворец.
– И что же?
– Офицеры, Челищев и Апраксин, переведены в армию, командир полка посажен под арест.
– Печальная процессия осветилась громом среди ясного неба?!
Это происшествие произвело сильнейшее впечатление и на императорскую семью. Похороны князя В.С.Трубецкого состоялись 12 февраля, а 25 февраля наследник, будущий Александр II, писал сестре великой княгине Марии Николаевне: "Вся эта история очень неприятна и произвела очень дурное впечатление на публику, которая и без того любит все критиковать и контролировать. Мама, от которой это хотели скрыть, в конце концов все узнала, это, как всегда, послужило причиной ее слез – все это, повторяю, очень неприятно, надеюсь, что это скоро позабудут".
Одно происшествие, крайне неприятное из-за произвола Николая I, могли забыть, но им не было числа, что скажется на судьбе его царствующего сына самым трагическим образом.
Сергей Трубецкой, узнав о смертельной болезни отца, так и не дождавшись переноса срока отпуска, выехал в Петербург, куда прибыл с опозданием, 20 февраля, не имея, если строго отнестись, официального разрешения. Николай Павлович иначе, как строго, не мог отнестись, в особенности, к Сергею Трубецкому, которого уже давно преследовал, счастливо одаренного всем, за ум и свободу в игре страстей. Его сестре Маше Трубецкой, выданной замуж за А.Г.Столыпина, Николай Павлович прощал все, брату – ничего.
Лермонтов и Алексей Столыпин тотчас навестили Сержа, у которого застали лейб-медика Вилье. Государь приказал ему освидетельствовать князя, который сослался на болезнь из-за ранения, из-за чего не мог своевременно выехать в отпуск.
– Это необыкновенное счастье, – говорил Вилье, – что пуля скользнула, так сказать, или только задела дыхательное горло, а не пробило его насквозь; иначе последствия такого ранения могли бы быть смертельными, – добавил лейб-медик вполголоса.
– Будут оперировать, – сказал Серж. – В госпитале в Ставрополе на это не решились.
Трубецкого оперировали, пуля была вынута. Друзья возликовали; лейб-медик сообщил его величеству, что для окончательного излечения понадобится три месяца. Но уже 28 февраля Вилье получил от Клейнмихеля "высочайшее повеление", чтобы он "каждую неделю лично осматривал сего офицера" с тем, чтобы если "путешествие в экипаже ему вредно не будет", распорядиться "о выезде князя Трубецкого к месту его службы на Кавказе".
Казалось бы, все ясно. Но, похоже, и при этих обстоятельствах Сергей Трубецкой где-то явился, как Лермонтов на балу у Воронцовых-Дашковых, и его заметили. Николай Павлович повелел посадить князя под домашний арест, о чем извещает Трубецкого сам Клейнмихель: "Государь император по всеподданнейшему докладу отзыва главного инспектора медицинской части по армии о сделанной вам операции высочайше повелеть соизволил: дозволить вам оставаться здесь для пользования до возможности отправиться к полку в экипаже, но предписать вам, чтобы вы ни под каким предлогом во время вашего лечения из квартиры вашей не отлучались, так как вы прибыли сюда без разрешения начальства".
Пройдет месяц, состояние здоровья князя Трубецкого не улучшится, еще месяц, и Николай Павлович теряет терпение: 25 апреля 1841 года Сергея Трубецкого высылают из Петербурга в Ставрополь с фельдъегерем.
Лермонтов и Алексей Столыпин, навещая Сергея Трубецкого при таковых его обстоятельствах, странное дело, сами на что-то надеялись. Столыпин, получивший Станислава 3-й степени за участие в боевых действиях на Кавказе, подал прошение о соизволении остаться в Петербурге из-за тяжелых семейных обстоятельств. Несмотря на хлопоты родни, близкой к верховной власти, ему было отказано. Служба на Кавказе превратилась для него в ссылку. Теперь-то за что? А просто за молодость и красоту. Современники говорят, что Николай I "терпеть не мог совершенно безобидного Монго-Столыпина за то, что он слыл первым красавцем в Петербурге".
Лермонтов уже готовился выехать из Петербурга, так и не дождавшись бабушки, как Елизавета Алексеевна, наконец, преодолев раннюю весеннюю распутицу, добралась до столицы, в середине марта. Измученная долгими ожиданиями в дороге, Елизавета Алексеевна, как всегда, увидевшись с внуком, ожила и повеселела. Она тотчас начала хлопотать о продлении отпуска, ссылаясь на не бывало раннюю весеннюю распутицу, из-за которой только сейчас свиделась с внуком, а затем, добившись отсрочки, заговорила об отставке. Лермонтов ушам своим не верил.
– Да кто же был против? Разве я? – Елизавета Алексеевна словно оправдывалась. – Его сиятельство Александр Христофорович. Это по его совету, поскольку он добился у государя прощения для тебя, я стала считать, что служба в Царском Селе не очень обременяет тебя, зато и расшалиться не дадут тебе великий князь Михаил Павлович и сам государь.
– Ну, конечно, под строгим надзором всегда и наделаешь глупостей, – с грустью заметил Лермонтов.
– Шалость твоя с маленькой саблей не стоила ареста и моих тревог. Дуэль с французом – другое дело. Виноват – неси наказание. Но посылать на войну, под пули, что же это такое?
– Для офицера это честь, – заметил Лермонтов.
– Но не в виде наказания, Мишель! – возразил Шан-Гирей, который вместе с Дмитрием Столыпиным, составлял круг родных и домашних, посвященных, как им казалось, во все мысли и события жизни Лермонтова.
– Может быть, ты прав, – согласился он.
Лермонтов уже не стремился являться на балах, а проводил вечера у Карамзиных, где обыкновенно теперь видел Наталью Николаевну Пушкину, которую здесь все привечали, хотя она мало принимала участия в разговорах на литературные темы, но взгляд, улыбка, телодвижения прекрасной женщины, как всегда, чуть сдержанной и смущенной, освещали гостиную лучезарным сиянием красоты и магического имени, словно сам Пушкин сейчас войдет... Лермонтов раскланивался с Натальей Николаевной, как и с другими дамами, вовсе не заговаривая со всеми, да у Карамзиных всегда составлялись несколько групп гостей, которые общались между собою, с тем и съезжались, не чуждые и общих интересов литературного салона и света вообще.
Нередко Наталья Николаевна чувствовала на себе взгляд Лермонтова, угадывая сразу, что это именно его взгляд, который загадывал ей загадку; она оглядывалась, близоруко щурясь, на внимание готовая ответить вниманием, то есть просто улыбкой, но он отворачивался, продолжая беседу, обыкновенно у окна, в глубине амбразуры, то и дело бросая взор на деревья Летнего сада и небо над Невой, и сумраком ночи, то тревожным, то таинственно-влекущим, отдавал его взгляд. Наталье Николаевне казалось, что Лермонтов из тех, кто осуждает ее, может быть, единственный, кто имеет право на это, вступившись за честь Пушкина и как? Как истинный поэт. И пострадавший за это. И дуэль с сыном французского посланника, когда всевозможные слухи и сплетни о прекрасных особах, как о причинах поединка, улетучились, как дым, оказалось, была продолжением спора о смерти Пушкина. Даже то, что Лермонтов был и некрасив, и мал ростом, широкоплеч и подвижен, как Пушкин, – к внешности которого все давно привыкли, поэт таков и все, – вместо неприязни, у нее вызывало улыбку, смеющийся взгляд удивления и доверия, как обыкновенно относятся к детям. Лермонтов был чуток к такому взгляду с детства: ласковая улыбка Вареньки Лопухиной оживала где-то в глубине души блестящей светской красавицы.
Между тем вспыхнул спор о романтизме; граф Соллогуб, князь Одоевский и даже дамы, в частности, графиня Ростопчина, высказывались и вкривь и вкось, как обыкновенно бывает, когда речь заходит об неустановившихся понятиях, хотя проявления романтизма все живо чувствовали и замечали.
– Лермонтов, что вы скажете? – обратилась Софи Карамзина к поэту, который избегал участия в теоретических словопрениях. – Ведь вы романтик.
– О, нет!
– А Байрон?
– Что Байрон? Разве я на него молюсь?
– А на кого же?
Лермонтов взглянул в сторону Натальи Николаевны, и всем стало ясно, на кого он молится. Однако, все же желая высказаться, поэт попросил у Софи Карамзиной ее альбом и вписал стихи:
Любил и я в былые годы,
В невинности души моей,
И бури шумные природы,
И бури тайные страстей.
Но красоты их безобразной
Я скоро таинство постиг,
И мне наскучил их несвязный
И оглушающий язык.
Люблю я больше год от году,
Желаньям мирным дав простор,
Поутру ясную погоду,
Под вечер тихий разговор,
Люблю я парадоксы ваши,
И ха-ха-ха и хи-хи-хи,
Смирновой штучку, фарсу Саши
И Ишки Мятлева стихи...
Софи Карамзина сейчас же попросила Лермонтова прочесть его стихи, в которых прозвучали узнаваемые тона Пушкина в гармонически простых строках, исполненных глубины мысли, и все вдруг окончилось шуткой; все рассмеялись, и тем спор о романтизме закончился.
В другой раз возник спор о России, об ее прошлом, настоящем и будущем, о чем шла речь в известном философическом письме Чаадаева, за которое Николай I объявил его сумашедшим, у Карамзиных читали и письмо Пушкина к Чаадаеву, которое он не отправил, узнав о гонениях на философа; Лермонтов, по своему обыкновению, лишь отшучивался, упоминая взгляды московских любомудров, которые во всем винили Петра Великого и отпускали бороды, но мысль работала, то есть он уносился в дали России во времени и пространстве; придя домой, он записал стихотворение под названием "Отчизна". Утром он забежал к Краевскому и, изрядно помучив его своей беготней и хохотом, отдал ему листок.
– "Отчизна", – прочел издатель.
– Нет, лучше "Родина", – поправил поэт и прочел:
Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю – за что, не знаю сам -
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.
– Да, лучше «Родина», – отозвался Краевский.
– Ну, как?
– Да лучше не бывает. И откуда ты все это берешь? Надо показать Белинскому.
Лермонтов расхохотался и выбежал вон. "Лермонтов еще в Питере, – писал Белинский в одном из писем. – Если будет напечатана его "Родина" – то, аллах-керим, – что за вещь – пушкинская, т. е. одна из лучших пушкинских". Критик опасался цензуры, но она, верно, проглядела всю новизну взгляда поэта на жизнь народа, с отрицанием всего, на чем основана самодержавная власть. Вслед за Пушкиным Лермонтов выступил с утверждением нового гуманизма, под знаком которого явилась в России интеллигенция, новая общественная сила, какой Европа не знала.