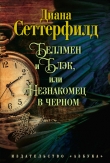Текст книги "Сказки Золотого века"
Автор книги: Петр Киле
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
У графа Соллогуба, теперь женатого, – он поселился у Виельгорских, но принимал гостей у себя отдельно – и от Луизы Карловны, и от графа Виельгорского, – Лермонтов нередко засматривался на Софью Михайловну своими большими, бездонными глазами, что ее не смущало, но не нравилось ее мужу, ревность что ли закрадывалась в его сердце? Софья Михайловна, выйдя замуж, не показывалась в свете, даже при дворе бывала редко, решив, как ее мать, всю себя посвятить семье. Но граф Соллогуб не переменил своего образа жизни – и светского человека, и литератора, в известности своей мнившего, может быть, себя соперником Лермонтова. Вместе с тем, обладая вкусом, возможно, в глубине своей души он сознавал, что он в отношении к Лермонтову Сальери рядом с Моцартом. Что делать? Привечая сам поэта всячески, Соллогуб сделал замечание жене, чтобы она не позволяла Лермонтову так глядеть на нее.
– Глаза его – омут, затянет, – выказал он свои опасения.
Покраснев, Софья Михайловна промолчала. И вот однажды, когда Лермонтов снова уставился на нее, она сказала ему, пожав плечами:
– Вы знаете, Лермонтов, что мой муж не любит вашу манеру пристально всматриваться, – Софья Михайловна сделала невольный жест рукой, мол, на меня. – Зачем же вы доставляете мне эту неприятность?
Лермонтов встал, поклонился, не говоря ни слова, и ушел. Софья Михайловна в досаде на себя и на мужа чуть не бросилась за ним со слезами на глазах просить прощения, сказать, что все это вздор, она отлично знает, что просто у него такая манера смотреть на всех и каждого. Она думала, что Лермонтова больше не увидит, отсрочки больше не дадут, и он отправится, бог знает с какой обидой на нее, на Кавказ. Он же на другой день пришел как ни в чем не бывало, пристально поглядев на нее, чему лишь рассмеялась она, невольно винясь перед ним, отдал ей лист со стихами:
Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье;
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.
Когда порой я на тебя смотрю,
В твои глаза вникая долгим взором:
Таинственным я занят разговором,
Но не с тобой я сердцем говорю.
Я говорю с подругой юных дней,
В твоих чертах ищу черты другие,
В устах живых уста давно немые,
В глазах огонь угаснувших очей.
Подошел Соллогуб, тотчас заинтересовался стихами и отобрал у Софьи Михайловны поднесенный ей автограф поэта, кои собирал самым ревностным образом.
– Дьявол! Вышел сухим из воды.
Лермонтов переглянулся с Софьей Михайловной и расхохотался.
– Это же романс! Отчего Глинка пишет романсы на стихи Кукольника, а на ваши – нет? Вы знакомы?
– Нет, – отвечал Лермонтов, – хотя где-то встречались.
– Вот, вот! – в досаде воскликнул Соллогуб. – С Пушкиным не успели познакомиться. Так и с Глинкой...
– Так же и со знаменитым нашим живописцем Брюлловым. Одна дама решила свести нас, уверенная, что художник захочет писать мой портрет; пригласила нас на ужин; я смотрю на него, а он отводит глаза, так и расстались.
– А в чем дело?
– В высшей степени поэтическая душа, как и внешность, Брюллова, кажется, не вынесла моей общей армейской физиономии! – громко расхохотался Лермонтов, ему вторил Соллогуб, даже Софья Михайловна рассмеялась.
– Если бы... Если бы вы, Лермонтов, уставились, по своему обыкновению, на него, он бы загорелся задачей выразить ваш взор, в котором ночь и звезды, все мироздание блещет, – проговорила Софья Михайловна.
– Ночь и звезды – это у меня только для женщин, графиня. А мужчины в моих глазах видят лишь угрозу, как у Демона.
Софья Михайловна рассмеялась и сочла за благо удалиться.
– Помилуйте, Лермонтов! Ведь вы же, кроме поэзии, имеете склонность и к живописи, и к музыке. И вас не привлекают ни Брюллов, ни Глинка?
– Откуда вы взяли? Это я не привлекаю ни того, ни другого. Что делать? Но такие вещи огорчают меня лишь в случаях, когда речь идет о женщинах.
– Нет, я не думаю, гений, пусть самый высокий, самодостаточен.
– Гений самодостаточен. Другое дело – если его сделать камер-юнкером...
– Или капельмейстером, как Глинку, или гусарским офицером, как тебя...
– Нет, выйду в отставку и займусь журналом, я давно об этом думаю, – заговорил Лермонтов о создании своего журнала уже не первый раз.
Соллогуб его не слушал: он не верил, что Лермонтов окажется более удачливым журналистом-издателем, чем Пушкин. Чем плох Краевский и его "Отечественные записки"?
Лермонтов, пустившись в предположения и планы, вдруг осекся: а ведь и в отставку выйти не позволят, как Пушкину. Он поспешно распрощался с графом и вышел на Невский, где, немного пройдясь, увидел прогуливающегося с важностью Алексея Столыпина. Лермонтов вспомнил о том, что они, пребывая в тревожных ожиданиях, подумывали посетить гадалку, ту же самую Кирхгоф, которая предсказала Пушкину смерть от белого человека или белой лошади. Немку-гадалку звали Александра Филипповна, которая странным образом носила еще произвище "Александр Македонский", уводящее искусство прорицания в глубь тысячелетий.
– Алексей Аркадьевич! Самое время нам отправиться к Александру Македонскому.
– Куда? – свысока скосил глаза Столыпин.
– К Александре Филипповне Киргоф. Она живет у Пяти углов.
– К чертовой гадалке?
– К той самой, которая напророчила Пушкину смерть от белого человека или белой лошади, – и не ошиблась! Хотя, говорят, болтает сущий вздор.
– Нет, я не хочу знать, при каких обстоятельствах я умру. Чего не минуешь, и загадывать нечего. Ты сам знаешь: лучше быть фаталистом, чем пророком.
Вдруг движение по Невскому проспекту приостановилось, и вдоль по Фонтанке пронеслась коляска с офицером с пышным султаном, то проехал царь.
– Но когда ощущаешь поминутно опасность, как на войне, поневоле становишься суеверным.
– Ни в какие приметы я не верю, – бросил Столыпин.
– Ты просто их не замечаешь. Быть суеверным полезно. Поскольку я не боюсь несчастий, надо быть, по крайней мере, начеку.
– Мишель, ты всегда начеку, а суеверным тебя я не видел.
Между тем они, свернув с Невского проспекта, уже шли по Загородному. За ними следовали две коляски.
– Пушкин был весьма суеверен, а об Александре Македонском и говорить нечего. Христианство отрицает языческие воззрения, но ведь мы все наполовину язычники, отчасти по дикости и невежеству, как наши крестьяне, отчасти по воспитанию и образованию, по существу, греческому. Сама религия, может статься, всего лишь суеверие, поэтически обработанное мифотворцами. Но вера, по крайней мере, для меня – нечто совершенно иное; она из детства и связана изначально с восприятием матери моей и света, то есть милой и лучезарной женственности, что затем наполняется сладкой негой восприятия всего нежного, девичьего, то есть земной красоты от цветка до неба. Моя вера, возможно, – это не что иное, как моя восприимчивость к природе и к красоте, прежде всего женской красоте, к тому, что Гете обозначает как Вечная женственность, воплощением которой для кого-то выступает Афродита, для кого-то богоматерь, разумеется, в образе мадонны Рафаэля. Это и есть ренессансное миросозерцание, когда религия растворяется в поэзии. Но суеверие, как и вера, религия, ведет либо к поэзии, либо к мистике. Я слишком трезвомыслящий человек, чтобы впадать в мистику, а поэзия – моя сфера, объемлющее мироздание. И в ней я могу быть столь же суеверным, как Александр Македонский, который был готов поверить, что он сын Зевса или Амона, или как Пушкин, питомец Феба.
Лермонтов нередко мог разговориться, Столыпин был для него хорошим собеседником, молчаливо-внимательным, без претензий по всякому поводу кого-то или что-то оспорить.
– А ты, Мишель, питомец Феба?
– Нет, к несчастью; тогда бы я был светел и ясен, как Пушкин. Я слишком сжился с образом Демона.
– Чем же он хорош?
– Счастливый первенец творенья! Это все! У кого-то из мыслителей эпохи Возрождения сказано: человек в его высших постижениях и вдохновениях не может не чувствовать себя первенцем творенья, то есть он чувствует себя первенцем творенья, возлюбленным дитя Бога, который дал ему разум, объемлющий природу и все мироздание в его прошлом, настоящем и будущем.
– Да, это чувство и мне знакомо, – Алексей Столыпин приосанился, вызвав громкий хохот у Лермонтова.
– Красавцы, конечно же, первенцы творенья, но это у матушки-природы, – примирительно проговорил поэт и постучал в дверь.
– Кто там? – откуда-то справились по-немецки.
– Два молодых офицера, – отвечала за дверью прислуга тоже по-немецки.
– Скажи: нет приема. Пусть-ка еще погуляют беззаботно на празднике жизни.
– Но заглядывает ли к вам старость, когда у нее уже нет будущего? – Лермонтов заговорил по-немецки, входя в гостиную без приглашения; Столыпин последовал за ним.
У немки-гадалки обстановка была полувосточная, полуцыганская: ковры, сумрак, кадильницы, карты на круглом столе.
Старуха-гадалка, собравшаяся уйти, поворотилась: два русских офицера по контрасту роста и внешности привлекли ее внимание, кроме знания немецкого, что, впрочем, в Петербурге не редкость.
– Меня, право, здесь нет, я устала, – сказала старуха-гадалка, возвращаясь, однако, к круглому столу с несколькими креслами и усаживаясь на свое место. – Садитесь, господа.
Алексей Столыпин опустился в кресло у стола, Лермонтов сел на диван у стены, увешанной коврами. Поэт уставился, по своему обыкновению, на гадалку, та не обращала на него внимания, зато приглядывалась к красавцу-офицеру, явно любуясь им.
– Что вас интересует, сударь? – спросила она, бросая карты перед собой. – В любви обмануты; что хотите еще знать?
Столыпин нахмурился: он подумал, что Лермонтов разыгрывает его заодно с гадальщицей.
– Где я кончу свои дни? И скоро ли? – решился он спросить.
– Не скоро и не на войне.
– Это все?! – Столыпин, взглянув на Лермонтова, рассмеялся.
– На чужбине! – и старуха раскашлялась, словно у нее больная грудь. – Вот отчего! – отмахнулась она, и кашли как не бывало.
– Что-о?
– Кончишь дни свои, милый мой, на чужбине. Это все. Я играла в карты с твоей судьбой. Твоя ставка.
Столыпин выложил деньги и поднялся. Старуха показала жестом Лермонтову занять его место.
– Я здесь останусь, – сказал он по-немецки.
– Что же, – недовольно проворчала старуха. – Скажите, по крайней мере, что вас интересует?
– А вот что. Выйдет ли мне отставка?
– Это все?
– И останусь ли я в Петербурге?
Быстро полетели карты и легли на стол.
– Нет, молодой человек, в Петербурге вам вообще больше не бывать, и отставке не бывать.
– А чему же бывать?! – вскричал Лермонтов, вскакивая на ноги.
– Об этом вы не спрашивали. Сейчас, сейчас, – еще карты легли на стол. – Ожидает тебя другая отставка, после коей уж ни о чем просить не станешь.
– Заплати за меня, – Лермонтов, обращаясь к Столыпину, направился к выходу. Денег при себе он никогда не держал, за все расплачивался его слуга.
На улице Лермонтов и Столыпин поглядели друг на друга, расхохотались и разъехались.
Вечером того же дня Елизавета Алекссеевна сообщила внуку, что дамы, – она имела в виду придворных дам из его приятельниц, – непрерывно приставая к великому князю Михаилу Павловичу, добились дополнительной отсрочки. Мрачное впечатление от предсказания Александра Македонского рассеялось, и Лермонтов, смеясь, рассказывал о посещении гадальщицы. "Уж если дают отсрочку за отсрочкой, то и совсем выпустят", – говорил он, подпадая под настроение бабушки, которой кто-то обещал прощение в связи со свадьбой наследника и амнистией.
Но великий князь Михаил Павлович и генерал Клейнмихель с последней отсрочкой для Лермонтова лишь вызвали у Николая I гнев; ему уже давно надоело, как все вокруг него хлопочут о прощении Лермонтову, даже императрица заговаривала о нем, да еще в минуты, когда у него сплин. Да, бывали и у Николая Павловича настроения, в какие почти постоянно впадал его старший брат Александр, несмотря на блистательную свою победу над Наполеоном. Понятно, он нес ответственность, быть может, без вины, за убийство венценосного отца. У него-то чиста совесть, кроме тени пяти повешенных злодеев, да еще Пушкина, которого уберечь от дуэли можно было.
– Что же ты мог бы сделать, Никс? – спросила Александра Федоровна однажды, когда ее августейший супруг проговорился, терзаясь угрызениями совести, бывало, и по пустякам.
– Я сделал внушение его красавице-жене вместо того, чтобы приструнить кавалергарда Дантеса, которого ведь мы пригрели, а барона Геккерна отправить восвояси.
– Но ведь Пушкин поблагодарил тебя, Никс, за твою заботу об его семье?
– Да. Но чуть ли на другой день он стрелялся. И погиб. Хорошо еще, умер христианином.
– Что если и Лермонтова убьют, пусть на войне?
– Он офицер, смерть на войне для офицера честь.
– Никс, офицеров у нас много, он же поэт.
– Поэт, так он, что, имеет право винить всех нас в смерти Пушкина?! – вскипел Николай Павлович, и сплин с него сошел, как насморк. – Граф Бенкендорф прав, этого беспокойного человека лучше держать на Кавказе. Ему все нипочем. Зачем ты думаешь ему отставка? Завести свой журнал. Уж тут он развернется, что придется его посадить в Петропавловскую крепость или сослать в Сибирь. Что же лучше?
Натянув корсет, одевшись в мундир одного из гвардейских полков, вновь величественный и суровый, Николай Павлович отдал распоряжение Клейнмихелю в отношении поручика Лермонтова, чтобы он покинул Петербург до свадьбы наследника.
Лермонтов однажды забежал к Краевскому, как впоследствии вспоминал последний, напевая какую-то невозможную песню; бросившись на диван, он, в буквальном смысле слова, катался на нем в сильном возбуждении.
Краевский сидел за письменным столом и работал.
– Что с тобою?
Лермонтов вскакивает и выбегает вон. Краевский, привыкший к шалостям поэта, лишь пожал плечами.
"Через полчаса Лермонтов снова вбегает, – рассказывал Андрей Александрович. – Он рвет и мечет, снует по комнате, разбрасывает бумаги и вновь убегает. По прошествии известного времени он опять тут. Опять та же песня и катание по широкому моему дивану. Я был занят; меня досада взяла: "Да скажи ты, ради бога, что с тобою, отвяжись, дай поработать!"
Михаил Юрьевич вскочил, подбежал ко мне и, схватив меня за борты сюртука, потряс так, что чуть не свалил меня со стула. "Понимаешь ли ты! мне велят выехать в сорок восемь часов из Петербурга".
Оказалось, что его разбудили рано утром. Клейнмихель приказывал покинуть столицу в дважды двадцать четыре часа и ехать в полк в Шуру. Дело это вышло по настоянию гр. Бенкендорфа, которому не нравились хлопоты о прощении Лермонтову и выпуске его в отставку".
– Что же это выходит? Гадалка Киргоф угадала? Мне не бывать больше в Петербурге, не бывать в отставке?!
– Как бабушка?
– Встревожена, хотя все еще надеется на амнистию.
– Не разуверяй ее, не толкуй о гадалке.
– Разумеется. Но каково, а?!
– Куда ж ты убегал?
– Заезжал к Монго. Знаешь, он же хлопотал о переводе в Петербург или поближе к нему, по семейным и сердечным обстоятельствам. Нет, велят тоже возвращаться на Кавказ.
– А еще куда убегал?
– Заезжал к Сергею Трубецкому. Рана после операции зажила, и он со дня на день ждет предписания выехать на Кавказ. Одно утешение: все снова сойдемся там, гонимые бог знает за что.
У Карамзиных был назначен прощальный ужин, на котором все заметили, как Лермонтов не ограничился обычным поклоном при появлении Натальи Николаевны Пушкиной, а все посматривал на нее и, наконец, подсел к ней.
– На Кавказе я могу встретить Льва Сергеевича Пушкина, о котором вы у меня спрашивали. Что передать мне ему от вас? – заговорил Лермонтов с необыкновенно грустным выражением на лице, что делало его по-юношески простодушным.
– Как хорошо, что вы заговорили со мною так просто. Мне казалось, что вы чуждаетесь меня, поддаваясь враждебным влияниям, – холодная с виду красавица заговорила после нескольких фраз о Льве Пушкине задушевным тоном и по-русски, как вообще у Карамзиных обыкновенно говорили по-русски.
– Нет, я не поддаюсь чужим влияниям, даже общему здешнему культу, – он лишь взглянул на нее, – но заговорить с вами запросто, как с другими дамами, я не мог, как не решился искать знакомства с Пушкиным...
– Но отчего же? Вот граф Соллогуб, еще будучи студентом, свел знакомство с Пушкиным и со мною, – улыбнулась Наталья Николаевна.
– На то он и граф, – усмехнулся Лермонтов. – Но у поэтов своя иерархия, с Гомером я бы не решился заговорить до старости.
Наталья Николаевна рассмеялась; Софья Николаевна Карамзина и графиня Ростопчина, с которой Лермонтов успел подружиться за эти два с половиной месяца пребывания в Петербурге, знавши ее в юности в Москве, переглянулись не без удивления и разочарования, мол, напрасно они соперничали между собою, если тайным вниманием поэта владела та, чья красота все еще была блистательна.
– Но я все-таки рада, что вы заговорили со мной, не ожидая моих преклонных лет, – Наталья Николаевна вспыхнула, довольная своей шуткой.
– Это потому, что у меня не будет моих преклонных лет, – быстро проговорил Лермонтов.
– Что вы сказали?
– У меня было время рассмотреть вас, и мне кажется, что лицо ваше мне знакомо с юности; ведь я видел вас в Москве...
– Как!
– И рядом с вами Пушкина, моего кумира, внешность которого меня глубоко разочаровала поначалу, как недавно я даже напугал одного мальчика, знающего мои стихи наизусть, своим видом. Как же я мог дерзать на ваше внимание, это немыслимо, – Лермонтов с грустью замолк, хотя в ином настроении громко расхохотался бы.
– Поэты у нас не обойдены вниманием красоты.
– Это взаимно.
– Но куда важнее победа сердца. Мне кажется, именно это произошло нынче с нами.
– Дай Бог!
За ужином Лермонтов сидел за маленьким столиком с графиней Ростопчиной, урожденной Сушковой, кузиной Екатерины Сушковой, писательницей. Он говорил о близкой смерти. Это настроение настолько сильно им овладело, что он не стремился быть ни шумным, ни веселым, как выходил из своего внутреннего состояния при людях, и необычайно грустное выражение его лица было настолько ново для графа Соллогуба, что он не поверил в искренность поэта, о чем упоминает в своих воспоминаниях спустя много лет, что звучит весьма странно.
Стоя у окна с небом над Невой, Лермонтов прочел, поскольку его просили что-нибудь прочесть на прощанье, как бывало, песню из поэмы "Демон", что ранее при чтении поэмы, видимо, опускал:
На воздушном океане
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил;
Средь полей необозримых
В небе ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада.
Час разлуки, час свиданья -
Им ни радость, ни печаль;
Им в грядущем нет желанья
И прошедшего не жаль.
В день томительный несчастья
Ты об них лишь вспомяни;
Будь к земному без участья
И беспечна, как они!
Все были очарованы и растроганы, а поэт заплакал, если верить свидетельству графа Соллогуба. Казалось бы, здесь та же тема из стихотворения «Тучи», но уже во вселенских масштабах.
Утром, распрощавшись с бабушкой, Лермонтов отправился на почтовую станцию, его провожал Шан-Гирей; он уехал почтовым дилижансом. Спешить было некуда.
3
На балу в зале Дворянского собрания в Москве произошло оживление: все заметили появление молодого человека в мундире армейского офицера.
– Лермонтов! Лермонтов! – раздались голоса.
– Лермонтов? Это Лермонтов?! – недоумение и чуть ли не испуг слышались в иных голосах.
Оркестр заиграл вальс-фантазию М.И.Глинки. Пары закружились, между тем голоса: "Лермонтов! Михаил Юрьевич!" – продолжали раздаваться, точно эхо проносилось между сияющих колонн.
– Москва приветствует Лермонтова, как некогда Пушкина по его возвращении из ссылки, – два господина переглянулись, один из них, поэт Василий Иванович Красов, продолжал. – Но Лермонтов не получил прощения и возвращается на Кавказ.
– Ты знаком с ним? – справился другой.
– Лермонтов был когда-то короткое время моим товарищем по университету, – отвечал Красов с видом воспоминания. – Но он не очень знался со своими однокурсниками. Бывало, конечно, поздороваешься. А здесь, на балах, сопровождая барышень, вовсе не обращал на нас внимания.
– Но вы оба поэты, стихи ваши в "Отечественных записках" печатаются рядом.
– Я не видел его... десять лет – и как он изменился!
– И как?
– То был юноша... А смотри! Какое энергическое, простое, львиное лицо.
– По губам он все еще юноша. А глядит, точно львом; избаловали вниманием женщины, хотя и некрасив, и мал ростом. А танцует ловко.
– И тебя тянет танцевать? Иди. А я, видишь, не могу отвести с него глаз.
– Да разве он тебе не соперник?
– Нет, брат, его стихи чудно-прекрасны. Это, как его "Тамань" и повесть Соллогуба "Большой свет", опубликованные в одно время в "Отечественных записках", – день и ночь.
Как оценивал стихи Красова Лермонтов, мы не знаем, но то, что Краевский печатал его стихи наравне с лермонтовскими, говорит об их достоинстве. Одно из стихотворений Красова "Молитва", обычного содержания о благости господней, возможно, вызвало у Лермонтова иронию, ведь Бога должно благодарить и за зло в мире. Это "Благодарность". По содержанию кажется, что поэт обращается к женщине, но он благодарит Господа Бога:
За все, за все Тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей;
За жар души, растраченный в пустыне,
За все, чем я обманут в жизни был...
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне
Недолго я еще благодарил.
Какая горькая ирония, вполне объясняющая содержание «И скучно и грустно», обретающее тоже вселенское значение и вполне выражающее взгляд Демона, постигшего тщету как земной, так и небесной жизни.
На балу танцевал и Алексей Аркадьевич Столыпин, привлекая взоры дам ростом, красотой лица и мундира Нижегородского драгунского полка, самого красивого в русской кавалерии. Дама его тоже была хороша, одна из сестер Николая Соломоновича Мартынова, с которым Лермонтов и Монго-Столыпин учились одно время в Школе гвардейских подпрапорщиков, а с другой сестрой танцевал Лермонтов; будучи в Москве, он бывал у Мартыновых. Что касается брата хорошеньких сестер, – была и третья, – Николая Мартынова, то он вышел из Школы в кавалергарды, но, верно, не преуспев в свете, хотя и был красавец, и богат (отец его разбогател на винных откупах), отправился на Кавказ поначалу, верно, охотником, но там перевелся в Нижегородский драгунский полк, говорят, прельщенный мундиром, который очень ему шел; он возвращался в Петербург, но снова отправился на Кавказ, вероятно, в надежде именно там скорее достичь своих честолюбивых целей.
– Да, где теперь ваш брат? – Монго-Столыпин не нашел другой темы для разговора с хорошенькой Юлией Соломоновной.
– Не знаю, – отвечала барышня, краснея, – но он служит в Гребенском казачьем полку. И он уже майор, – с горделивыми нотками в голосе добавила она. Алексей Столыпин был капитаном, а Лермонтов всего лишь поручиком, не говоря о переводе из гвардии в армию.
– Уже майор?! – подхватил Монго-Столыпин в тоне барышни. – Да, этак Мартынов вскоре в генералы выйдет!
– Да, это его самая заветная мечта.
Примерно о том же говорили Лермонтов и Наталья Соломоновна.
– После смерти папеньки брату надо было выйти в отставку, но он решил продолжать свою карьеру и снова отправился на Кавказ.
– Какую карьеру?
– Как, какую!
– Гвардейские офицеры карьеру делают в Петербурге. А он кто теперь – казак?
– Майор! А вы, Михаил Юрьевич, при всем вашем уме и мужестве все еще поручик.
– О, как вы жестоки, Наталья Соломоновна! – Лермонтов громко расхохотался, вызвав испуг и недоумение в глазах молодой женщины, которая считала себя прототипом княжны Мери из романа "Герой нашего времени". Сестры Мартыновы были в Пятигорске в 1837 году, когда Лермонтов приехал туда и вынес впечатления из пятигорской жизни, описанной в повести "Княжна Мери". Поклонившись, Лермонтов устремился к дверям, где, как ему показалось, промелькнула фигурка женщины в берете, щегольски изящная, родная, как из юности, но это не было видением, ибо сердце у него застучало сильнее, как от свиста пуль. Не успел он выйти в одни настежь открытые двери, как в другие вошла Варенька Лопухина, по первому взгляду, но по второму – молодая женщина в полном расцвете красоты личности, во всем блеске здоровья, пусть и минутного, и женственности.
Лермонтов остановился, не веря своим глазам: болезни, худобы, томной слабости нет и в помине. Она вела за собою юную барышню к группе бабушек и тетушек, приехавших на бал со своими внучками или воспитанницами, все ее приветствовали ласково и почтительно.
Тут музыка смолкла, в танцах наступил перерыв, и все устремились к дверям. Варвара Александровна оглянулась на Лермонтова, глаза ее вспыхнули, как небеса, чуть приметно поклонилась, и он в толчее потерял ее из виду. Когда толпа отхлынула, в полуопустевшей танцевальной зале ее не было. Он пустился ее искать, нигде ее берет не мелькнул; с возобновлением танцев он поднялся на антресоли, и на него нахлынули воспоминания юности. Нигде ее не было, как вдруг к нему подошла барышня со знакомым лицом и с таким выражением, что они не могли не знать друг друга, но он лишь уловил в ней сходство с Варенькой Лопухиной, какой она была в юности, и это-то заняло его внимание.
Это была Екатерина Григорьевна Быховец, одна из его кузин, хотя, если точнее сказать, она считала его своим правнучатым братом, что означало бог знает, но родство с очаровательным созданием всегда приятно.
– Кузина?
– Идемте вниз. Я познакомлю вас с теткой.
– Разве я с нею не знаком? – Лермонтов сделал гримасу.
– Это другая тетка. Я с нею собираюсь в Пятигорск.
– Это не Варвара Александровна Бах...? – Лермонтов осекся, к этой фамилии он не мог привыкнуть.
– Бахметева? Нет, не она.
– Очень жаль!
– А что?
– Вы чуть не сделали меня счастливейшим из смертных.
– О чем вы говорите? – рассмеялась очень живая по характеру и прямо очаровательная девушка.
– Если мы с вами встретимся в Пятигорске, так уж быть, я расскажу вам о том, о чем никогда и никому в своей жизни не обмолвился ни словом.
– Обещаете?
– Да. Мне легко обещать, потому что мы вряд ли встретимся.
– Почему?
– Во-первых, вы можете не приехать. Во-вторых, летняя экспедиция уже началась. Ежели в прошлом году все обошлось счастливо для меня, а были жаркие дела, вспомнить страшно до сих пор, то нынче меня непременно убьют.
Екатерина Григорьевна невольно схватилась за его руку, и тут он закружил ее в танце, и оба рассмеялись превесело.
– Куда вы смотрите, Мишель?
– Туда, где вы меня нашли.
– Вы кого-то ждали?
– Да. Она была здесь.
– Она привезла племянницу на бал, препоручила ее родственнице и уехала.
– Она здорова?
– Слава Богу, здорова и похорошела удивительно, не правда ли?
– О, если бы я не любил ее всю мою жизнь, я бы влюбился теперь в нее без памяти, – Лермонтов так загрустил, что уже не мог танцевать, и остановился. – Простите, кузина. Рад был встрече и еще больше обрадуюсь, если увижусь с вами.
– Если все так, как вы сказали, Мишель, она, возможно, сочла за благо уйти?
– Какая мысль! Вы на нее похожи и мысли у вас сходные, может быть. Прощайте! Мне пора. Завтра я уезжаю.
– До встречи, Мишель!
Красов видел, как Лермонтов уходил с бала в своем армейском мундире и с кавказским кивером; у него сжалось сердце.
Лермонтов поскакал на извозчике к одному из московских любомудров Ю.Ф.Самарину, с которым часто виделся, бывая в Москве. Впечатления молодого философа от встреч с поэтом удивительны. "Это в высшей степени артистическая натура, неуловимая и не поддающаяся никакому внешнему влиянию благодаря своей неутомимой наблюдательности и большой глубине индифферентизма. Прежде чем вы подошли к нему, он вас уже понял: ничего не ускользает от него; взор его тяжел, и его трудно переносить. Первые мгновенья присутствие этого человека было мне неприятно; я чувствовал, что он наделен большой проницательной силой и читает в моем уме, и в то же время я понимал, что эта сила происходит лишь от простого любопытства, лишенного всякого участия, и потому чувствовать себя поддавшимся ему было унизительно. Этот человек слушает и наблюдает не за тем, что вы ему говорите, а за вами, и, после того как он к вам присмотрелся и вас понял, вы не перестаете оставаться для него чем-то чисто внешним, не имеющим права что-либо изменить в его существовании".
Автор письма, философ из славянофилов, воспринимает Лермонтова, вероятно, безотчетно как Демона. И, в самом деле, в нем было нечто демоническое при его чисто поэтической натуре и детскости, искренности и простоте, это был Сократ, или им владел тоже демон, как Сократом. Если Платон устами Алкивиада называет Сократа Марсием, зачаровывающем своей флейтой, то Лермонтов тоже был Марсием, музыкантом-поэтом, пугающим и отвратительным для тех, кто лишен слуха, – лишен слуха был Николай I, музыки он не любил и из этого не делал тайны, – склонности к изящному, и чудно-прекрасным певцом всего высокого и чисто человеческого в противовес всякой патриархальности. В демонизме Лермонтова не было ничего надуманного, это не байронизм, а возрожденчество, сбрасывающее с себя вериги средневековья, колоссальная мощь человеческой природы, которая жаждет самоутвержденья в жизни и в творчестве. Это новый Прометей, печень которого клюет орел Зевса. Недаром царь раз за разом отправляет поэта на Кавказ, та же трагическая ситуация, тот же трагический миф. Но там титан, а здесь человек.
Лермонтов привез Самарину стихотворение "Спор" для одного из московских журналов; они разговорились, поэт снова вспомнил о сражении при Валерике, о чем рассказывал Самарину, пребывая при этом весь в думах, как ни странно, о той, что промелькнула на балу в зале Благородного собрания. Ему было жарко – не от лета, которое только начиналось, а от внутреннего жара души, что скажется самым причудливым образом в стихотворении "Валерик".
Простившись с Самариным под утро, Лермонтов вскоре выехал из Москвы; вслед за ним помчался Алексей Столыпин, чтобы в пути встретиться, волей судьбы до сих пор почти неразлучные.