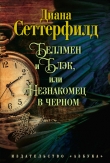Текст книги "Сказки Золотого века"
Автор книги: Петр Киле
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
Обосновавшись в Пятигорске, Лермонтов предался демону поэзии; по утрам он сидел у себя за столом у раскрытого окна с черешневым деревом под ним; протягивая руку, он срывал и лакомился черешнями. Днем он лазил по горам или уносился куда-нибудь вскачь. Затем он присоединялся к обществу то на вечерах у Верзилиных, то на прогулках; пикники, кавалькады, танцы – молодежь веселилась там, куда отовсюду стекались больные или раненые.
В начале июня в Пятигорск приехал князь Васильчиков Александр Илларионович, один из числа "кружка шестнадцати". Он закончил юридический факультет Петербургского университета в 1839 году. Его отец генерал-адъютант Илларион Васильевич Васильчиков был фаворитом Николая I (он оказал решительную поддержку царю 14 декабря 1825 года на Сенатской площади). В 1831 году он был возведен в графское достоинство, а с 1 января 1839 года граф был возведен в княжеское достоинство. Теперь он занимал пост председателя Государственного совета и комитета министров. Таким образом, Александр Васильчиков при своей жизни сделался графом, а затем князем, ему предстояла блестящая карьера, но дух эпохи повернул его к либерализму, и по окончании университета он примкнул к "кружку шестнадцати", который словно бы подвергся разгрому в 1840 году, что коснулось как-то и князя Васильчикова. Он тоже отправился на Кавказ, правда, в составе комиссии сенатора П.В.Гана по ревизии административного устройства Закавказья. Похоже, отец позаботился об удалении сына из Петербурга, чтобы вчерашний студент не наделал глупостей у царя под носом и остепенился.
"Мальбрук в поход собрался, – писал Александр Васильчиков сестре. – Иными словами, я уезжаю в Тифлис с сенатором Ганом. Я отправляюсь без промедления, приблизительно на год. Принести в жертву блестящую карьеру – в этом есть что-то таинственное, сентиментальное и мизантропическое, что мне нравится бесконечно. Вполне уместно для молодого человека, который в течение полугода предавался тяжелому ремеслу светского человека, толкался во всех гостиных и приемных, шаркал по улицам и по паркетам, весьма уместно, говорю я, покинуть сцену большого света и удалиться в страну далекую, восточную, азиатскую..."
Прошел год, Васильчиков в отпуск должен ехать к отцу в их саратовские деревни, прежде чем вернуться в Петербург, но он, приехав в Пятигорск 9 июня, обзаводится медицинскими рекомендациями о необходимости лечения водами. Несомненно его привлекла вольница пятигорской жизни, да еще в обществе членов "кружка шестнадцати" и декабристов. Князь явился перед ними, высокого роста брюнет с длинным и строгим лицом, с могучим голосом, каким рисуют его портрет современники, человека прекрасного сердца и благородной души, но недалекого ума.
– Нашего полку прибыло! – рассмеялся Столыпин.
– Здравствуй, умник! – приветствовал Александра Васильевича Лермонтов, выводя каждого человека, по своему обыкновению, на чистую воду. Князь любил верховодить, в студенческом кружке он был избран старшиной и даже писал правила поведения для "бурсы"; в "кружке шестнадцати" он, верно, не успел развернуться; имея склонность к литературе, он даже писал повести, одна из них называлась "Две любви, две измены". Между тем молодой князь, похоже, не понимал вполне стихов и прозы Лермонтова. "Все мы тогда не сознавали, что такое Лермонтов, – говорил он впоследствии. – Иное дело смотреть ретроспективно". Это верно постольку, поскольку он говорит о себе. Сознание, что такое Лермонтов, утвердилось очень рано, другое дело – его личность многие не воспринимали или не принимали.
У Лермонтова князь Васильчиков познакомился с отставным майором Мартыновым, которого нашел очень похожим на Дантеса, убийцу Пушкина, о чем не удержался сказать, заметив вскоре. что все так или иначе подтрунивают над ним.
– Здесь у нас и Пушкин свой есть, – рассмеялся Глебов.
Так возникла тема, которой Лермонтов стал донимать вполне безобидного красавца в черкесском костюме и с большим кинжалом.
– Мартынов, ты служил в Кавалергардском полку, где и Дантес. Небось, вы были большие друзья?
– Ничего подобного. Я не был даже с ним знаком, – отвечал Мартынов, ибо отмалчиваться еще хуже, он знал.
– Кавалергардов приглашали танцевать в Аничков дворец. Мартынов, и ты танцевал в Аничкове, как Дантес?
– В большой свет я не тянулся, как ты, Мишель. Отстань.
– Мартынов, а что же ты из кавалергардов перевелся в Нижегородский драгунский полк?
– А тебя не переводили, Мишель?
– Мартынов, кавалергарды вступились за Дантеса против Пушкина, убитого на дуэли. А ты как? Признайся, тоже за убийцу поэта подал голос?
– Он не мог не стреляться, коли вызван. Это дело чести.
– Хороша честь – убить первого поэта России.
– Боже мой! Я-то тут причем?
– А ведь барону Геккерну Мартынов мог бы приглянуться, – Лермонтов окинул взором присутствующих.
– Дьявол! – Мартынов, сжимая кинжал, выбежал вон из комнаты, вслед за ним несся громкий хохот его приятелей.
Прошло почти два месяца, прежде чем пришли письма – сразу три – от бабушки; амнистия его не коснулась, вопреки надеждам Елизаветы Алексеевны, чего, впрочем, следовало ожидать после распоряжения выехать из Петербурга в 48 часов.
"Милая бабушка.
Пишу к вам из Пятигорска, куды я опять заехал и где пробуду несколько времени для отдыху...
То, что вы мне пишете о словах графа Клейнмихеля, я полагаю, еще не значит, что мне откажут отставку, если я подам; он только просто не советует, а чего мне здесь еще ждать?
Вы бы хорошенько спросили только, выпустят ли, если я подам.
Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и покойны; целую ваши ручки, прошу вашего благословления и остаюсь покорный внук
М. Лермонтов".
Это последнее письмо поэта к бабушке, последнее письмо внука, дошедшее до Елизаветы Алексеевны.
В это время Лермонтов писал еще одно письмо, в стихах. Приехала в Пятигорск с больной теткой Екатерина Григорьевна Быховец. Лермонтов обрадовался ей как родному лицу. Она с таинственной важностью сказала, что привезла поклон от особы, промелькнувшей на балу в зале Благородного собрания в Москве.
– Поклон? Только поклон?
– Я случайно встретила ее в одном доме, среди гостей. Не будучи знакома с нею, однако я решилась сказать ей, что еду с теткой в Пятигорск и, возможно, увижусь с вами. Она взглянула на меня с заинтересованным вниманием, желая в чем-то удостовериться. Впрочем, и я смотрела на нее также.
– Как? Покажите, – попросил Лермонтов.
Девушка рассмеялась не без коварства:
– Мне хотелось понять, как она к вам относится.
– Вы пристали к ней, как дети: "У Вареньки – родинка! Варенька – уродинка"?! – расхохотался Лермонтов, выказывая ровный ряд зубов, сияющих, как жемчуг.
– У нее в самом деле есть родинка. Неужели это вы ее описали в романе?
– Нет, только ее родинку.
– То-то она убежала от вас.
– Что-нибудь она вам говорила?
– Нет. Но поскольку в ее глазах был вопрос, кто же я по отношению к вам, я сама сказала, что вы – мой правнучатый брат. "Ну я одна из его кузин, в окружении коих он рос, – отвечала она не без коварства в тоне. – Передайте от меня поклон". Это все. И она ушла.
– А как она выглядела?
– На вид здорова, весела, но, кажется, ей скучно в обществе, и она бежит его.
– Превосходно. Она не изменилась. Мне все хотелось знать, читала она "Оправдание" или нет.
– Это стихотворение посвящено ей? А я думала, это всего лишь поэтическая фантазия.
– Не просто посвящено, а обращено к ней. Это как письмо. А в ответ – только поклон.
Лермонтов призадумался, сидя поутру за столом у раскрытого окна. Переписка с Марией Александровной оборвалась, писать к Алексису бесполезно, ленив отвечать, да, кроме вздора, ничего от него не услышишь. Переписка с Краевским – чисто деловая. Боже! Не с кем в целом свете перемолвиться словом, отвести душу?! Что же, отозваться на поклон? Почему бы нет?
Я к вам пишу случайно; право,
Не знаю как и для чего.
Я потерял уж это право.
И что скажу вам? – ничего!
Что помню вас? – но, боже правый,
Вы это знаете давно;
И вам, конечно, все равно.
И знать вам также нету нужды,
Где я? что я? в какой глуши?
Душою мы друг другу чужды,
Да вряд ли есть родство души.
Страницы прошлого читая,
Их по порядку разбирая,
Теперь остынувшим умом,
Разуверяюсь я во всем.
Смешно же сердцем лицемерить
Перед собою столько лет;
Добро б еще морочить свет!
Да и притом, что пользы верить
Тому, чего уж больше нет?..
Безумно ждать любви заочной?
В наш век все чувства лишь на срок;
Но я вас помню – да и точно,
Я вас никак забыть не мог!
Во-первых, потому, что много
И долго, долго вас любил,
Потом страданьем и тревогой
За дни блаженства заплатил;
Потом в раскаянье бесплодном
Влачил я цепь тяжелых лет
И размышлением холодным
Убил последний жизни цвет.
С людьми сближаясь осторожно,
Забыл я шум младых проказ,
Любовь, поэзию, – но вас
Забыть мне было невозможно.
«Уж жарко. И куда меня занесло?» – подумал он, воспроизводя в письме в стихах сражение у речки Валерик, будто вчера все это было, страшная резня, груды тел запрудили ручей, и от крови вода красна, жажда мучит, а пить нельзя.
Окрестный лес, как бы в тумане,
Синел в дыму пороховом.
А там, вдали, грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,
Тянулись горы – и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: "Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?"
«Что я делаю? Зачем?» – подумал он и, точно опомнившись, решил закончить.
Но я боюся вам наскучить,
В забавах света вам смешны
Тревоги дикие войны;
Свой ум вы не привыкли мучить
Тяжелой думой о конце;
На вашем молодом лице
Следов заботы и печали
Не отыскать, и вы едва ли
Вблизи когда-нибудь видали,
Как умирают. Дай вам бог
И не видать: иных тревог
Довольно есть. В самозабвенье
Не лучше ль кончить жизни путь?
И беспробудным сном заснуть
С мечтой о близком пробужденье?
Теперь прощайте: если вас
Мой безыскусственный рассказ
Развеселит, займет хоть малость,
Я буду счастлив. А не так? -
Простите мне его как шалость
И тихо молвите: чудак!..
Сражение при Валерике, событие эпическое, стало воспоминанием, которое странным образом – по внутреннему жару переживаний – смыкается с чувством, владевшим поэтом всю его сознательную жизнь, с его чувством к Вареньке Лопухиной, которую он видит молодой и беззаботной, как в юности. Да она и была молода, 26 лет, а ему – 27. Она по-прежнему присутствовала во всех его мыслях и переживаниях, проникая все глубже в его сердце. Утаенная как бы от всего света любовь все чаще вырывается наружу, и теперь он заговорил о ней вслух, что означало уже действие, так дает о себе знать проснувшийся вулкан.
Или это предчувствие близкой смерти заставило его заговорить вслух о том, чем он жил все годы? О самом заветном в его жизни. Любовь его к Вареньке Лопухиной не стала воспоминанием, а обрела актуальность, как и его призвание поэта, она созрела и осмыслилась, как его душа, и явилось величайшей и единственной ценностью в его жизни. Природа, Бог, жизнь человечества – все вызывало отрицание или сомнение, только любовь, вопреки ненависти, смягчало его сердце и наполняло поэзией все мироздание, любовь – воплощение Вечной женственности на земле. Охваченный предчувствием близкого конца, что ощущал в себе с детских лет, он стоял у истока новых озарений.
4
В Пятигорск приехал Сергей Трубецкой и тотчас появился у Лермонтова.
– Откуда вы, Серж? Из Петербурга? – Лермонтов и Столыпин обрадовались ему, помимо встречи с другом, в ожидании столичных новостей.
– Нет, – покачал головой князь, впадая в задумчивость. – Из Петербурга меня выслали вскоре после вашего отъезда, с фельдъегерем, чтобы я никуда не повернул и нигде не задерживался ни более часа.
– Более опасного преступника в Российской империи, чем вы, по нынешним временам, очевидно, трудно сыскать, – расхохотался Лермонтов.
– Как здоровье? – осведомился Столыпин, предполагая, что Серж приехал на воды.
– Здоров я, слава Богу, как никогда!
– Вот и соскучился в полку?
– Да, конечно. К тому же я узнал, что вы здесь, попросился в отпуск, не дали, приехал на собственный страх и риск. Я успел заметить ряд хорошеньких фигурок, глаз и ножек и точно помолодел на лет десять.
Сергей Трубецкой поселился у князя Васильчикова и постоянно бывал у Лермонтова, с которым они вместе разрисовали целую тетрадь карикатур на Мартынова, бывшего сослуживца князя по Кавалергардскому и Гребенскому казачьему полку, в чем принимал участие и Глебов. Мартынов нередко заставал их за рассматриванием и обсуждением карикатур на него, но от него тотчас прятали – не тетрадь, а отдельные листы, на которые тот мог не на шутку обидеться, хотя приятели уже меньше всего о нем думали, а просто оттачивали свое мастерство на материале, им знакомом до того, что достаточно было одной характерной линии, чтобы обозначилась фигура, то въезжающая на коне в Пятигорск, то расшаркивающаяся перед дамами. Карикатуры приятели превесело, с увлечением, писали не только на отставного майора в черкесском костюме, но на всех участников прогулок, кавалькад и пикников, что потом все рассматривали, смеясь, с веселыми замечаниями. Лишь Мартынов болезненно реагировал, невольно доставляя со всеми своими благими притязаниями богатейший материал для карикатурных зарисовок.
Сергей Трубецкой имел склонность, как Лермонтов, и к музыке, и к живописи, и к поэзии, но преобладающей его страстью были женщины, а поскольку он был красавец, сами женщины ловили его, и он постоянно впутывался во всякие любовные истории. Одну из них, повстречав в Пятигорске ту, в кого он был влюблен, Серж рассказал Лермонтову, который вспомнил свою из юности и даже нашел стихотворение "Прелестнице", написанное им в 18 лет. Слегка обработав его, он дал ему новое название, весьма многозначительное, "Договор" и прочел друзьям:
Пускай толпа клеймит презреньем
Наш неразгаданный союз,
Пускай людским предубежденьем
Ты лишена семейных уз.
Но перед идолами света
Не гну колени я мои;
Как ты, не знаю в нем предмета
Ни сильной злобы, ни любви.
Как ты, кружусь в веселье шумном,
Не отличая никого:
Делюся с умным и безумным,
Живу для сердца своего.
Земного счастья мы не ценим,
Людей привыкли мы ценить;
Себе мы оба не изменим,
А нам не могут изменить.
В толпе друг друга мы узнали,
Сошлись и разойдемся вновь.
Была без радостей любовь,
Разлука будет без печали.
Серж, князь Васильчиков и даже Столыпин приняли это новое-старое стихотворение поэта с живейшим интересом, что нам – при чисто внешнем восприятии – трудно понять. «Договор» был опубликован уже после гибели Лермонтова, когда восприятие лирики поэта была особенно обостренной. Известный критик В.П.Боткин в письме от 22 марта 1842 года писал Белинскому:
"Я знал, что тебе понравится "Договор". В меня он особенно вошел, потому что в этом стихотворении жизнь разоблачена от патриархальности, мистики и авторитетов. Страшная глубина субъективного я, свергшего с себя все субстанциальные вериги. По моему мнению, Лермонтов нигде так не выражался весь, во всей своей духовной личности, как в этом "Договоре". Какое хладнокровное, спокойное презрение всяческой патриархальности, авторитетных, привычных условий, обратившихся в рутину. Титанические силы были в душе этого человека!"
Стихотворение, на которое обычно не обращают внимания в ряду жемчужин поэта, стало для критика откровением, выражением сущности миросозерцания Лермонтова: "Внутренний, существенный пафос его есть отрицание всяческой патриархальности, авторитета, предания, существующих общественных условий и связей... Да, пафос его, как ты совершенно справедливо говоришь, есть "с небом гордая вражда". Другими словами, отрицание духа и миросозерцания, выработанного средними веками, или, еще другими словами – пребывающего общественного устройства. Дух анализа, сомнения и отрицания, составляющих теперь характер современного движения, есть не что иное, как тот диавол, демон – образ, в котором религиозное чувство воплотило различных врагов своей непосредственности. Не правда ли, что особенно важно, что фантазия Лермонтова с любовию лелеяла этот "могучий образ"...
Отсюда ясно, Лермонтов, который не мог быть западником, не стал бы и славянофилом, он нес в себе более глубокое и всеобъемлющее миросозерцание, которое из-за его ранней гибели оказалось недовоплощенным, с тем ренессансные явления русской мысли и искусства неосознанными. Отсюда также ясно, почему Николай I возненавидел Лермонтова, как не любил Пушкина.
В июне 1841 года царь, вероятно, узнав о пребывании Лермонтова в Пятигорске, отдает распоряжение держать его в полку, не позволяя даже ему командовать отдельным отрядом отчаянных смельчаков. Это означало: вместо прощения и отставки, ужесточение режима для ссыльного поэта.
Не ведая о том, автор романа "Герой нашего времени", поэм и стихотвоерний, коими зачитывалась вся Россия, сидел за карточным столом напротив Льва Пушкина; шла игра, но вряд ли серьезная, хотя майор, всегда нуждавшийся в деньгах, не прочь был выиграть у молодых офицеров, он среди них ветеран, все равно, что штабс-капитан Максим Максимыч, дослужившийся до майора и приехавший в Пятигорск для лечения, но не степенный, а такой же подвижный и беспокойный, как Лермонтов, с которым они подружились, как братья по Пушкину, по природному и духовному родству.
– Очарователен кавказский наш Монако! – повторял Лев Пушкин, любивший наизусть читать стихи Пушкина, но кто их не знал, теперь он подхватывал экспромты Лермонтова.
– Дальше, дальше, – князь Трубецкой заинтересовался.
Лев Пушкин с живостью повторил:
Очарователен кавказский наш Монако!
Танцоров, игроков, бретеров в нем толпы;
В нем лихорадят нас вино, игра и драка,
И жгут днем женщины, а по ночам – клопы.
Лермонтов расхохотался, эпиграммы его все повторяли вкривь и вкось, но поправлять уже было бесполезно, всяк нес свои запятые и точки. Однако он отозвался:
В игре, как лев, силен
Наш Пушкин Лев,
Бьет короля бубен,
Бьет даму треф.
Но пусть всех королей
И дам он бьет:
«Ва-банк!» – и туз червей
Мой – банк сорвет!
– И в самом деле? Превосходно, Мишель! Ты в карты играешь или сочиняешь стихи? – Глебов весь сиял в эту минуту, освещенный солнцем в окно.
– Сочиняю стихи? Фи! – улыбнулся Лермонтов, пребывая в благодушном настроении. – Все, как есть! – он присмотрелся к Глебову:
Милый Глебов,
Сродник Фебов,
Улыбнись,
Но на Наде,
Христа ради,
Не женись!
Все расхохотались; Глебов покраснел и важно сказал:
– Я и не думаю жениться вообще.
– Хочешь соблазнять и соблазняться, а жениться не хочешь. А что я говорю: все, как есть.
– Однако, как нынче жарко, – поднялся с дивана Мартынов, поправляя на себе бешмет. В карты по эту пору он не играл, но следил за игрой с неослабным интересом.
– А, и ты хочешь моего внимания, дружище, – поднял на его глаза Лермонтов.
– Велика честь. Однако избавь, – отступил к двери Мартынов.
– Или ты собрался к Мерлини?
– А если и собрался? Я могу быть всюду, где хочу.
– А знаешь, что произошло у твоей генеральши-вдовы? Она повздорила с княгиней, говорят, из-за Пьера, а я думаю, из-за тебя, – и Лермонтов произнес эпиграмму:
С лишком месяц у Мерлини
Разговор велся один:
Что творится у княгини,
Здрав ли верный паладин.
Но с неделю у Мерлини
Перемена – речь не та,
И вкруг имени княгини
Обвилася клевета.
Пьер обедал у Мерлини,
Ездил с ней в Шотландку раз,
Не понравилось княгине,
Вышла ссора за Каррас.
Пьер отрекся... и Мерлини,
Как тигрица, взбешена,
В замке храброй героини,
Как пред штурмом, тишина.
– Лермонтов, это Мерлини, как тигрица, взбешена на тебя! – воскликнул князь Васильчиков.
– Как! Значит, нам, Монго, ожидать штурма?
– Мишель, ты что-то собирался сказать Мартынову, – напомнил Сергей Трубецкой.
– Ах, вот что!
Скинь бешмет свой, друг Мартыш,
Распояшься, сбрось кинжалы,
Вздень броню, возьми бердыш
И блюди нас, как хожалый!
Все расхохотались, и Мартынов тоже, но после, вдумавшись, он нашел, что экспромт Лермонтова – весьма злая эпиграмма. Ведь он советовал ему одеться, как хожалый, то есть как в старину полицейские, взять в руки топор на древке.
Тут в комнату вернулся Столыпин и, распоряжаясь, как хозяин, велел убрать карты и сесть за ужин, что тоже всех обрадовало.
– Закатим пир! – воскликнул князь Трубецкой, который, кажется, любил вино больше, чем женщин, и взглянул на Льва Пушкина, который без вина не мог жить.
– На битву и на пир, кто как, а я, друзья, всегда готов, – Лев Сергеевич отозвался тотчас. – И что ж, весь мир таков!
За ужином Сергей Трубецкой, страстный во всем, пил без удержу, Лев Пушкин, по своему обыкновению, понемножку, не стремясь пьянеть, а поддерживая тонус, необходимый для его природы. Лермонтов не отставал от Сержа, но вино мало на него действовало, чем он весьма гордился. Под конец Серж предложил, чтобы завершить пир со славой, выпить все вино из запасов Лермонтова и Столыпина, Глебова и Мартынова, его и князя Васильчикова.
– Хорошо, – сказал Лермонтов. – Но прежде послушайте!
Смело в пире жизни надо
Пить фиал свой до конца,
Но лишь в битве смерть – награда,
Не под стулом, для бойца.
Все расхохотались и сочли за благо разойтись. Но карты и вино увлекают молодежь, и сборы у Лермонтова продолжались, при этом экспромты поэта становились все острее. Однажды зашел разговор о Мартынове, ведь все замечали, что он, упиваясь своей красотой, не в себе, хотя и весел, но словно в горячке.
– Ну, что же вы хотите, господа, – сказал князь Васильчиков, – ведь он же не Соломон у нас?
Тут вошел Мартынов, по смеху товарищей угадывая, что речь шла о нем. Лермонтов уставился на него и медленно проговорил:
Он прав! Наш друг Мартыш не Соломон,
Но Соломонов сын,
Не мудр, как царь Шалима, но умен,
Умней, чем жидовин.
Тот храм воздвиг и стал известен всем
Гаремом и судом,
А этот храм, и суд, и свой гарем
Несет в себе самом.
– Дьявол! – Мартынов убегает, но, вместо смеха, все замолкают, в самом деле, это удар такой силы, что вынести невозможно.
Однажды после вечера у Верзилиных Лермонтов и князь Трубецкой вышли в ночь, сияла луна; тут показался Васильчиков, возвращавшийся домой от генеральши-вдовы Мерлини, он вслед за Мартыновым стал бывать у нее.
– А вот князь Ксандр! – произнес Серж, называя Васильчикова по кличке, данной ему Лермонтовым.
– Ну, что ныне выдал наш поэт? – князь Васильчиков громко спросил, и его голос гулко разнесся в тишине ночи.
– А вот что! – Лермонтов отреагивал незамедлительно. -
Велик князь Ксандр, и тонок, гибок он,
Как колос молодой,
Луной сребристой ярко освещен,
Но без зерна – пустой.
– Но колос молодой еще созреет, нальется соками и зерном, – отвечал князь Васильчиков не без вызова в голосе.
– А кто сомневается? – расхохотался Лермонтов и отправился восвояси. – Прощайте! Добрых снов.
И снова за карточным столом, когда князь Васильчиков, сделав какую-то оплошность, выругался, Лермонтов взял мел и вывел на зеленом сукне:
Наш князь Василь -
Чиков – по батюшке,
Шеф простофиль,
Глупцов – по дядюшке,
Идя в кадриль
Шутов – по зятюшке,
В речь вводит стиль
Донцов – по матушке.
Князь Васильчиков попытался тотчас все стереть руками и не на шутку обиделся на Лермонтова, который достал всех его родных, людей известных, от отца до дяди, генерал-губернатора Москвы, которого государь в нарушение обычая, без воинских заслуг, сделал светлейшим князем.
Столыпин ужаснулся:
– Мишель, чем ты занимаешься? Нечем занять ум?
– Вот именно!
– Пиши!
– О чем? Да пора нам в отряд, может быть, свист пуль развлечет меня. А пока вот что, – Лермонтов весь встрепенулся, – обойдемся без нашего затейника Голицына, а сами зададим бал для пятигорской публики!
– Сами?
– Молодежь, – так родилась идея бала, подхваченная в самом деле молодежью.