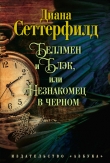Текст книги "Сказки Золотого века"
Автор книги: Петр Киле
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц)
Прошло два года, как Лермонтов с бабушкой уехал в столицу с намерением поступить в Петербургский университет, но здесь он встретился с той же косной силой, что воплощал для него профессор Победоносцев, с холерой в придачу. Зачесть два года пребывания в Московском университете отказались, предложили вновь поступать, при этом замаячила еще одна угроза: ожидали закона о продлении срока учебы в университетах с трех лет до четырех. Это означало – еще четыре года несвободы в стенах учебного заведения, вынести это, как бывает в пылком нетерпении юности, казалось немыслимым.
Этот нежданный удар возбудил в мрачном временами сердце юноши неприязнь к городу, только-только обретшему свой неповторимый вид, благодаря знаменитым ансамблям Карла Росси, который, еще полный сил, хотя и в годах, в это время оказался не у дел, поскольку вкусы и взгляды недавно взошедшего на престол русского царя отдавали почему-то средневековьем и готикой, будто вовсе не было эпохи Возрождения в Европе и века Просвещения, что он воплотил в строительстве своего летнего дворца и церкви – Коттеджа и Готической капеллы в Александрии, отделенной стеной от Петергофа.
Как ни изящны эти строения, это ложная готика, про которую Гоголь в "Арабесках" сказал, что у нее дар все делать ничтожным. Однако это отвечало вкусам и взглядам императора Николая I, который, верно, вырос в мире своего отца, как его старший брат Александр – в мире бабки, и время с восшествием на русский престол рыцаря и наполовину прусского офицера словно обернулось вспять при дворе. Поразительный феномен, отдающий мистикой и мифом, рождающим трагедии.
Лермонтов "рассматривал город по частям и на лодке ездил в море, – как писал в Москву к одной из знакомых барышень, – короче, я ищу впечатлений, каких-нибудь впечатлений!.. Преглупое состояние человека то, когда он принужден занимать себя, чтоб жить, как занимали некогда придворные старых королей, быть своим шутом!.. как после этого не презирать себя; не потерять доверенность, которую имел к душе своей..."
И это пишет юноша восемнадцати лет, впервые приехавший в столицу Российской империи. Ему скучно, мало впечатлений. А, может быть, их избыток, что в юности выносится с трудом как отсутствие тех, какие нужны уму и сердцу.
И далее он писал: "Странная вещь! только месяц тому назад я писал:
Я жить хочу! хочу печали
Любви и счастию назло;
Они мой ум избаловали
И слишком сгладили чело;
Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман:
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
И пришла буря, и прошла буря; и океан замерз, но замерз с поднятыми волнами; храня театральный вид движения и беспокойства, но в самом деле мертвее, чем когда-нибудь".
Лермонтов лишается сна: "... тайное сознание, что я кончу жизнь ничтожным человеком, меня мучит", терзается он.
Между тем, побывав снова на берегу моря, очевидно, в Петергофе, Лермонтов написал стихотворение, которое в России все знают наизусть, и приводит его в письме к Марии Александровне Лопухиной, которая вступила в переписку с юным другом.
"Вот еще стихи, которые сочинил я на берегу моря...
Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом.
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?
Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит;
Увы! – он счастия не ищет
И не от счастия бежит!
Струя под ним светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой;
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
Прощайте, не забудьте напомнить обо мне своему брату и сестрам...
P.S. Мне бы очень хотелось задать вам небольшой вопрос, но не решаюсь написать. Коли догадываетсь – хорошо, я буду доволен; а нет – значит, если бы я и задал вопрос, вы не могли бы на него ответить.
Это такого рода вопрос, какой, быть может, вам и в голову не приходит".
О чем речь? О ком? Мария Александровна догадалась и, видимо, точно. Она отвечала Лермонтову: «Поверьте, я не потеряла способности угадывать ваши мысли, но что мне вам сказать? Она здорова, вид у нее довольно веселый, вообще же ее жизнь столь однообразна, что даже нечего о ней сказать, – сегодня похоже на вчера. Думаю, что вы не очень огорчитесь, узнав, что она ведет такой образ жизни; потому что он охраняет ее от всяких испытаний; но я бы желала для нее немного разнообразия; что это за жизнь для молодой особы, – слоняться из одной комнаты в другую, к чему приведет ее такая жизнь? – она сделается ничтожным созданием, вот и все. Ну и что же? Угадала ли я ваши мысли? То ли это удовольствие, которого вы от меня ожидали?»
И в это время в его жизни произошла решительная перемена, предопределившая его судьбу: он поступил, вместо университета, чтобы не потерять еще четыре года, в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, где учились или поступали ряд его товарищей по Московскому университету и два его двоюродных брата – Алексей Столыпин и Юрьев, это был обычный путь для дворянской молодежи, которая чуждалась гражданской службы, в государстве, где все должны служить, хотя бы чтобы иметь чин, дающий соответствующий статус в обществе. Петербург, в отличие от Москвы, пестрел вицмундирами гражданских и военных должностных лиц, в особенности гвардейских полков, охраняющих трон во главе с императором Николаем I, и все самое блестящее вращалось вокруг него; Лермонтов и не заметил, как едва прибыл он в столицу, попал в водоворот страстей и всех устремлений человеческих, где ему менее, чем кому-либо, хотелось затеряться. Там, где в иерархии чинов, нет места поэту, где Пушкин отличен придворным званием камер-юнкера, вольно или невольно пришлось Лермонтову пойти навстречу судьбе.
Он писал к Марии Александровне: "Я не могу еще представить, какое впечатление произведет на вас моя важная новость: до сих пор я жил для литературной карьеры, столько жертв принес своему неблагодарному кумиру, и вот теперь я – воин. Быть может, это особая воля провидения; быть может, этот путь кратчайший, и если он не ведет меня к моей первой цели, может быть, приведет к последней цели всего существующего: умереть с пулею в груди – это лучше медленной агонии старика. А потому, если начнется война, клянусь вам богом, что всегда буду впереди...
Прощайте же, любезный друг; не говорю до свидания, потому что не надеюсь увидеть вас здесь; а между мною и милою Москвой стоят непреодолимые преграды, и, кажется, судьба с каждым днем усугубляет их. Прощайте, постарайтесь и впредь лениться не больше, чем до сих пор, и я буду доволен вами. Теперь я более, чем когда-либо, буду нуждаться в ваших письмах; они доставят мне величайшую радость в моем будущем заточении; они одни могут связать мое прошлое и мое будущее, которые расходятся в разные стороны, оставляя между собою барьер из двух печальных, тягостных лет...
Несколько дней я был в тревоге, но теперь прошло; все кончено; я жил, я созрел слишком рано, и будущее не принесет мне новых впечатлений...
Он был рожден для счастья, для надежд
И вдохновений мирных! – но безумный
Из детских рано вырвался одежд
И сердце бросил в море жизни шумной;
И мир не пощадил – и бог не спас!"
5
В начале 1834 года из Москвы приехал в Петербург Аким Шан-Гирей для поступления в Артиллерийское училище, уже не дитя, которое приставало к Вареньке Лопухиной: «У Вареньки – родинка! Варенька – уродинка», а отрок, выросший под обаянием восхитительной девушки, чуждой житейской суеты и света. Он остановился, разумеется, у бабушки, хотя Елизавета Алексеевна не была его бабушкой, но он рос у нее, как другие дети даже вовсе не из родственных семей, как Раевский, один из друзей Лермонтова, закончивший юридический факультет Московского университета и теперь служивший в Петербурге в Департаменте военных поселений, – она была всем бабушка, она заботилась о всех, кто составлял круг ее внука.
И недаром, это была женщина чрезвычайно замечательная по уму и любезности, хотя и суровая по характеру из-за бедствий, постигших ее: ее муж, бывший значительно моложе ее и влюбившийся в соседку по имению, покончил с собой; единственная ее дочь, тоже несчастливая в браке, умерла рано, и вся ее нежность перенеслась на внука, воспитанием которого занялась с размахом и свободой, в каких прошла юность Петра Великого, собирая вокруг него в Тарханах, в деревенском уединении, потешных – детей из родственных семей, а для игр и крестьянских детей, а также учителей. И в Москве, и в подмосковном имении Столыпиных, и в Петербурге она собирала вокруг своего внука молодежь, при этом сама проявляла веселость и снисходительность, являясь перед нею, высокая, прямая, слегка опираясь на трость, всегда в черном.
– Мишель! – почти испуганно воскликнул Шан-Гирей, который нашел в нем большую перемену: хотя не стал выше ростом, но раздался в плечах, гибкий и сильный физически, а руки нежные, очень красивые, по-прежнему нехорош собой, с кривыми ногами (правую, ниже колена, он переломил в Школе, в манеже, и ее дурно срастили), но подвижный, как ветер, его черные мягкие волосы так вились, с прядью белокурых, но бросались всегда и всюду лишь глаза его, устремленные на вас с усмешкой всезнания.
– Шан-Гирей! И ты хочешь стать воином? – рассмеялся Лермонтов, при этом дома в легкой обуви как будто прихрамывая.
– Что с тобой? – не удержался от вопроса Шан-Гирей, все еще выказывая свой юный возраст.
И он, возможно, услышал рассказ бабушки или одного из друзей Лермонтова, о том, что случилось, вообще об его пребывании в Школе, как о том впоследствии поведал Александр Меринский, его товарищ по Школе: "Сильный душой, он был силен и физически и часто любил выказывать свою силу. Раз после езды в манеже, будучи еще, по школьному выражению, новичком, подстрекаемый старыми юнкерами, он, чтоб показать свое знание в езде, силу и смелость, сел на молодую лошадь, еще не выезженную, которая начала беситься и вертеться около других лошадей, находившихся в манеже. Одна из них ударила Лермонтова в ногу и расшибла ему ее до кости. Его без чувств вынесли из манежа. Он проболел более двух месяцев, находясь в доме у своей бабушки Е. А. Арсеньевой, которая любила его до обожания. Добрая старушка, как она тогда была огорчена и сколько впоследствии перестрадала за нашего поэта. Все юнкера, его товарищи, знали ее, все ее уважали и любили. Во всех она принимала участие, и многие из нас часто бывали обязаны ее ловкому ходатайству перед строгим начальством. Живя каждое лето в Петергофе, близ кадетского лагеря, в котором в это время обыкновенно стояли юнкера, она особенно бывала в страхе за своего внука, когда эскадрон наш отправлялся на конные ученья. Мы должны были проходить мимо ее дачи и всегда видели, как почтенная старушка, стоя у окна, издали крестила своего внука и продолжала крестить всех нас, пока длинною вереницею не пройдет перед ее домом весь эскадрон и не скроется из виду".
А вскоре мимо ее дома проносилась блестящая кавалькада во главе с государем императором, который всегда сам командовал на смотрах и ученьях, но этим дело не кончалось. Придворные коляски с императрицей впереди следовали на ученья, поскольку это были игры, любимые игры Николая I, увлекательное зрелище для императрицы и дам высшего света.
Шан-Гирей привез Лермонтову поклон от Вареньки. Он ожидал, что Мишель прежде всего справится у него о ней; Варенька только с ним и говорила о Лермонтове, не имея от него вестей, кроме косвенных, от сестры или Сашеньки Верещагиной, с которыми Мишель переписывался, но и к ним писал редко.
– Что он пишет? – бывало, спросит Варенька у Марии Александровны. Сестра лишь рассмеется и никогда не покажет письма, потому что он, кроме обычных любезностей, нет-нет впадал в тон исповеди, которая звучала весьма странно: "С тех пор как я не писал к вам, так много произошло во мне, так много странного, что, право, не знаю, каким путем идти мне, путем порока или глупости. Правда, оба они часто приводят к той же цели. Знаю, что вы станете меня увещевать, постараетесь утешить, – это было бы напрасно!" Далее следовало...
– "Я счастливее, чем когда-либо, веселее любого пьяницы, распевающего на улице!"
– Что это значит?
– "Вас коробит от этих выражений; но увы! Скажи, с кем ты водишься, и я скажу, кто ты!"
Он писал: "Моя жизнь до сих пор была цепью разочарований, теперь они смешны мне, я смеюсь над собою и над другими. Я только отведал всех удовольствий жизни и, не насладившись ими, пресытился". Что было тут сказать? Во всяком случае, Мария Александровна была рада, отдавая должное такту Лермонтова, что он не затеял переписку с Варенькой. Она в самом деле казалась довольной своей жизнью, тихой и несуетной, как в монастыре. Но мысль работала. Известие, что Мишель, вместо Петербургского университета, поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков повергло ее в смятенье, главным образом, потому что это означало нескорую встречу. Студент всегда мог приехать в Москву, тем более на лето, но юнкер – нет, а станет офицером, неизвестно, где его полк будет стоять. И зачем вообще, обладая поэтическим даром, выбрав с детских лет литературное поприще, весь в замыслах драм и поэм, идти в гусары, добро бы еще шла война? Непредсказуемость настроений и поведения – она это знала в нем, но выбрать военную карьеру, когда обладаешь волшебным даром?! Прельстила форма, которая кружит головы дамам? Какой чудак!
Это было похоже на сон, но сон все длился, лишь времена года вносили в ее жизнь перемены.
Прощаясь, Варенька Лопухина и Шан-Гирей думали о Лермонтове.
– Отчего Мишель не пишет вам?
– Не знаю.
– А вы отчего?
– Я не умею писать, – вздохнув, улыбнулась Варенька с неуловимым телодвижением, исполненным очарования и прелести.
– Вы умны, много читаете, и вы не умеете писать? Неправда.
– Я ленива, ты же знаешь. Мне так покойнее, – и после неуловимых телодвижений, похожих на полет, – и для него, верно, тоже.
– Вы любите его? – предстоящая разлука позволяла ему прямо задать ей этот вопрос, по его разумению.
– Об этом только он может спросить, если захочет, – вспыхнула она, и глаза ее увлажнились.
– Что мне сказать ему?
– Если он спросит обо мне? Он не спросит.
– Почему?! – казалось, Шан-Гирей один страдал из-за них обоих.
Варвара Александровна рассмеялась, а глаза ее были влажны, и протянула руку:
– Поклонись ему от меня; скажи, что я покойна, довольна, даже счастлива.
Шан-Гирей, улучив время, когда с Мишелем они остались одни в его комнате, с важным видом передал ему поклон от Вареньки, он буквально поклонился со значением.
– Что такое, Шан-Гирей?
– Варвара Александровна сказала мне: "Поклонись ему от меня; скажи, что я покойна, довольна, даже счастлива".
Лермонтов не изменился в лице, даже не расхохотался, всегда замечая смешную сторону даже в самом серьезном деле, ни словом не обмолвился о Вареньке, а предложил сыграть в шахматы.
–Как! Это все? Ни привета, ни ответа? – взволнованно воскликнул Шан-Гирей.
– Ты еще ребенок, ничего не понимаешь, – улыбнулся Лермонтов.
– А ты хоть и много понимаешь, – обиделся и рассердился Шан-Гирей, – да не стоишь ее мизинца! – он выбежал из комнаты.
Лермонтов, расхохотавшись, побежал за ним.
Но как мог воспринять Лермонтов слова Вареньки? Как охлаждение – после смятения и уныния? Он ожидал окончания Школы и производства в офицеры для жизни и решений, и этот срок наступил к концу 1834 года. Это было знаменательное событие для внука и бабушки. Елизавета Алексеевна, едва Мишенька надел мундир лейб-гвардии Гусарского полка, заказала художнику его портрет, который с тех пор висел на ее половине.
ГЛАВА II
Прежнее увлечение. Замужество Вареньки Лопухиной. Предсказание гадалки.
1Найдя себе замену, Лермонтов ускакал в Петербург, где собственно жил, у бабушки, имея квартиру, впрочем, и в Царском Селе, которую занимал вместе с двумя Столыпинами. Предчувствие радости с воспоминаниями о былом, уже промелькнуло было при недавней встрече с Екатериной Александровной Сушковой на одном из петербургских балов, кои он начал посещать новоиспеченным гусарским офицером. Пять лет тому назад, он был в нее влюблен, но она, будучи куда старше его, лишь посмеялась над ним. Он тогда же расчелся с нею, но она этого не поняла. Был случай с нищим у церкви в Троицкой Лавре, куда молодежь предприняла паломничество.
У врат обители святой
Стоял просящий подаянья.
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.
Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.
Так я молил твоей любви
Слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!
Он увидел ее на лестнице, увешанной зеркалами и убранной цветами, откуда прямо входили в танцевальную залу. Она была в белом платье, вышитом пунцовыми звездочками, и с пунцовыми гвоздиками в волосах, коими всегда щеголяла и гордилась, не скрывая своего восхищения. Пять лет, пока они не виделись, танцуя на всех балах то в Петербурге, то в Москве, так и не выйдя замуж, Екатерина Александровна обрела лоск матроны, особенно рядом с младшей сестрой Лизой. Лермонтову она обрадовалась потому, что надеялась услышать о Лопухине, а то, что он слегка повзрослел, не прибавив в росте, и предстал перед нею в гусарском мундире, ее лишь забавляло. Лермонтов пригласил ее на мазурку, чтобы переговорить с нею о том о сем, разузнать об ее видах на Алексея Лопухина, который, как до него дошло, собирался приехать в Петербург свататься, между тем как Мария Александровна не была в восторге от м-ль Сушковой.
Раздалась мазурка; едва они уселись, как Лермонтов спросил, прямо глядя в ее глаза:
– Знаете ли, на днях сюда приедет Лопухин?
Взглядывая в сторону, точно новость интересна только для него, а не для нее, Екатерина Александровна, помедлив, проговорила, не отвечая прямо на вопрос:
– Так вы скоро его ждете?
"Она хитрит со мной", – решил Лермонтов и рассмеялся, предвкушая так или иначе вывести ее на чистую воду. Она и сейчас нравилась ему, как некогда, но отдаленным сходством молодой женщины с ее юным и свежим обликом.
– А вы его не ждете?
Екатерина Александровна снова не ответила прямо, хотя легко могла догадаться, что он осведомлен о предстоящем сватовстве, – или всякие слухи о том для нее нежелательны по неясным причинам? Во всяком случае, о любви с ее стороны речи нет, Лермонтов это понял сразу. На чаше весов – пять тысяч душ? И судьба его друга и его милых сестер?!
Разговор был прерван, а вскоре выяснилось, что у дяди Екатерины Александровны, у кого она с сестрой жила, завтра бал, а дом ее дяди находился рядом с домом, где жил у бабушки Лермонтов. Пригласить его она не могла, но сказала о предстоящем бале, явно надеясь на находчивость молодого офицера. Лермонтов явился без приглашения, и Екатерина Александровна легко нашла выход из положения, объявив, что корнета пригласил ее брат, они вместе учились некогда в Университетском пансионе, к тому же он сосед, внук всем известной Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, урожденной Столыпиной.
За мазуркой Лермонтов снова заговорил о Лопухине.
– О, я всегда буду рада с ним встретиться, – заявила наконец прямо Екатерина Александровна. – Он чистосердечен и мил.
– И очень богат.
– Мне кажется, тот, о ком мы говорим, имеет все, чтобы быть истинно любимым и без его богатства; он так добр, так внимателен, так бескорыстен, что в любви и в дружбе можно положиться на него.
– Прекрасно! В дружбе – я это знаю, а в любви? Весь вопрос в том, есть ли она. Нельзя положиться на то, чего нет, не существует ни в материальном, ни в духовном мире.
– Это он вам сказал?
– Мы с ним еще не виделись после двух лет разлуки, а писать он ленив. Это вы мне сказали, – Лермонтов пристально взглянул в ее глаза, даже слегка любуясь ее зрелой красотой.
– Что?
– Вы же его не ждете, московского провинциала, кого даже не пустят на те балы, где вы танцуете и будете танцевать со мной, – и молодой гусар громко расхохотался, чуть забывшись, где находится. Вообще ему было весело, ибо в свете он снова оказался среди женщин, а мужчин он не замечал.
– Я буду рада с ним встретиться и уж у нас-то он будет принят без всяких военных хитростей, – слегка усмехнулась Екатерина Александровна.
– Да я знал и прежде, что вы в Москве очень благоволили к нему, а он-то совсем растаял; я знаю все, помните ли вы Нескучное, превратившееся без вас в Скучное, букет из незабудок, страстные стихи в альбоме? Да, я все тогда же знал и теперь знаю, с какими надеждами он сюда едет.
– Откуда вы все знаете? Впрочем, все это пустяки! И с вами это было, – ей стало досадно, зачем Лопухин поставил ее в фальшивое положение перед Лермонтовым, разболтав ему все эти пустяки и их планы на будущее.
– Мы друзья, и у него нет от меня ни одной скрытой мысли, ни одного задушевного желания.
Екатерина Александровна не подозревала, что сама поставила себя в фальшивое положение, играя в одну и ту же игру с Лопухиным, а сейчас с Лермонтовым, зная в то же время, что друзья осведомлены о надеждах и помыслах друг друга.
Между тем танцы кончились и в ожидании ужина весьма важный чиновник и веселый человек, певец и композитор Лукьянов, лицейский товарищ Пушкина и Дельвига, подсел к роялю и запел романс Михаила Глинки на стихи Дельвига "Что, красотка молодая...", а затем романс Алябьева на стихи Пушкина:
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.
Екатерине Александровне казалось, что это дивное стихотворение должно как нельзя лучше соответствовать настроению Лермонтова, который был в нее влюблен, а ныне ропщет, что она, возможно, выйдет замуж за Лопухина. Она взглянула на него вопросительно, однако услышала совсем неожиданное, даже без всякого почтения к Пушкину, своему кумиру наравне с Байроном.
– Естественно ли желать счастия любимой женщине, да еще с другим? – возмутился Лермонтов. – Нет, пусть она будет несчастлива; я так понимаю любовь, что предпочел бы ее любовь – ее счастию; несчастлива через меня, это бы связало ее навек со мною!
– Что?
– А все-таки жаль, что не я написал эти стихи, только я бы их немного изменил, – с грустью добавил Лермонтов и собрался уходить, не желая напрашиваться еще и на ужин.
Однако на следующий день, когда барышни отдыхали от балов в два вечера кряду, в неглиже, еще полусонные, усталые, в большой приемной, где сидела за картами тетушка, раздались шум сабли и шпор.
– Лермонтов! – воскликнула Лиза.
– Что за вздор, – проговорила старшая сестра, – с какой стати?
Тетушка не только приняла Лермонтова весьма любезно, даже допустила одного в комнату племянниц, не видя в нем жениха, за которым надо следить. Барышни удивились и вполне проснулись. Лермонтов рассмешил их разными рассказами, а затем предложил гадать в карты, наговорил всякой всячины, как вдруг все свернул. Лиза куда-то вышла из комнаты.
– Но по руке я еще лучше гадаю, – сказал он, – дайте мне вашу руку, и увидите.
Екатерина Александровна протянула руку, и он серьезно и внимательно стал рассматривать все черты на ладони, но молчал, как впоследствии писала она в своих воспоминаниях, не очень достоверных, хотя бы потому, что многие стихотворения поэта, написанные позже, она приводит как посвященные ей.
" – Ну что же? – спросила я.
– Эта рука обещает много счастия тому, кто будет ею обладать и целовать ее, и потому я первый воспользуюсь. – Тут он с жаром поцеловал и пожал ее.
Я выдернула руку, сконфузилась, раскраснелась и убежала в другую комнату. Что это был за поцелуй! Если я проживу и сто лет, то и тогда я не позабуду его; лишь только я теперь подумаю о нем, то кажется, так и чувствую прикосновение его жарких губ; это воспоминание и теперь еще волнует меня, но в ту самую минуту со мной сделался мгновенный, непостижимый переворот; сердце забилось, кровь так и переливалась с быстротой, я чувствовала трепетание всякой жилки, душа ликовала. Но вместе с тем, мне досадно было на Мишеля: я так была проникнута моими обязанностями к Лопухину, что считала и этот невинный поцелуй изменой с моей стороны и вероломством с его.
Я была серьезна, задумчива, рассеянна в продолжение всего вечера, но непомерно счастлива!"
Вместе с тем она все-таки ожидала приезда Лопухина, готовая выйти за него замуж без сильной любви, но с уверенностью, что будет с ним счастлива, как прямо наконец заявила на балу у адмирала Шишкова, каковой почитал себя патриархом российской словесности. Лермонтов танцевал с нею, все более впадая в грусть; он достиг своей цели, прояснил положение вещей и теперь надо было подумать о развязке.
Увидевшись с Алексисом, толстым и румяным, всегда серьезным и степенным, Лермонтов решил и того вывести на чистую воду. Предавшись воспоминаниям о юношеских шалостях, они принялись хохотать и без всякой причины.
– Алексис! Говорят, ты приехал свататься?
– Ха-ха-ха! – Лопухин не отрицал и не подтвержал, но, заразившись настроением друга, лишь хохотал.
– Не могу утверждать, что тебя уж очень ожидают. Может быть, просто не в курсе относительно твоих намерений?
– Ха-ха-ха! Я сам не уверен относительно моих намерений!
– Сохрани боже! – воскликнул Лермонтов посреди хохота. – Эта женщина – летучая мышь, крылья которой зацепляются за все встречное.
– Да, особенно если она распустит свои пышные волосы, – смех заразителен, Алексис расхохотался еще пуще.
– Было время, когда она мне нравилась...
– Как же! Как же! Я помню! Мишель, как ты страдал! Ха-ха-ха!
– Теперь она почти принуждает меня ухаживать за нею...
– Это я знаю по себе, – хохот друзей, точно вернувшихся в детство, продолжался.
– Но, не знаю, есть что-то такое в ее манерах, в ее голосе грубое, отрывистое, надломленное, что отталкивает; стараясь ей нравиться, находишь удовольствие компроментировать ее, видеть, что она запутывается в собственных сетях.
– Как! Она принялась за тебя, Мишель?! – Лопухин заморгал. – Отвергнув тебя в студенческой куртке, нашла завлекательным в гусарском мундире? О, женщины!
– Мы с тобой соперники, друг мой! Я поклялся m-lle Catherine вызвать тебя на дуэль, если она отдаст предпочтение тебе.
– И она поверила?
Хохот друзей усилился до предела.
Лермонтов не отправился с Лопухиным к Сушковой, как поступили бы друзья, если бы молодая женщина не проявляла притязаний на каждого из них, с визитами являлись они в разное время; едва выходил один, входил другой; дядя и тетушка принимали Лопухина как возможного и желанного жениха, при этом не спускали с них глаз; на Лермонтова не обращали внимания, какой это жених рядом с Лопухиным? Он прибегал, как сосед, приносил книги, болтал с барышнями в их комнате.
Лопухин не имел доступа в дома, где на балах встречались и танцевали Екатерина Александровна и Лермонтов; ему позволялось лишь посмотреть на разодетую для бала девушку перед ее выездом из дома. Лопухин, полагая, что его друг лишь развлекается своим молодечеством гусара, а сердце Катрин принадлежит ему, попросил у нее позволения переговорить с ее родными, ради чего и приехал.
– Могу ли я объясниться с вашими родными? – спросил он
– Ради бога, подождите, – сказала она с живостью.
– Зачем же ждать, если вы согласны? – удивился он.
– Все лучше.
Как лучше? Отчего лучше? И ревность закралась в его сердце.
– С кем вы танцевали на балу у генерал-губернатора? – спросил Лопухин на другой день, как провожал ее, разряженную, до саней.
– С кем? С Лермонтовым, – отвечала рассеянно Екатерина Александровна.
– Не может быть.
– Отчего же?
– Я сидел допоздна у него, он лежал в постели больной.
– Значит, к мазурке выздоровел и явился на бал, как обещал.
Лопухин, серьезный и степенный, начал терять терпение, но и Екатерина Александровна – с ним, по сути, заблудившись в двух соснах. Она даже обрадовалась, когда он уехал в Москву, так и не объяснившись. Но тут ее ожидало нечто непостижимое. В присутствии ее дяди и тети принесли письмо, написанное явно рукой Лермонтова, но с клеветой на него, мол, он такой-то, лишь погубит ее. Они бы и не догадались, о чем и о ком речь, если бы не Лиза. Она думала, что письмо лишь заставит Лермонтова объясниться, – а ему отказали от дома. Екатерина Александровна была в полном недоумении и смятеньи. Зачем она не привечала Лопухина, зная, что он приехал свататься, а всецело отвлеклась на Лермонтова, который и мал ростом, и некрасив, и небогат, с умом, полным сарказма? Это было какое-то наваждение.
Теперь она уверила себя, что любит его, и он ее любит; она все ощущала его поцелуй в ладонь. Ничего подобного она не испытывала с Лопухиным, хотя ведь, бывало, он целовал ей руку. Страсть – сила, которой покоряешься, и это счастье. Это любовь, родные не могут запретить ей любить и быть любимой. В конце концов, нельзя же разом терять двух женихов!
На балу у госпожи К., где они с Лермонтовым встретились впервые в Петербурге, Екатерина Александровна искала глазами его, полагая, не принятый у нее дома, он бросится к ней. Нигде его не было. Вынужденная танцевать – не с ним, Екатерина Александровна невольно оглядывалась. Лермонтов вошел в ярко освещенную залу и прошел мимо нее. Он был весел и разговорчив с другой, ее соперницей, тоже влюбленной в него. Невысокого роста, широкоплечий, он не был красив, но почему-то внимание каждого, и не знающего, кто он, невольно на нем останавливалось, а взгляд его прямо зачаровывал, конечно, женщин, и она это знала теперь по себе.
Екатерина Александровна не хотела верить своим глазам и подумала, что он просто проглядел ее. Кончив танцевать, она села на самое видное место и стала пожирать его глазами. Вдруг глаза их встретились, она улыбнулась, – он отворотился. Это уже было слишком. Точно аноним оклеветал не его, а ее. Стараясь сохранить беспечно-равнодушный вид, Екатерина Александровна направилась в уборную, за нею тотчас последовали ее бальные приятельницы. Лермонтов все это заметил, задумался, хотел уйти и остался.
В мазурке приятельницы Екатерины Александровны беспрестанно подводили к ней Лермонтова.
– Вы несправедливы и жестоки, – сказала она ему.
– Я теперь такой же, как был всегда, – холодно отвечал Лермонтов.
– Неужели вы сомневаетесь в моей любви?
– Благодарю за такую любовь!
Он довел ее до места и, кланяясь, шепнул ей: "Но лишний пленник вам дороже!"
Прошло несколько вечеров, Екатерина Александровна всюду являлась, где могла повстречать Лермонтова, танцевала нехотя, с нетерпением и страхом ожидая его увидеть. Ей казалось, она готова встать на колени перед ним, лишь бы он ласково взглянул на нее. Наконец выпал удобный случай. И роковой.