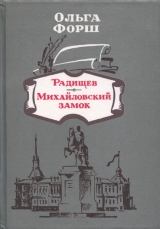
Текст книги "Радищев"
Автор книги: Ольга Форш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц)
Служки выкрикивали:
– Риноцероса, который есть не кто иной, как Бегемот из книги Иова, можно смотреть ежедневно. Особы высокого ранга за посмотрение платят потом, по желанию, все же прочие – плату вперед!
Тут же, поблизости носорога, находилась площадка с уродами и площадка с калеками-инвалидами Семилетней войны. Обнажая обрубки своих ног и рук, инвалиды прирабатывали себе на табачок.
Здесь, глубоко задумавшись, стоял Радищев, потерявший в ярмарочной толкотне своего спутника Мишу Ушакова.
На площадке уродов всех больше зарабатывал один безносый. Он за грош вставлял себе в дырку носа свистульку и высвистывал превесело:
Прочие уроды безносому завидовали.
Радищева тронул за руку немолодой уже человек в коротком фартуке, какой носили ремесленные подмастерья, и сказал:
– Герр Александр, что же вы к нам так давно не заходите?
– Близкий друг мой умирает, и свободное время я при нем. – Радищев крепко пожал протянутую руку и, указывая на площадку с инвалидами, промолвил: – Вот смотрю и прикидываю невольно в уме – сколько судьбе нужно было им подобных, не считая оставленных на полях боя, чтобы вашему Фридриху выкроить титул «Великого»?
Соответственно Радищеву оказались настроенными и прочие подмастерья, которые сейчас же прихлынули всем цехом к площадке с инвалидами. Разглядывая увечных воинов, даже те, что сейчас только гоготали над свистулькой безносого, мрачно притихли.
Злой голос из гущи сказал:
– Что ж, камераден, побеждать, выходит, нехитрое дело, если не бояться из человека сделать обрубок…
– Да в придачу казны и страны не жалеть!
Недавно заключенный мир еще не успел ослабить ненависть Саксонии к Пруссии. Бремя войны тяжко пало на Лейпциг, и Фридрих симпатии здесь не вызывал.
Подмастерья были выразителями скрытого общественного мнения. Вообще они были тут самый свободомыслящий народ. Благодаря кочевому образу своих занятий они побывали во Франции и впитали в себя энциклопедистов отважнее, нежели студенты, обезвреженные бюргерством, скованные традициями своих коллегий.
Знакомый Радищева сказал ему:
– Приходите же скорее: один из наших только что вернулся из Петербурга – он расскажет вам новости. Главное, он расскажет правдивые новости, не те, которые вы можете услышать от ваших проезжих вельмож. Кстати, герр Александр, я забегал сейчас к вам и занес в вашу комнату один последний русский журнал…
– Вот это удружил, дорогой Шихте! На днях буду у вас… Обязательно…
– Эй, Шихте, не отставай от цеха! – И двое подмастерьев ухватили знакомца Радищева под руки. – По уговору, всем цехом сейчас прямо в Голис…
Только подмастерья ушли, как привалили к площадке инвалидов студенты с Беришем во главе. Студенты воздали щедрую лепту безносому свистуну и уже поспели рядом в будочке перехватить. Бериш, окинув ястребиным глазом инвалидов и калек, превратил неожиданно всех жертв Семилетней войны в подсобный назидательный материал:
– Друзья мои!.. Я не могу пропустить столь наглядный пример для торжества теории Лессинга «о границах прекрасного». Иллюстрация – перед вами.
Бериш кивнул в сторону калек. В своих праздничных костюмах они еще страшнее были под ярким солнцем. Ярче обнаруживались все разновидности обнаженных ими культей, багровых рубцов, гноящихся, незаживающих ран, ударами сабель изувеченных лиц.
– Живопись и поэзия находятся в неодинаковых условиях при изображении безобразного, – цитировал Лессинга Бериш. – В живописи отвратительное даже при художественном изображении не может перейти в прекрасное. Между тем в поэзии безобразие форм почти теряет свое неприятное действие, потому что части его передаются не в совокупности, а в преемственности времени. Иной отвратительный пример может даже усилить смех. Ну разве не великолепен Аристофан: между тем как Сократ, рот разиня, наблюдал луну, ящерица с кровли напакостила ему прямо в глотку…
Студенты хохотали, к полному недоумению инвалидов и калек. Радищев, стоявший сзади Бериша, не вытерпел и с гневом сказал:
– Стыдитесь! Только что подмастерья, менее образованные, чем вы, себя вели здесь гораздо достойнее. Они громили виновников подобных увечий…
Бериш иронически прищурился и, даже не ища глазами того, кто ему бросил упрек, ответил:
– Угадываю энтузиаста и поклонника ансиклопедистов! И, конечно, вы правы: ваши подмастерья негодовали именно потому, что они мало образованны и не знают, что уничтожение всех видов насилия еще вовсе не значит уничтожение самогонасилия. Его причина бессмертна, ибо соотношение сил…
Ярмарочная толпа с такой жадностью и столь внезапно кинулась к самому помосту носорога, что сбила студентов с ног. Произошла свалка. Бериш крикнул: «Sauve qui peut!» [29]29
Спасайся кто может! (фр.).
[Закрыть] – и, держа за руку своего античного спутника и размахивая тростью, бросился вон из толпы.
Неожиданный напор произошел по той причине, что служка с хвостом на красной куртке, появившись на эстраде, возгласил:
– Предлагается всем, кто ищет себе необыкновенное исцеление от вундертира, вносить в кружку по гульдену!
Служка над головой ярмарочного люда поднял кружку-копилку и пригласил входить поочередно по лесенке вверх, на эстраду. Под свист и проклятия непопавших взошедшие счастливцы бросали в кружку свои гульдены и становились вокруг клетищи носорога наподобие почетной стражи.
Возвещенный трубой, вышел торжественно сам хозяин зверя. Он был в мантии алхимика, в островерхой шапке, украшенной знаками зодиака, весь расшитый золотом. В темной по смыслу речи он расхвастался, что знает язык птичий и звериный и все целительные свойства трав и камней.
– По мановению моего магического кадуцея, – он поднял над головой жезл, – этот Риноцерос, который есть Бегемот книги Иова, соберет на кончик своего хвоста великую целебную силу всего животного царства. Прикосновение к этой силе способно восстановить самые истощенные организмы. Да будет вам известно, – кричал маг, – что ногти и волосы содержат в себе особый жизненный флюид. Это и есть причина, почему именно ногти и волосы употребляются колдунами в целях приворота или порчи человека. Итак, я начинаю.
Алхимик хлопнул в ладоши. Тотчас служки, став по обе стороны зверя, защелкали бичами. Из кучи сена неохотно выбрался разоспавшийся носорог.
Пошатываясь на коротких ногах, облаченных в твердые панцирные штаны, он прошелся по клетке.
Носорог остановился, поглядел на публику маленькими красными глазками и зевнул изо всех сил, обнаруживая громадную пасть, бело-розовую и нежную, как пасхальный окорок.
Восторгам толпы не было предела. Алхимик, с огромными ножницами в руках, подошел к самому краю эстрады. Служки поставили рядом с ним столик. На столике лежала стопочка каких-то бумаг. В руках у служек было длинное полотенце и чаша с водой.
Алхимик, сверкнув ножницами на солнце, погрузил их в чашу, вытер полотенцем и стал чертить, обращаясь на все четыре стороны света, каббалистические воздушные знаки.
– Сейчас вы услышите заклятие «четырех стихий» – воздуха, земли, огня и воды. После заклятий к вашим способностям может приложиться зоркость орла, бессмертие саламандры, величие льва…
– Вы забыли еще про глупость осла! – крикнул голос из толпы.
С эстрады понеслась ругань, и даже алхимик на миг утратил свою важность, снизойдя до перебранки:
– Пусть глупость осла останется при вас.
– Получайте обратно, – полетело как мяч.
– Прошу внимания!.. Я одних духов заклинать буду по-латыни, других духов – по-ассиро-вавилонски. После заклятия я остригу намагниченный кончик хвоста вундертира вот этими ножницами. Необходимо соблюдать строгий черед. Волоски будут розданы всем, давшим свой талер. В придачу безвозмездно дана будет инструкция дальнейшего курса лечения.
Алхимик поднял стопу бумажек, положил их обратно и, щелкая ножницами, натряс на них магнию. Потом он высоко воздел руки и, кланяясь на все стороны, завопил:
Fluat udor…
Maneat terra…
Fiat firmamentum…
Fiat Judicium per ignem in virtute Michaeli. [30]30
Да течет вода…
Да пребудет земля…
Да пребудет небосвод…
Да свершится правосудие огнем во славу Михаила (лат.).
[Закрыть]
Однако хозяину носорога перейти на ассиро-вавилонский язык не пришлось. Внезапно на эстраде откуда-то вырос скромный пожилой человек в темном костюме аптекаря или врача. Он не спеша подошел к алхимику и что-то сказал ему. Говоря, он невысоко поднял правую руку с большим темным кольцом. Потом, к изумлению раскрывших рот служек, он легким движением руки взял намагниченные магом бумажки и скрылся в толпе.
Алхимик необыкновенно смутился. Он даже снял островерхий колпак с зодиаком и чуточку постоял совершенно лысым дураком. Однако все-таки спохватился, насадил обратно колпак, воздел обе руки, возопил:
– Созвездия неблагоприятны! Сегодня в толпе были люди с нечистыми эманациями. Благодаря им духи воздуха способны навеять дыхание чумы от погибшего в песках каравана. Исцелений на сегодняшний день не последует.
– А наши денежки, выходит, плакали?!
– Давай гульдены!
– Друзья мои, – крикнул алхимик, – ваши деньги здесь будут в полной сохранности, покуда созвездие Рака…
– Не надо нам рака… подавай назад одни гульдены!
Алхимик передал служкам обратно копилку и поспешно исчез под крики, улюлюканье, хохот и свист.
Радищев успел с изумлением заметить у самого помоста своего друга Кутузова, бледного от волнения. Он хотел было к нему ринуться и пробовал окликать, но тщетно. Кутузов ничего не слыхал. Вдруг он кинулся, разбрасывая людей, вслед аптекарю в черном кафтане.
Радищев наконец тихо выбрался из толпы и вздохнул свободно, когда попал в чудесную липовую аллею, обегавшую вокруг всего города.
Навстречу ему попадались запоздалые пожилые горожане, старомодные и надутые бюргерши. Они, из опасения уронить себя преждевременным поклоном кому-либо низшему по рангу, церемонно держали головы кверху на деревянных, негнущихся шеях.
Студенты увивались вокруг жеманниц в белых платьях, вынутых из сундуков после прошлогодней конфирмации. Щеголи модно вздыхали, неся букеты вслед модницам в зеленых шляпках, с глубокими вырезами шелковых платьев.
На ярмарку проехал на своем всем известном гнедом мерине, подарке самого курфюрста, знаменитый профессор и баснописец Геллерт. Студенты, модницы и жеманницы ему кланялись прелюбезно и делали книксены. Геллерт, доехав до ярмарки, спешился, дал слуге держать мерина под уздцы, а сам пошел к носорогу.
Было время его обеда, и вундертир жадно чавкал из огромнейшей миски сырой картофель и свеклу. Вундертир коротким хвостом с пресловутой кисточкой-талисманом на конце простодушно работал, как маятником, выражая свое удовольствие, и порою похрюкивал.
Геллерт с возвышенной улыбкой на тонком, полном высоких моральных достоинств лице обошел клетищу зверя. Первая строфа его знаменитого стихотворения, написанного именно по случаю этого первого привезенного в Лейпциг носорога, возникла в трудолюбивой его голове. Стихотворение о том, как он «вышел из дома и встретил зверя», суждено было долгие годы заучивать школьникам решительно всех стран мира:
Глава вторая
Радищев шел по липовой аллее, глубоко погруженный в себя. Его не на шутку беспокоил избегавший серьезного разговора Кутузов, заботил шалопай Миша, у которого, слышно, какие-то пошли амуры с гулящей Лизхен. И раздражал этот «серый дьявол», спутник Антиноя.
Прямо-таки непереносен был Бериш. Своими замашками, высокомерием он вызывал в памяти неприятные годы, когда в качестве пажа приходилось дежурить во дворце.
Бывало, стояли как статуи за спиной важных придворных гостей. Офранцуженные кавалеры, сверкая бриллиантами, кружили головки фрейлинам модными комплиментами. Через плечи, как лакеям, делали пажам знак менять тарелки, цедить в бокалы венгерское. Сияла победной синевой глаз царица, обнадеживая робких ласкательной речью. Впрочем, в постановление церемониймейстера, по которому неловких пажей секли, царица не вмешивалась и порки виновному никогда не отменяла.
Беда – заглядеться на красавицу, заслушаться хитроумных речей дипломата либо по ребячеству зазеваться на невиданные фленские устерсы [32]32
Фландрские устрицы.
[Закрыть]и залить соусом фрейлинский шлейф. Беда – звякнуть золотой тарелкой о другую над ухом вельможи в многоярусном парике.
Немедленно церемониймейстер с большим горбатым носом, вот совсем как у Бериша – то-то он неприятен, – подмигивал кому следует о замене ротозея исправнейшим. Насчет же ротозея отдавалось некое особое распоряжение. По тому особому – порка.
Радищев зашел в безлюдную часть города. Окна домов были закрыты ставнями, как во время эпидемии, высокие ворота заборов, обегавших каждое владение и превращавших его в маленький средневековый бург, были задвинуты окованными в железо бревнами. Даже собаки не лаяли. Все живое схлынуло на Марктплац – покупать, продавать, торговаться и просто глазеть. Тень старых деревьев так была здесь густа, что солнце, пробиваясь сквозь переплетенные в беседку ветви, лишь редкими яркими зайчиками дрожало на покрытой тенью дороге. В отрадную прохладу на придорожный камень присел Радищев и тут только почувствовал, как он сильно устал. Но спать не хотелось.
Вызвав из складов своей памяти дворцового церемониймейстера, схожего с Беришем, он больше не мог остановить эту память и, как бывает в утомлении, уже без всяких усилий собственной воли ей подчинился. Он стал пересматривать свое недавнее прошлое, приведшее его сюда стипендиатом императрицы.
Конечно, к общежитию Пажеского корпуса привыкнуть было невесело. Старшие куражились, «цука́ли» младших – так испокон было заведено, – посвящали малышей зазорно, с особо злой понукой, в еще не нужные им «утехи любви»…
Тем более было трудно, что перед этим в Москве шла совсем иная, непохожая жизнь у дядюшки Аргамакова, куратора университета, который озаботился, чтобы племяннику преподавали лучшие профессора. Здесь же, в Москве, первые речи о вольности услыхал от собственного гувернера-француза, бывшего советника руанского парламента. И хотя всего, что говорил учитель, ум двенадцатилетнего усвоить полностью не возмог, но сверкание очей, но пламенный жест внедрились в сознание навсегда. Жест сопровождался мыслью Руссо и Дидро.
И вот подобное блестящее развитие чувств естественных было прервано «монаршей милостью», которая гласила, что «сын подполковника Радищева пожалован в пажи». Вместе с двором, гостившим в Москве после коронации, пришлось переехать в Петербург и начать совсем новую жизнь.
Самое замечательное в этой жизни была она – матушка царица. Случалось не раз стоять при карете, передавать ее приказы лакеям, дабы по придворному этикету не приключилось непосредственного касания смердов двору. В сих обстоятельствах был не однажды поражен чарующей простотой матушки, нарушавшей стеснительный устав своей умной шуткой, своей доступностью. Еще более восхищали речи ее за столом – речи полные духа вольности, напоминавшие содержанием все, что говорено было французом-гувернером в Москве. Выходило: матушка царица единых мыслей с ансиклопедистами.
И какие вселяла надежды!
Казалось, стоит довести лишь до сведения ее о попранных правах и утеснениях – и справедливость восторжествует. «Императрица – мудрее и вольнолюбивее всего сиятельного своего двора, и столь великие дела возможно свершить для блага родины и вольности, апеллируя к ней одной через все головы!»
Так мечталось отроку, еще не знающему своих сил и даров, полному брожения мыслей и благородства чувств.
И с преданностью чертил он для будущей союзницы в своих великих прожектах виньетки для Эрмитажного театра, любимого ею, или излагал вкратце и необременительно для понимания зрителя содержание дававшихся при дворе пети-пьес [33]33
Маленьких пьес.
[Закрыть]или нах-комедий. [34]34
Коротких комедий, которые ставились после основной пьесы.
[Закрыть]
Между тем дни обычные в корпусе текли тяжело и душно, без всякого внутреннего руководительства, и все еще неизвестно было, куда и на какую цель направить свою волю. Ничто не препятствовало в будущем скрутиться в разврат и бражничество. Таков был удел очень многих. Сколь ни силен умом близкий сердцу Федор Васильевич, ведь и он не устоял. И сейчас эта гибель жестокая в цвете лет…
Между тем встреча и дружба именно с ним были тем внутренним руководительством, которое дало желанный компас для направления воли и всей жизни к единой цели.
Федор Ушаков, брат Миши, был старше всех вошедших в студенческую колонию Лейпцига. В то время как те были еще детьми, он занимал уже видное положение в свете. Царедворец Теплов (шептались – цареубийца… не Орлов-де, а он прикончил в Ропше императора) взял его к себе в секретари. Хотя и Ломоносов не одобрил сего вельможу, припечатав ему кличку «развратный и отъявленный подъячий», но к Ушакову он был благосклонен и карьеру ему сделать хотел.
За помощь в труде над рижским торговым уставом Ушаков получил чин асессора. В нем заискивали, он мог как секретарь, входящий с докладами, оказать немалую протекцию. Один из многих случаев снискания этой протекции рассказан был Федором совсем недавно, в одну из счастливых минут облегчения от страданий, и притом в весьма фривольном духе.
Радищев, невольно улыбаясь, вспомнил рассказ о том, как некая разведенная жена, подкупив слуг молодого секретаря, явилась к нему на рассвете прямехонько в спальню, когда он еще спал. У сей разводки была прековарная мысль уловления «простейшим и натуральнейшим способом».
Федор Васильевич, отпущенный на короткий срок болезнью, с молодым лукавым блеском несоразмерных на исхудалом лице огромных серых глаз уморительно рассказал о своем пробуждении, о смятении чувств при виде неизвестной, как с неба спустившейся на его одр сирены с улыбками нежных страстей. Она отгоняла крылатых насекомых с лица его и «распростертым опахалом умеряла зной солнца», уже проникнувшего лучом своим в его спальню. Словом, в намерении своем обольстить сия сирена успела.
Но тут же, едва вызвал в воображении лицо друга с его редкой улыбкой, как непрошено встало оно, уже искривленное судорогой нечеловеческих мук. Эти муки тщетно пытался Радищев прошедшей ночью вместе с врачами хоть немного утишить…
Сейчас от пронзительного воспоминания вскочил он и стремительно вновь зашагал по бесконечной аллее. Так на ходу стало легче.
«Почто в нужный час на пути достойнейшего нет остерегающей от соблазна руки? Почему столь поздно предложена другу возможность познания? Ему, который одной лишь мудрости наук отдал бы с радостью свои силы! И вот он сейчас умирает только оттого, что силы эти расточены, и расточены безрассудно. Днем – непомерное служебное прилежание, ночью – пирушки, похождения с сиренами, карточная игра…»
Жертва окружавшего его хода всеобщей жизни, Федор Васильевич Ушаков невольно подсек свой неокрепший организм, и страшная секретная болезнь сводит его в могилу – когда профессора им гордятся, когда он горит одной жаждой познания и, кто знает, что бы мог совершить?
Вчера еще слабым голосом, сопровождаемым ему свойственной умной насмешкой одних глаз, он прошептал: «Хоть поздно, а учусь, братец… учусь мыслить по Гельвецию!»
Федор Ушаков был истинным воспитателем, образователем ума и воли всех способных его понимать студентов, свыше вверенных бесчестному руководительству глупого и низкого Бокума. Студенты добровольно передоверили сами себя – достойнейшему.
Не менее странен, хотя лишенный зловредства первого, был и второй наставник юношей – отец Павел. Этот являлся блюстителем нравственности, дабы сохранить и в земле еретической во всей чистоте древлее православие воспитанников. Но питомцы наперерыв высмеивали познания отца Павла по части метафоры и антитезиса и кроили шутки, от коих бедняга попадал впросак. Как наилучшую опору доброй нравственности, отец Павел учредил всеобщее утреннее и вечернее пение молитв. Вследствие отсутствия у большинства слуха получался неописуемый козлиный хор. Один басил, другой пищал, третий вполне недостойно кудрявил звуки, четвертый ржал жеребцом. И все согласно на высоких нотах строили рожи.
Отец Павел, на беду свою, болезненно был смешлив и, памятуя свою слабость, зажмуривал очи, дабы не прыскать ему от смеха. Миша Ушаков, первый шалостник, подметив слабость чернеца, стал ее нарочито подвергать испытаниям. Расплющит отец Павел веки, а Мишка, скорчив свинский пятачок, как хрюкнет ему прямо в бороду и сникнет в поклон. А в Риге и не такое вытворил.
Пришлось отцу Павлу служить в горенке перед иконой, возглавляющей стол, накрытый белой скатертью. Памятуя свою несчастную смешливость и штукарство питомцев, он заблаговременно, дабы вовсе их не видать, преплотно защурил веки. Уже никакой шкоды не опасаясь, разомкнул очи лишь в поясном, глубоком поклоне над самой иконой. Ан ему тут как тут, прямо в нос, непристойность – белый замшевый кукиш! Это Мишка Ушаков, преловко соорудив из пустой перчатки, надутой собственным духом, подкинул оный кукиш под самый нос. Отец Павел так и скис. Однако преодолелся и налетел на студентов в нешуточном гневе, выражаясь неграмматически.
Тут скорый на запальчивость Мишенька кинулся к стене, сорвал шашку, прицепил к бедру и, будучи в гневе особливо заиклив, стал наступать на чернеца, захлебываясь: «Ты заб…б…был, что я кир…р…расирский офиц…ер?!»
Под общий хохот отец Павел укрылся в своей комнате и даже Бокуму не пожаловался.
Но окончательный конфуз, погубительный для значимости духовника, учинен был в присутствии петербургского курьера, некоего Гуляева. Отец Павел, от истовости уж не зная, что и придумать, завел было моду толковать с питомцами после обеденки, как некоим болванам, своими словами уже прочитанное евангелие еще раз. Подобной процедурой он затягивал и без того утомительное стояние на ногах.
Царицын курьер, как нарочно, подоспел в праздник благовещения, когда отцу Павлу надлежало своими словами пояснить, что означает наименование – «ангел».
– Сей есть слуга господень, которого он на небесах употребляет для нужных к случаю посылок. Сие подобно тому, как ныне угодно было нашей государыне употребить здесь присутствующего господина Гуляева курьером.
Тут уже все, купно с новопожалованным курьером-ангелом, покатились, увлекая в смех и отца Павла. Впрочем, он немедленно вслед за оплошностью прослезился и, махнув погребально рукой на карьеру свою и фортуну, изрек заключительно: «Аминь!»
Но если русские студенты на чужбине одним легким смехом обезвредили своего соглядатая духовного и лишили его всякого авторитета, с главным начальником, зловреднейшим Бокумом, дело обернулось гораздо труднее, и здесь одна только твердость мыслей и вольность их выражения – основные качества Федора Ушакова – положили закладной камень чувству достоинства студентов и умению их постоять за свое право.
Первая стычка с Бокумом произошла немедленно, едва перемахнули заставу. Русские юноши, привыкшие к еде обильной, были досадно поражены, когда после прощальных великолепных обедов в Петербурге скаредная Бокумша, ужимая губы, крутя маленькой плоской головкой наподобие ящерицы, стала распределять им на ужин по куску хлеба с вареным мясом. Миша Ушаков тут же правильно опознал, что сей первый ужин есть корень грядущей вражды и что желудки студентов, растревоженные без насыщения, кончат тем, что поглотят Бокума самого.
В Лейпциге Бокум завел каторжную, фрунтовую дисциплину, мешавшую учению, на которое кинулись с жадностью. Кроме того, он продолжал, подзадориваемый своей ящеровидной Бо-кумшей, всех держать впроголодь. Все письма домой перехватывались и истреблялись. Бокум боялся жалоб, торопясь нажиться за счет студентов. От напряженности слежки у него развилась подозрительность. За пустяк он студента сажал под замок с приставленным к дверям часовым в полном вооружении.
Дров Бокум не покупал вовсе, а зима в Лейпциге, как нарочно, стояла суровая, и русские мерзли больше, чем дома при морозах сильнейших, но при жарко натопленных печах. За выражаемое неудовольствие по поводу голода и холода Бокум кричал, грозился наказывать фухтелями, сиречь ударами тесака по обнаженной спине.
Особенно туго пришлось студентам, не получавшим из дому денег…
Радищев шел все дальше по великолепной аллее. Она без перерывов обегала вокруг всего города. В центре аллея казалась узкой и тесной оттого, что кишмя кишела бюргерами, выводившими на променаду супруг, от обилия нянек, возивших в колясках ребят, от петиметров, [35]35
Щеголей.
[Закрыть]волочившихся за модницами, признававшими только места многолюдные для выставки своих парижских омбрелек [36]36
Зонтиков.
[Закрыть]и аграфов. [37]37
Брошей.
[Закрыть]
Здесь, на окраине, текла рядом с аллеей и тихонько журчала одна только синяя речка, да между частых стволов сверкали шпицы крепостных башен и красные черепицы крыш. Здесь можно было собрать свои мысли и, опросив прошлое, понять, в чем же был его смысл.
А смысл был, и немалый.
Преотменной политической школой оказалась эта зависимость молодых студентов от гнусных и глупых наставников, потому что, как говорил Ушаков, ничто так не связует людей, как вместе переживаемая, одинаково испытуемая несправедливость.
– А ежели притеснение переходит все пределы, – доканчивал его мысль Радищев, – то рождается возмущение, выходящее из границ. И вот гляди: уже зреет восстание рабов и диктует новому Спартаку, куда и на что их вести…
О том, сколь логично в развитии общественных сил все следует своей чередой, было видно уже на таком мелком примере, как событие, окрещенное в Петербурге, по донесению Бокума, – «студенческая история».
Одна мысль, что революция, как отражение солнца даже в малейшей капельке, подчиняется непреложному закону, утешала Радищева, наполняла его радостью и живыми надеждами. Уже с удовольствием стал он припоминать все перипетии этой истории – первого боевого крещения, где студенты оказались победителями.
Дело произошло в ту самую холодную лейпцигскую зиму. Студент Ваня Носакин, слабого здоровья, не имея возможности купить за свой счет дров, выведенный из терпения корыстолюбием Бокума, отправился к нему за объяснением. Бокум играл с каким-то своим приятелем на биллиарде и, по чванливой спеси низкого душой человека, на представление Носакина о невозможности ему работать в промерзлой комнате хватил его по щеке. Носакин, не ожидая такого поступка, растерялся и, не ответив никак Бокуму, кинулся к товарищам. Студенты под влиянием рассмотревшего дело Федора Ушакова немедленно постановили, что Бокуму необходимо наконец дать крутую острастку, а себя поставить как полноправных граждан.
– Посему, – сказал Федор Васильевич, – хоть обида не велика, коли тебя лягнет осел, но требовать от осла извинения, коль скоро он владеет членораздельной речью, есть необходимость.
В противном случае – как установлено общим мнением – полагается сделать вызов и драться на дуэли.
Носакин только что пришел из гостей, когда ему объявили постановление совета студентов. Он на него охотно согласился. В пылу, как был, во всем параде и при шпаге, вместе с товарищами, «всем скопом», – так жаловался потом Бокум, – вошел к нему в комнату. Миша Ушаков стремился было первый «цукнуть» Бокума, но предпочтение оказано было Носакину как обиженному.
Увидя студентов, непрошеным скопом вошедших, Бокум, – при всем хвастовстве будучи трусоват, – испугался. Высокий, рыхлый от пива, он стоял, багровея от злости и покачиваясь на столпообразных ногах. Ему сразу вообразилось, что студенты пришли его убивать, особливо потому, что у шедшего перед всеми Носакина болталась при бедре шпага. Пугливо озираясь на единственного свидетеля – своего писаря, Бокум пролепетал, как школьник, в ответ на заявление Носакина:
– Вы давеча дали пощечину… требую удовлетворения!
– Никакой пощечины я не давал-с.
Тогда Носакин, размахнувшись, хватил Бокума запросто по щеке – раз и два.
Миша Ушаков не пропустил случая захлебнуться, выкрикнув: «Воз…врат с л…лихвой!»
Бокум позорно ретировался к себе и тотчас заперся. Телохранитель-писарь оказался на высоте своего звания. Введенный в заблуждение трусостью начальника, он тоже решил, что тут имеет место посягательство, и выхватил шашку из ножен Носакина. Но студенты с громовым хохотом шашку водворили обратно, а с писаря сняли парик.
Бокум же оказался окончательным негодяем и трусом. Он немедля состряпал экстренную бумагу, что на жизнь его студентами произведено было вооруженное нападение, но он их разогнал голыми руками, как ребят. Про пощечины Бокум умалчивал.
Предвидя именно эту подлую клевету, студенты собрались было бежать, кто в Америку, кто в Ост-Индию, но Бокум действовал молниеносно. Он истребовал от военного начальника «по случаю бунта русских студентов» вооруженную охрану. Каждый заключен был в своей комнате, к дверям приставлен вооруженный солдат. Вот тут-то старший Ушаков, чье значение росло так же быстро, как падал престиж начальников, избран был «атаманом». Это он писал письмо русскому послу с правдивым изложением всего дела. Как цепную собаку, спустил оное письмо в нижний этаж и, по всем камерам заключенных хитро собрав подписи, нашел случай переправить письмо князю Белозерскому.
Умный князь эту студенческую историю притушил и якобы помирил студентов с Бокумом. Но, как у отца Павла по его линии, провал Бокума был уже без восстановления. Сколь он ни хитрил, послание о его художествах было отправлено в Петербург, и справедливая оценка ему готовилась. Сейчас Бокум доживал последние дни. Он пустился красть со своей ящеровидной Бокумшей вовсю, но зато питомцам предоставлена была свобода, полнейшая и безнадзорная.
Однако перед самой сдачей позиций Бокум, не зная о том, что жалобе студентов дан дальнейший ход, успел выкинуть самую гнусную из своих воспитательных манипуляций.
Провинившихся студентов он затеял сажать в преогромную клетку, которую и заказал университетскому столяру, – такого размера, как в зверинце делают медведям. Он уже купил для запора невиданной величины висячий замок и похвалялся им перед питомцами. Таким образом мог быть осуществлен самый строгий арест без возможности убежать и без малейшей затраты на стражу.
Проведав сии Бокумовы художества, студенты отрядили Радищева к столяру с конфиденциальной инструкцией.
Едва Радищев собрался изложить вежливому герру Шнейдеру – старшему столяру, очень хвалимому его приятелем подмастерьем Шихте, – в чем состоит его конфиденциальное поручение, как вошел в мастерскую не кто иной, как всегдашний спутник Бериша – Антиной.
Ну, конечно, как мог он запамятовать, что это и была та особенная, неприятная встреча, почему смутное неудовольствие ощущалось им теперь всякий раз, когда он встречал правильное красивое лицо Антиноя.
Хотя Радищев пришел раньше, он нарочно уступил свой черед красавцу, не желая его делать свидетелем своего, оскорбительного для национального чувства, дела. Но юноша огромную медвежью клетку в углу заметить поспел и, заинтересованный, спросил Шнейдера, для каких она зверей.







