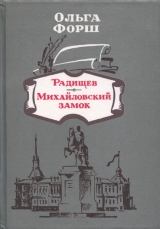
Текст книги "Радищев"
Автор книги: Ольга Форш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
Елагин подошел к стене, повозился, нажимая то тут, то там в одном из знаков зодиака, пока не раскрылись дверцы шкафчика, из коего он достал рукописную тетрадь. Трижды облобызал это орденское cahier [85]85
Тетрадь (фр.).; в данном случае символ веры.
[Закрыть]и передал Новикову. Выпрямившись во весь рост, слегка поклонившись, торжественно и придворно, Елагин сказал:
– Вступите в наш орден, дорогой брат, и тотчас увидите сами, где ваше дело лежит!
Новиков раскрыл было тетрадь – Елагин тотчас остановил, зажав дружески руками в перстнях и ниспадающих кружевах его сухую руку в строгом темном рукаве.
– Вы подробно рассмотрите дома. Оставшись ныне наедине, до раскрытия сей тетради и углубления в смысл оной, вы пересмотрите, дорогой брат, всю деятельность вашу, столь всеми чтимую. Увы, ни для кого не секрет, что угроза, помещенная в журнале императрицы, в том, что в нашем отечестве умеют сатирику «рога обломать», приведена на вас в прискорбное исполнение. Отечество наше явных умников не выносит, – подчеркнул Елагин, – и вот вопрос: что же таковым остается? Либо ума своего отместись, либо второе – умнику явному стать умником тайным. Итак, раздумывайте и решайте…
До четырнадцати лет Новиков жил в родительском селе Авдотьине, Московской губернии. Жизнь текла, как спокойная речка: в благочестии дедовских правил, с невинным разнообразием выездов на коломенскую ярмарку.
При Петре отец служил во флоте, потом перешел в гражданскую и при Елизавете умер статским советником. Состояние скопил изрядное: двум дочкам в приданое и подспорье сыновьям – старшему, Николаю, и Алеше.
По пятнадцатому году свезли Николая в обученье в Москву. В дворянской гимназии при университете он пробыл во французском классе три года. Преподавание здесь велось не знаменито. Отданный в ту же гимназию Фонвизин любил рассказывать, как он получил медаль за то, что, спрошенный, куда впадает Волга, чистосердечно ответствовал: «Я не знаю». Экзаменованные же перед ним ученики пренахально направили Волгу один в Черное, другой в Белое море. Не мудрено, что в подобной гимназии Новиков учился без усердия. Наконец он исключен был за нехождение в классы и леность, о чем и пропечатано было в номере тридцать четвертом «Московских ведомостей» того года.
По решению университетской конференции имена ленивых учеников предавались гласности, дабы исправлять нерадивцев позором. Новиков был пропечатан на странице «Ведомостей».
Григорий Потемкин учился с ним вместе. Странно – бок о бок и столь разная пошла их судьба в дальнейшем.
В знаменитом перевороте, возведшем на престол Екатерину, оба товарища принимали участие. Новиков, рядовой Измайловского полка, стоял на часах у подъемного моста, перекинутого через ров, окружавший казармы, когда туда подъехала Екатерина в сопровождении Алексея Орлова. Измайловцы приняли присягу и получили много наград. Новиков произведен из рядовых в унтер-офицеры.
Участие Потемкина было значительнее. Он состоял в «секрете» вместе со Ржевским, Дурново и Несвицким и подымал на сторону императрицы солдат. Он же конвоировал из Ораниенбаума в Петергоф карету, увозившую только что бывшего императором Петра III.
Он же был персонально в тот день царицей навеки отмечен еще за то, что смело подал ей свой темляк, сорвав его с сабли. Екатерина была в форме Измайловского полка, но темляка у нее впопыхах прицеплено не было.
По сему поводу, усмехаясь, говорили иные:
– Потемкин – хитрец, уже при первом шаге поспел с матушкой в ногу. Темляком началось – империей кончится…
По иной линии пошли встречи с царицей у Новикова: попав на службу в гвардию, Николай Иванович очень скоро утомился светским времяпровождением, безумием кутежей, роскошью.
Большая перемена произошла в гвардейской службе против петровского времени. Служебного рачения не было, одна лишь забота о празднествах, пышности и каретах. Бедные, разоряясь вконец, тужились поспевать за богатыми. Считалось зазорным не иметь для выезда хотя бы четверки коней.
Зато заслуги господ офицеров были велики…
Новиков, углубившийся в книги, пополнял с жадностью свое небольшое образование. Скоро утвердилось о нем мнение, как о самом ученом среди измайловцев. Посему, когда стали делать отбор молодых гвардейцев в Москву для письмоводства в Комиссии, снаряжен был Новиков.
В Москве он вел журнал общего собрания депутатов для составления Нового уложения и записки седьмого отделения о «среднем роде людей». Читал их лично самой императрице.
– Свобода – душа всего на свете! Без тебя все мертво! – любила в те дни восклицать Екатерина, наполняя восхищенной надеждою сердце, призванное, как у Новикова, к одному служению благу всеобщему.
И можно ль было поверить, если б кто заглянувший вперед рассказал, что монархиня, именуемая «Минервой на троне», всего через короткий срок времени, при назначении хотя бы Вяземского генерал-прокурором сената, с такою же обворожающей улыбкой скажет: «Российская империя столь обширна, что, кроме государя самодержавного, всякая иная форма правления ей просто вред».
Обнаружилась подобная же двойца и в самом главном – в вопросе о крепостных. С одной стороны, говорено было: «противно христианской религии и самой простой справедливости делать людей, кои родятся все свободными, рабами кого бы то ни было». С другой стороны, почти не сходя с места, – «устроить крутой переворот, сиречь освободить крестьян, есть плохой способ заслужить любовь землевладельцев».
Но благодаря работе в Комиссии открылось Новикову все разнообразие жизни российской: ее лихоимное судопроизводство, бесправие гражданское, пропасть между знатью и чернью. И великой скорбью пробужденная, его честная воля двинулась на борьбу.
Новиков вышел в отставку. Ему было всего двадцать четыре года. Именьице Авдотьино, дом в Москве дали возможность заняться журналом, ибо для борьбы с лицемерием и невежеством он выбрал «умаляющую пороки сатиру».
С первых же листов своих новиковский журнал «Трутень» начал единоборство со «Всякой всячиной» – так окрестила императрица журнал свой, издаваемый под ее руководством Козицким.
«И не чает небось, какая решающая гиря положена ею на чашку весов моей судьбы!» – с горечью думал Новиков про Екатерину в эти бессонные ночи, перед тем как взять решенье, вступить ли ему в третью ступень голубого, Иоаннова масонства.
Сейчас, поздно вечером, ходил он большими шагами по своей библиотеке и, невольно повинуясь совету Елагина, пересматривал свою жизнь.
– Пожалуй, права та масонская книга, что давеча принес Кутузов, где говорится о групповых судьбах людей. Как некий микрокосм – малый мир, – в любое десятилетие рождаются связанные своими судьбами души. И будут их линии пересекаться, взаимно уничтожаясь или помогая друг другу расти. Все же вместе определенным соцветием они дадут в истории свой плод.
Признать должно, попался, как мальчик, на посулы вольности, исходившие от сей «Минервы на троне». Не помогли и предупреждения природной острой приметливости. Не однажды ведь, приходя к императрице с вопиющими о праве протоколами безобразнейших дел, бывал поражен ее бездушным расчетом, ее лишенными огня, повелевающими взорами синих глаз. Не раз мелькала догадка, что голова ее – одна бесовская память, мешок пустой с цитатами ансиклопедистов. Слова вольности у нее сами по себе, а власть самодержицы жадна и с вольнодумием не слиянна. Проведение слов в дело ничуть ее не пленяет, и она ответа до странности ни за что не несет. Правду сказать, и учитель ее Вольтер, как бес, изощрялся ей подсказывать свою дрянную, двуличную мудрость. Осуждая строго войны, к ним сам же толкал Екатерину, укрепляя ее в мысли, что она творит «войну ради мира». Писал акафист, величая ее – «пресвятая владычица снеговая», в честь которой он, «старая тварь», слагает гимны.
«Ну можно ли было поверить всерьез, что понравится ей сатира, глядящая в корень?»
«Беспокойный поручик», – сказала о Новикове своей Брюсше Екатерина, и мнение при дворе, неблагоприятное для дела его жизни, утвердилось. А чуть перехвалил – не замедлили «поручика сего» одернуть и прихлопнуть журнал.
Началось с сущих пустяков: продернул «Трутень» светскую некую барыню за то, что та польстилась стянуть в лавке материю. Купец постеснялся срамить даму на людях и явился к ней за материей на дом, она же велела его избить.
Обличение светской дамы при дворе не понравилось.
«Всякая всячина» заговорила о снисхождении и человеколюбии. «Трутень» едко высмеял «Всячину»: из человеколюбия она-де «сшила порокам кафтан»…
Журнальный поединок с императрицей обострялся с каждым номером. Новиков отстаивал сатиру на лица, а Екатерина находила, что задевание особ, – по-чужестранному «персоналитет» называется, – показывает невежливость и злость того, который пишет.
«Так некие дурные шмели прожужжали мне о мнимом неправосудии судебных мест…»
«Хорошо мнимое», – с особливой горечью подумал Новиков, стиснув пальцы до хруста.
Длинное некрасивое лицо его пылало. Глубокой скорбью смотрели в невские просторы, на редкие огоньки барж его внимательные черные глаза. Парика он не носил и в своем ненарядном кафтане с белым батистовым жабо, с большим носом среди дрябловатых щек походил всего более на некоего лютеранского проповедника.
«Что такое вольтерьянство в стране столь невежественной, как наша? Вот и поняли как снятие всех препон! Усугубилось токмо невежество, и прибавились доселе неведомые пороки».
Он опять заметался по библиотеке, обставленной полками и шкафами. Давно не отпускающая дума, встречая препоны к осуществлению законному, в нем превратилась в съедающую страсть того высокого порядка, которая знакома основателям новых учений и всем работникам жизни, призванным на дело не личное, а всеобщее:
«Продвинуть отечество к просвещению! Указать лучшую, разумную базу морали, основать ее не только на вере, по-дедовски, а на прочном, имеющем суждение разуме. О, сколь важно не быть в одиночестве для подобного дела».
Мысли Новикова остановились с любовью на Радищеве: сей юный шагнул дальше всех. От его «Деревни Разоренной» как на раскаленной сковородке караси себя ощущали помещики. А матушка императрица, – так из дворца передавали, – ужимая губы, промолвила своей Брюсше:
– Беспокойный поручик опять отличился!
– Можно б поручика и посократить, – отозвалась Брюсша.
И точно сократили: «Издатель – человек с злым сердцем и вреден молодым», – написала Екатерина в своей «Всякой всячине».
Ненадолго помогло и полное лести посвящение: «Неизвестному г. сочинителю комедии „О, время!”», чье перо «достойно будет равенства с Молиеровым».
Как первый журнал «Трутень», был и журнал второй – «Живописец» – захлопнут.
Ныне правожительствует одна безрогая «Древняя российская вивлиофика». Ее при дворе одобряют, императрица одна подписалась на десять экземпляров. Зато подписчиков вольных – свищи! Вот она вся на полу… сия домашняя куча.
Новиков с горькой усмешкой взял с пола одну из груды наставленных друг на друга книжек «Древней российской вивлиофики», развернул ее: описание чина патриаршего шествия на осляти, шествия посольств иностранных…
Но что ж, и то не без цены. Однако же не про одну древность нам мыслить. Живы мы и живого участия в жизни желаем.
Справедливо сказал Елагин: «Явных умников отечество наше не выносит». Что же, и впрямь соделаться ему же на пользу – тайным?
Новиков взял одну из древних книг масонских в кожаном переплете, снял со свечей нагар, сел в свое рабочее кресло.
«Цель нашего ордена – сохранить и передать некое важное таинство, от самых древнейших веков, даже от первого человека до нас дошедшее. От сего таинства, может быть, судьба всего человеческого рода зависит…»
– Однако кому может быть ведом сей «первый человек»? – усмехнулся Новиков. – Ох, не вышло б и тут, как в Большой комиссии: наговорено пышно, а делов не видать.
В дверь постучали. Лакей Софроныч, седобородый, в домотканом архалуке, ворчливо сказал:
– Тут к вам, барин, молодые господа пришедши. Коль задержутся, опять вам работать до петухов! Сказать им, что вы почиваете?
– Проси, Софроныч, обязательно проси! – И Новиков сам вышел в прихожую навстречу Кутузову и Радищеву.
– Михайло Матвеевич занемог, и в нашем разговоре, к прискорбию, он не участник, – сказал Кутузов. – Однако обязательно настоял, чтобы нам с Александром быть нынче у вас.
Кутузов многозначительно и неуклюже пожал руку Новикова. У него было тайное поручение от Хераскова: убедить Радищева начать посещения ложи Урании в качестве гостя. При растущей удаче Пугачева слишком опасно было умонастроение Радищева, и друзья забеспокоились отвести его хоть силой в «тайный канал».
Кутузов, до поры хранивший про себя некое важное происшествие, которым одним хотел он в присутствии Новикова сразить упрямство Радищева, с церемонностью указывая на друга, вымолвил:
– Вот удалось-таки отвлечь мне его от суетных забот и, как вы того желали, привести к вам.
Радищев расхохотался:
– Можно подумать, что почтенный Николай Иванович уже есть мастер стула, а ты, Алексис, – брат оратор, извлекший меня из тьмы «черной камеры». Шалишь, братец, я с большей охотой предпочту просидеть у трактирщика Демута, нежели в ваших сборищах постного чина.
Голос Радищева был весел, лицо мужественное, при заметной ныне о нем светской заботе – картинно прекрасно. Тугие, твердо означенные брови были подвижны над яркими, большой жизненной силы глазами. Движения вольны, и все тело его, закаленное в свободные от занятий часы фехтованием, прогулками, греблей, охотой, являло полную контрастность с хлипким высоким Кутузовым, хотя сей последний был в военной форме, а Радищев в скромном темно-зеленом кафтане.
Кутузов, как фанатик, увлеченный изучением «натуры вещей», обычного людям страха не ведал и, будучи недавно в распоряжении Румянцева, стяжал от него заслуженную похвалу в своей храбрости. Сейчас он был в отпуску перед грядущей отставкой и поворотом всех своих сил к его увлекавшим кабинетным занятиям. Вся мимолетная военная выправка, как на время надетый маскарадный костюм, с него то и дело слетала.
Светло-русый, со взором отсутствующим, движениями вялыми, он пребывал в отрешенности от здешнего мира. Только и ждал – укрыться б ему в некую лабораторию алхимиста.
– Друзья мои, – сказал радушно Новиков, усаживая обоих гостей в такие же старые кожаные кресла из зеленой кожи, как его рабочее. – Не будем терять время на предварительное охаживание друг друга и маскировку цели, с коей Херасков, Кутузов и я решили к вам иметь разговор, Александр Николаевич! Я ваше дарование столь много ценю, что с вами хитрить не желаю.

Радищев не однажды задавался мыслью, что именно заставляет его так глубоко почитать доверием скромного Новикова. Он не имел блеска талантов. Почти безобразен, не речист. Но этого примечательного издателя книг нечто положительно отслаивало от прочих людей.
В долгих разговорах по журнальным делам, тускловато, не радуя остроумием, как Фонвизин, не обогащая образованием, как Херасков, Николай Иванович Новиков давал глубже и больше, чем они. Не выказываясь сам, как некое незримое солнце, он в другом умел вызывать его лучший цвет.
Все люди оставляли что-нибудь только для себя, – Новиков ничего. Его необычная, лишенная малейшего себялюбия огромная воля служить человечеству и была отличная от прочих, иная природа.
– Дорогой друг Александр Николаевич, намедни в большом разговоре с Херасковым уполномочен я вам передать его слезную просьбу – сделаться вам долгожданным гостем ложи Урании. Я вам новичок в изучении масонства, его твердой защиты пред вами вести не могу, но почитаю разумным исследовать и сей умственный канал, поскольку, им пользуясь, можно оказать услуги просвещению отечества… От себя ж самого, как сыну отец, я должен прибавить: пятый лист «Живописца» с вашим отрывком, посвященным горестям деревни Разоренной, ныне у всех на устах. Цитируют его при дворе как весьма опасное ваше умонастроение в виду все растущего страха от подметных листов Пугачева. Помимо того, недавнее ваше примечание в изданном мною Мабли, – я разумею ваше вольное разъяснение слова «самодержавство», – по всей видимости, надолго пресечет наше с вами свободомыслие в печати.
Новиков прикрыл глаза и умолк, как бы собираясь с новыми мыслями. Все помолчали. Подымая на Радищева темные внимательные глаза, кладя ему руки на плечи, вопросительно и задушевно Новиков сказал:
– Ежели нельзя служить родине через сатиру, умаляющую пороки, как мы с вами сердечно хотели, Александр Николаевич, не попробовать ли нам стать нужными сынами отечества через «тайный канал»?
– Алексей Михайлович, – повернулся Новиков к Кутузову, – что можете вы нам поведать для расширения наших знаний о цели вашего ордена?
– Алексис, я в свою очередь о том же прошу, – сказал без обычной насмешки Радищев, – мой же ответ будет потом.
Кутузов, боясь вскочить и забегать по комнате в ажитации, впился длинными пальцами в ручки зеленого кресла и, как полководец, устремив взор перед собой, глядя на некий вдали предстоящий бой, стал стремительно излагать заветную мысль:
– Цель нашего ордена на каждое время бывает особая. Ныне главнейшее – испытание натуры вещей и через то приобретение новой силы и власти всем посвященным к исправлению рода человеческого. Найти философский камень и панацею – вот священная цель.
– Мы тут собрались не для детской игры… – нахмурился Радищев. – Простыми, понятными словами разъясни извергнутые тобою энигмы.
– Я изъясню.
Голубые глаза Кутузова наполнились радостью.
– Ежели отбросить мудреные латинские и еврейские наименования, то суть дела может быть трактована так: алхимики утверждали, что металлы, равно как и все созданное, стремятся к своему усовершенствованию. Известно превращение одного металла в другой посредством примеси недостающего. И что есть для неблагородного металла совершенство? Оно в том, чтобы стать ему золотом. Отсюда положение: ежели в природе металлы при благоприятных к тому условиях могут оказаться золотом, то нет для человека задачи достойнейшей – научиться создавать сии условия по собственному произволу. Алхимист должен похитить тайну природы и в короткое время произвесть то, что в недрах земли образуется веками.
При помощи уже найденного философского камня, превратителя камней в золото, найти будет нам возможно и панацею. В теле человека наличествует жизненная сила, коей имя – архей. Все болезни, несмотря на разнообразие оных, производят одиноких братьев, достигших над людьми божеской власти, ли в нужное время будем знать, как усилить ее, сия сила жизни, сиречь архей, поглотит все болезни. Она сама собой сохранит в экилибре силы человека, создаст вечное здоровье…
Итак, найти философический меркурий и панацею – вот священная цель наших работ. Получив сверхчеловеческую власть, я смогу, ежели на то моя воля, облагодетельствовать все человечество! А потому я вам предлагаю…
– Довольно, Алексис… – прервал Радищев. – Пути наши окончательно разные. Ты хочешь быть благодетелем человечества, а я хочу только его видеть свободным! Не образ гордых, одиноких братьев, достигших над людьми божеской власти, прельщает меня – я озабочен самими людьми.
Радищев подошел к Алексису и, вразумляя, как малого, с невольным укором сказал:
– Разберись честно, мой друг! Намного ль продвинется благо всего человечества, если власть одиночек достигнет предела? Ведь всех-то людей философским камнем и панацеей одарять вы не станете? Ну какие представишь ты мне доказательства, что, научившись столь прочно владеть другими, неизвестные братья свою власть вдруг уступят? Эх, милый друг, как с освобождением обездоленных крестьян, им все будет казаться, что рано… Чем сильней власть немногих, тем у них меньше желания способствовать освобождению всех.
Радищев, как лев, зашагал по библиотеке.
– Алексис, опомнись! Сидеть взаперти в подземелье, вытягивать золото из дерьма… Когда у нас в зале сената даже статую нагой истины генерал-прокурор приказал символически экзекутору поплотнее прикрыть! Знаем мы с вами, почтенный Николай Иванович, как лицеприятный и насквозь лихоимный наш суд сию истину не только прикрывает – распинает с утра и до вечера. Разве сравнимы наказания, коим подвергаются крестьяне за бунт против нестерпимых истязаний помещиков, и то легкое церковное покаяние, на котором в монастырях отъедаются помещики пирогами? Навеки помню жестокие случаи сенатских дел. Спать ложусь, стоят передо мной все они, измордованные, не отмщенные…
Вот и ты б, Алексис, вместо всяких пентаклей и фигур чужеземных припомнил бы… Вместе с тобой ведь по должности в сенате в подобные дела углублялись. Поражаюсь, каким это манером они тебя в алхимическую каменоломню занесли? Ярославского дворянина помнишь? По отдельным пальцам рубил своим крепостным руки и ноги. Супруги Савины, фон Этингер, генеральша Гордеева? Все сии – маркиз де Садовы приспешники. Пороли крестьян до смерти, с издевкою, солеными таловыми прутьями. Императрица же сим дамам тюрьму заменила инструкцией ихним мужьям: «Наблюдать, дабы не впали жены в суровость», а мужьям строгий выговор: «Впредь не запарывать!» Что ж ты думаешь: не впадают в «суровость»? Не запарывают пуще прежнего? Кому про это кричать? У кого правды искать?
Нет, сударь мой, не панацея с камнями, хотя б философскими, – одно лишь неслыханное притеснение породить может в людях спасительное для них искупление. Не алхимиста – освободителя Спартака ждут порабощенные.
И оно, косное ваше масонство, не имеет просветительного движения вперед, у вас знатное происхождение все еще в цене выше, чем образованность.
– Остановись, Александр!.. – в свою очередь вне себя вскричал Кутузов. – В сем пункте ты даешь совершенно маху! Не далее как вчера в ложе Муз у Елагина произошло некоторое событие, уничтожающее твой упрек. Больше того, сие событие меня нынче двигает в присутствии столь почитаемого тобою Николая Ивановича, умолять именно тебя, Александр, быть непременным гостем наших собраний.
– Повествуй о событии, Алексис…
– Ты сейчас опрометчиво утвердил, что просветительные идеи масонству чужды, так вот же тебе, Александр: красней и бери свои слова обратно! Намедни перед собранием в ложе Муз француз-куафер, служивший по найму у Елагина, явился перед братьями и потребовал, чтобы его допустили в присутствие. Он предъявил свои грамоты, правильные и достаточные, из коих следовало, что он рыцарь высокой ступени.
– Весьма заинтересован ответным поведением на сие заявление Ивана Перфильевича Елагина, – взволновавшись, сказал Новиков.
Глаза Радищева горели нескрываемой насмешкой, и только желание выслушать до конца удерживало его заявить одно, мгновенно пришедшее, смехотворное соображение.
Кутузов же, впервые чувствуя себя в учительном положении относительно пересмешника-друга, начальнически сказал:
– То, что Елагин не оказался на высоте, дает новую власть в руки наши. Мы, впитавшие просвещение ансиклопедистов, будем насаждать в ордене равенство. Тем более нам важно объединиться, идти рука об руку…
– Говори, Алексис, по порядку, – оборвал Радищев, – как именно повел себя вельможа в ответ на заявление оного необыкновенного, высших ступеней куафера?
– Как повел себя Елагин? – привстал Новиков с кресла.
– Сей вельможа был весьма недоволен. Не скрываясь нимало, он тут же публично стал обвинять французские высшие ступени посвящения, к которым без разбора допускаются всякого звания люди.
– Неужто Иван Перфильевич таков? – с огорчением вырвалось у Новикова. – Не через него, видать, идет путь к истинному масонству.
– Теперь выслушай меня, Алексис, – сказал строго Радищев. – Заявляю твоему легковерию, что сей паришных дел мастер, носитель высших рыцарских ступеней, не кто иной, как наш старый знакомый по Лейпцигу – куафер Морис. Этот загадочный персонаж, игравший неказистую роль в совращении нашего бедного Середовича разыграть тень покойного бюргермейстера Романуса, мне не внушает никакого доверия. За отсутствием встречи с тобой, в моих разъездах по случаю сватовства, я не удосужился тебе рассказать о внезапном посещении Середовича.
Радищев рассказал подробно о Власе, и Кутузов так горячо принял к сердцу плен старого дядьки, что тут же поклялся непременно его разыскать и разоблачить все козни Мориса, если действительно окажется, что парикмахер Елагина и он – одно и то же лицо.
– На сегодня экилибр моего духа нарушен, и дурная бесконечность начал хаотических затмила ясность суждения. Я прощусь с вами, друзья мои…
На пороге Кутузов, вдруг побледневши, мрачно прибавил:
– Но весьма возможно и то, что елагинский куафер и парикмахер Морис – всего лишь фикции, выставленные духами зла, дабы воспрепятствовать вашим ясным умам, дорогие друзья, служить делу нашего ордена. Ради вас буду бодрствовать и поститься.
– Несчастный Алексис, – с горечью вымолвил Радищев, – от природы меланхолический и склонный к мрачности нрав его околдовался до потери здравого смысла. Быть может, есть какое-нибудь иное, правильное масонство, служащее подлинно возвышенным целям улучшения человека и жизни, но во всяком случае это не то, куда зовут меня Алексис и Елагин быть гостем. Здесь отсутствует всякий дух истины. Доказательство налицо – гибель бедного Алексиса. Прощайте, дорогой Николай Иванович, я уезжаю в Саратовскую губернию, где ныне развернулись кровавые события. В имении отца моего – пугачевцы. Защита младших братьев, изучение на месте правдивых причин, почему беглый казак, заведомый самозванец, поднял вокруг себя города и селения, – мой неотлагательный и священный долг.
Новиков горячо обнял Радищева и, оставшись один, еще долго ходил взад и вперед по громадной своей библиотеке. Ему с полок мелькали знакомые обложки им изданных книг и журналов, и домашней кучей лежали неубранные кипы «Древней российской вивлиофики» на полу.
– Да, пообломали сатирику рога! И в масонство подлинное тоже, видать, не пробраться…







