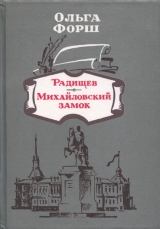
Текст книги "Радищев"
Автор книги: Ольга Форш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
Радищев ходил по комнате, пока Алексис, отсутствующий, поглощенный одной своей думой, сидел, не двигаясь, в креслах. Он собирал указанным в ордене способом свои силы, дабы еще раз, как убежденный в найденной истине фанатик, попытаться привлечь к ордену Александра.
Радищев остановился перед своим другом, слегка потряс его за плечо и, в свою очередь желая сделать его соучастником мыслей своих, тихо, но твердо произнес:
– Прежде всего, Алексис, мы с тобой граждане нашего отечества. И нам должно открыть глаза на то, что с оным делают власть имеющие. Царица предает идеи просветителей, коим сама поклонялась в «Наказе». А Потемкину, чтобы удержать свое первое место, надлежит подкупать неустанно своих жадных новорожденных дворян. Отсюда, как из рога изобилия, раздача казны и земель. Отсюда новые войны. Ибо что скорей может обогатить негодяев? Помни мои слова, Алексис, Потемкин подымет царицу на новый захват.
– Недаром нарекли его у нас в ордене «князь тьмы», – сказал с печалью Алексис. – Масоны, Александр, суть духовные его супротивники. И если ты не сторонник сего «князя тьмы», то естественным образом должен быть с нами…
Кутузов встал и, взяв под руку друга, с бьющимся сердцем стал ходить, стараясь соразмерить свой шаг с шагом Радищева, но в ногу не попадал, и Радищев рассмеялся:
– Не трудись, Алексис, из разнобоя не выйдем!
– Выслушай меня, Александр, – собрался с силой Кутузов, – поверь, и мой дух трепещет при слове «вольность», но я знаю, что истинная свобода состоит токмо в повиновении законам, а не в нарушении оных. Я ненавижу возмутительных граждан. Из близкой мне среды бунтовщиков не будет. Но в нас объединились только что ложи елагинская с рейхелевой. Наша задача – бескровная, безнасильственная революция, сиречь возрождение свободное, по сознанию каждого. Ты усмехаешься, Александр, ты мысленно, знаю я, произносишь: «Срок подобному возрождению – бесконечность», но мы готовы запастись терпением, мы, тако верующие…
– Запастись терпением и равнодушно смотреть, как помещики, весьма далекие от всякого вкуса к возрождению, засекают насмерть мужиков?
Радищев выпустил руку Алексиса и один зашагал по комнате, раздраженный известным заранее возражением Алексиса о том, что общественное положение человека предуказано самим богом.
– Каждому определен известный градус: только двигаясь по сему градусу, сиречь исполняя предопределенные свыше свои общественные и прочие обязанности, можно подвинуться к центру – один он истина. Вот на каком основании в масонстве не слышится тобою желаемых протестов против крепостного права.
– Еще бы, – воскликнул Радищев, – если, как ты утверждаешь, оно охраняется самим богом. Ну и мерзавец же он в вашем представлении!
– Не кощунствуй, Александр! – с болью воскликнул Алексис.
Он вспыхнул, как девушка. Глаза его, молящие и чистые, как у не тронутого злом и ложью ребенка, были много умней и убедительней его слов.
– Мы вносим жизненную поправку, Александр. Эта поправка видоизменит неравное распределение благ земных. Имущий человек должен пользоваться своим именем только в интересах своих ближних…
– Стыдно тешиться, Алексис, подобной подделкой истинной добродетели! – прервал его с гневом Радищев. – До какого заблуждения можно докатиться, имея опорой мысли вашу лицемерную философию? Живым примером служит лучший из ваших братьев – Николай Новиков. Слыхать, в новом своем журнале он ставит одной из своих задач борьбу с вольтерьянством. А то ему невдомек, что мысли, им возбуждаемые в обществе, гораздо ближе, чем мечты о бесплотных эдемских наслаждениях, приближают нас к главной цели гражданина – к борьбе против разрушителя достоинства человека – крепостничества?! – Радищев волновался всем своим существом. Он возгорелся пламенем борьбы, едва выговорил несколько слов, обличавших его вечно заветную мысль. – Навсегда неизменно запомни, Алексис: моя душа болит не о ваших эдемских науках, а токмо о несчастных наших рабах, уподобленных нашим бесчеловечьем тягловому скоту, осужденных всю жизнь свою не видеть конца своему игу. Им отказано судьбой в малейшем человеческом пожелании. Им позволено только расти, чтобы потом умереть…
У Радищева не хватило слов. Он вплотную придвинулся к другу, взял его за плечо, повернул к себе лицом и, сверля его черными, горящими гневом глазами, вымолвил:
– Если ты имеешь что возразить – возражай!
– Ты будешь гневаться, Александр, – тихо, но твердо начал Алексис, – но ведь и я не могу утаить пред тобой свое задушевное.
– И не утаивай, – так же тихо ответил Радищев. – Может, нам более не свидеться.
– Стоит ли особенно хлопотать, Александр, – заговорил Кутузов каким-то не своим, заученным тоном, – стоит ли хлопотать особенно из-за этой быстро текущей нашей жизни? Ведь скоро-скоро спадет с нас сей бренный покров, и мы помчимся к высоким сферам, где свет озарит нас с предельной ясностью, где здешних горьких вопросов уже больше не будет. – Алексис закрыл глаза, закинул голову и сказал нараспев масонский стишок:
Там дух мой, чудом оживленный, гармонии миров вонмет.
– Смерть, Александр, – Кутузов широко и безумно открыл глаза, – единая смерть есть начало подлинной жизни. Недаром эллинский мудрец начертал: «Догадываюсь: то, что именуется жизнь, есть только смерть, и наоборот, смерть есть только начало истинно полной жизни».

Радищев сидел на подоконнике большого окна. Лампа не освещала комнаты, и в стекла гляделась светлая петербургская ночь. Черный силуэт Радищева с волнистыми, откинутыми назад прядями волос над благородным лбом был как вылитый из бронзы. Так, недвижно, сосредоточась в скорбной думе, он долго молча сидел, глядя в слабо освещенную улицу. Алексис тоже умолк и сел рядом с другом.
– Будь хоть попросту справедлив, Алексис, – сказал с глубоким чувством Радищев, – если ты сам волен заниматься тем, что на ум тебе ни взбредет, то почему не болеешь ты душой, что подобная же свобода не предоставлена наравне с тобой и бесправному твоему крестьянину? Почему?
– Потому что добро и свобода могут быть бесценной силой только в руках людей, возрожденных знанием каменщиков, в руках же профанских свобода всегда обернется злом. Прежде чем ратовать за вольность, надлежит подготовить к ней души людей, над чем наш орден и усердствует. – И опять закрыл глаза, закачался:
Неволи ты бежишь… бежишь ее страданий,
Но часто собственных невольник ты желаний.
И, не дав более ничего возразить Радищеву, охваченный собственным увлечением, Кутузов зачастил, размахивая длинными руками, целый период из только что прочитанного им «Утреннего света»:
– «Когда внешне человек терпит угнетение рабства, что же помешает ему быть свободным внутренно? Кто над собой царь? – Тот, кто внутри себя ничьей не подвержен воле, как токмо силе собственного закона о благе и разуме. Масон не сопоставляет своего блага ни с чем, что погибает вместе с его телом. И посему, исходя из таковых взглядов, масон не может в первую очередь стремиться к преобразованиям внешней жизни. Все внешнее отодвинуто на второй план, во вторую очередь». Я тоже, поверь, Александр, – вдруг совершенно своим доверчивым голосом сказал Кутузов, – я тоже истерзан зрелищем несправедливости в нашей стране. Управляют беззаконные начальники, исчезла безопасность личная, граждане зашатались. Место доблести и мужества уступлено робости, ползающему духу. Коварство, лукавость, комариная мелочь съедают всякую законность. Поверь, мое отечество – моя душевная мука.
И вот причина, Александр, почему я с охотой иду в изучение орденской химии.
– Допустим, что вопль о беззаконности и произволе, о падении высоты духа у нас с тобой одинаков, Алексис, – с лаской в голосе говорил Радищев старому другу, закрывшему свое лицо в сумерках белевшей рукой. – Но выводы? Выводы о том, как дело это в нашей стране изменить, мы с тобой делаем настолько разные, что великая пропасть нас должна в будущем разделить…
Долго еще волновались в горячей беседе друзья, в этой последней встрече, пресекшей пути их столь непохожих судеб. Увлеченные, сии не замечали, что Середович, то и дело приносивший им чай, который они не глядя глотали, никак не мог удосужиться вставить в их разговор свое давно обдуманное слово. Наконец, когда под ярко горевшими канделябрами Кутузов стал Радищеву чертить карандашом свой предполагаемый путь до Берлина, Середович не выдержал, свой поднос отставил на камин и, рухнув перед Кутузовым на колени, завопил:
– Батюшка барин, Алексей Михайлович, коль скоро поедете за границу, прихватите с собой и меня! Как покойника Мишеньку, буду вас пестовать! Ведь за границей народишко дошлый: и бельишко ваше раскрадут и как липку всего оберут!
Кутузов поднял Середовича, обнял.
– Сердечно рад, Середович, с тобой ехать… Только куда тебе и зачем? Наверное, твоя Минна, тебя не дождавшись, давно замуж вышла…
– Бог ей судья, клятвопреступнице. Не больно я плачу об ней… – И, шагнув к уху Кутузова, Середович конфиденциально прошептал: – Иную имею причину для поселения в заграничных сторонах.
– Вот старый чудак, что еще выдумал! – улыбнулся Радищев. – Плохо тебе разве у меня?
– Как можно, батюшка Александр Николаевич, и вас, и барыню, и Васеньку в поминаньице навечно вписал. Как сыр в масле катаюсь у вас. Только каждой персоне свою честь сберечь надо. Моей же ни в столице, ни в провинции никакого разгону не предвидится.
– Ничего, братец, не понять… – смеялся Кутузов, – говори, старик, начисто, понятней.
Середович выпятил грудь, как на параде, подтянул живот, опустил руки по швам и не спеша, с достоинством вымолвил, обращаясь к Радищеву, коему ведом был загадочный смысл его речи:
– Как я имею орден, и жалованную грамоту, и чин, коим, проживая в империи российской, не имею апробации пользоваться, то желательно мне проследовать в качестве инкогниты за границу. Туда же едет, слыхать, и крепостной строгановский Андрей Никифорович Воронихин.
– Ладно, Середович, коли не передумаешь, заберу тебя инкогнитой вместе с собою!
Друзья распростились на рассвете. Радищев долго смотрел в окно на пылившуюся вдоль Грязной улицы коляску Кутузова. Невольные слезы текли по его щекам. Он прощался навсегда с Алексисом, другом юности. Если даже доведется еще встретиться, ведь окажутся совершенно чужими… В чистоте намерений Алексиса Радищев не сомневался, но после ночного этого разговора, после взаимно высказанных мечтаний о выборе средств для приобретения благоденствия во всем человечестве, окончательно доказалась не только непереходимая разность, но и прямая враждебность их умонастроений.
До пробуждения домашних еще оставалось немало часов, и Радищев, радуясь не возмутимому никем одиночеству, запер дверь и достал из письменного стола верную хранительницу ночных дум и заветных восторгов – собственноручно переплетенную тетрадь.
Прежде чем раскрыть тетрадь и записать новые, облеченные строфами мысли, Радищев вынул из книги Рейналя листок, привезенный Алексисом, где списана была декларация вольности.
Рейналь, любимый автор последних лет, чьи гневные строки против деспотов и деспотизма питали дух его все новою силою возмущения, казалось, был вдохновителем и этой декларации – живого осуществления его мыслей.
Радищев поднес к глазам, затемненным слезами восторга, тот листок, что оставил ему Алексис, и бережно, наслаждаясь каждым словом, еще раз прочитал декларацию:
«Все люди созданы равными. У всех неотъемлемые, определенные права. Для обеспечения себя пользованием этими правами люди учредили правительства, справедливая власть которых исходит из согласия управляемых. Всякий раз, когда какая-нибудь новая форма правления становится гибельной для тех целей, ради которых она была установлена, народ имеет право изменить ее и даже уничтожить».
Народ имеет право изменить ее…
Радищев от волнения не мог дальше читать. Он опустился в кресло и закрыл лицо руками. Солнце ярко глянуло в окно. Он не видел. Заблаговестили у Владимирской к поздней обедне – он не слышал. Он глубоко погружен был в тот совершенный покой творца, когда дошедшие до предела кипения чувства и мысли должны утихнуть на миг, как зерно, упавшее в темные недра земли, чтобы, отлившись в форму и слово, стать вкладом отдельного человека в сокровищницу познания для всех людей.
Долго ли, погруженный в свое безмолвие, сидел Радищев, он не знал. Наконец встал, прошелся, глянул в окно, уже залитое весенним радостным солнцем, и сел за письменный стол. Но писать ему пришлось недолго. В дверь, сначала тихо, потом все настойчивей, стучала Аннет, называя его по имени. Пришлось открыть…
Аннет была еще в утреннем кружевном капоте, с маленьким чепчиком на голове. Озадаченная каким-то отсутствующим видом Радищева, она, покраснев, пробормотала:
– Прости, милый друг, я не думала, что ты еще занят… Давно самовар на столе.
– Аннет, друг моего сердца…
Радищев обнял жену, усадил ее на диван, стал перед ней на колени и, как, бывало, возлюбленной матушке в детстве, обуянный особо трогательным ладом души, стал говорить тихо, с проникновением, глубже, чем один, сам с собой, переживая свои слова.
– Аннет, друг сердца моего… в этот век бесправия общего только одно дело писательское может иметь значение защиты неотъемлемых свободных прав человека. Мужественный писатель, он встанет против губительства и всесилия! Он – как огромный пылающий факел, он сможет раздуть пламя в сердцах. Мой долг, Аннет… долг патриота, гражданина, человека – ударить в набат. И я ударю!
Радищев взял в руки свою заветную тетрадь и прочел срывающимся от волнения голосом:
О! дар небес благословенный,
Источник всех великих дел;
О вольность, вольность, дар бесценный!
Позволь, чтоб раб тебя воспел…
Глава четырнадцатая
У цесаревича Павла умерла от родов любимая жена Наталья Алексеевна. Пять суток продолжались неслыханные муки, вызванные неправильностью телосложения великой княгини, пока наконец врачи объявили, что смертельный исход неминуем, коль скоро не будет допущено вмешательство хирургическое.
Обезумевший от горя Павел разрешил сделать жене кесарево сечение, но все уже было поздно.
Плохо понимая испуганную речь вошедшего к нему в необычный час Никиты Ивановича, он догадался, взглянув на его руки – холеные, полные, в драгоценных перстнях, одним жестом выразившие безнадежность положения, – что все кончено и Натали погибла.
Жена была его опорой, его советником. Ей одной Павел всецело доверял. Ей и ближайшему другу сердца – Андрею Разумовскому, сыну гетмана и президента наук.
С детских лет Павел был дружен с Разумовским, как с братом, поверял ему все горести, с ним одним делился ужасными мыслями о матушке императрице, не вынося подчас одинокого гнета страшных подозрений, что родная его мать причастна к убийству в Ропше его отца.
Хоть обрывками, а доходили слухи и шепоты… Из них росла и крепла в бессонные ночи догадка: нет, не с пьяных глаз, а по тайному уговору, по изволению свыше прикончил Алешка Орлов императора. Пусть официальное объявление гласило, что причиною смерти были некие «геморроидальные колики», и за границей оным не слишком-то веру дали. Ведь не что иное, как это темное обстоятельство дало повод Даламберу воскликнуть в ответ на приглашение августейшей матушки приехать в Петербург, что в нем гораздо боится морозов и «геморроидальных колик», которые уносят без разбору людей.
Да, только с ней, с умницей Натали, только с Андреем Разумовским отпускала обременяющая разум подозрительность. Этим двум верил слепо и, веря им, отдыхал от своих угнетающих волю дум, от себя самого.
В последнее время Павел гордился женой особливо потому, что стало заметно и немало о том шептались при дворе, что императрица не на шутку опасается своей умной невестки. Известно было дословно, что написала она своему Гримму весьма осудительно про своеволие, настойчивость и честолюбие Натали, «которая в своих желаниях меры не знает».
Точно сама матушка знала меру, не пуская на трон своего лысеющего сына, единственного имевшего на этот трон право?
Умная Натали была действительно соперницей матушке. Она одна была бы в силах ускорить законное воцарение Павла, ибо действительно была честолюбива. Руки ее так и тянулись к короне. По ночам, даже среди ласк, она не уставала твердить Павлу о его попранных правах, вливая в него больше сил и энергии, чем вместе с Паниным все масоны.
И Андрей Разумовский, вкрадчивый красавец, своим примером обучал Павла властвовать собой, восхищался образованием, полученным за границей, помогал ковать уверенность, что в Европе будут приветствовать его, Павлово, воцарение.
Андрей окончил университет в Страсбурге, в совершенстве постиг музыку, сам чудесно пел и играл. Он дружил с Натали как нежный брат.
Это постоянное пребывание с одаренными и притом самыми близкими людьми было для Павла желательней всех роскошных вечеров матушки с остроумием послов и придворных.
Сейчас, в постигшем его сокрушительном горе, Павлу легко было видеть одного лишь Андрея Разумовского. Неоднократно за ним посылали. Всегда был ответ: «Тяжко болен, в бреду и жару, врачи держат в постели».
Робко появился в дверях лакей в придворной ливрее и, страшась гневного окрика расстроенного цесаревича, доложил:
– Их императорское величество просят ваше высочество пожаловать к ним в апартаменты.
Екатерина сидела перед своим письменным столом, перед ней стояла эбеновая, выложенная инкрустацией из перламутра и золота шкатулка. Узорным ключом Екатерина открыла тяжелую крышку и вынула из шкатулки пачку тонких листов, исписанных по-французски размашистым мужским почерком. Слегка ими потряхивая, она сказала, полуобернувшись к незаметно вошедшему Храповицкому:
– Вот оно, радикальное средство для излечения горя цесаревича!
Осторожный Храповицкий на всякий случай поклонился с видом сочувствия, которое можно было отнести куда угодно: то ли это было соболезнование по адресу Павла, то ли почтительная дань материнской озабоченности императрицы, и без того обремененной обязанностями государственными.
Храповицкий был тот человек, который до конца дней Екатерины правил ее черновики и учил ее русскому языку, казавшемуся непреодолимым для ее немецкого произношения. Он помог ей создать этот несколько задорный, чрезмерно пресыщенный острословием екатерининский стиль, сам в то же время записывая про нее в дневнике тускло, бездарно.
Умный человек, он понял, что при таком близком домашнем приближении, когда являешься свидетелем характера, уже ничем не прикровенного в его несправедливости, гневе, коварстве, надлежит сковать собственный ум и зоркость глаза.
Екатерина привыкла к Храповицкому, как к своим левреткам. В его присутствии нередко выражала она свои самые тайные мысли. Сейчас, усмехнувшись, сказала:
– Нынешней ночью, слышала, Никита Иванович свою лень поборол – самолично дежурил у цесаревича?
– Опасаются, руки бы на себя не наложили с горя его высочество…
– Не наложит, – мимоходом, почти с насмешкой, проронила Екатерина и досказала главную свою мысль: – Срамил его Панин, что ведет себя малодушно, недостойно будущего самодержца, коему теряться от горя, как партикулярному человеку, весьма непристойно. Однако сколь ни шепчут ему присные об его царских правах, сколь ни стараются, хлопоча в первую голову о себе, ни ума, ни величия сему грядущему императору они не прибавят.
И с раздражением Екатерина сказала Храповицкому:
– Распорядись, чтобы тотчас был вызван ко мне цесаревич.
Храповицкий направился к дверям, но Екатерина вдруг почему-то его остановила и сказала, понизив голос:
– А сами, сударь, пребудьте тут рядом, поблизости, цесаревич нервозен.
Храповицкий понимающе склонил голову и вышел.
В эбеновой шкатулке с перламутровыми инкрустациями находились неоспоримые доказательства того, что отношения покойной жены Павла к его другу первейшему Андрею Разумовскому были не чем иным, как пламенной любовной связью. И, что в глазах Екатерины было много важней и преступней, в бумагах великой княгини были найдены компрометирующие ее документы о займе, сделанном через того же Андрея Разумовского у французского двора.
Сейчас, когда Павел столь необузданно предавался скорби, она считала, что раскрытие жесткой правды должно будет его немедленно исцелить и насильственно втолкнуть в действительность.
Павел почти вбежал на своих негнущихся ногах в кабинет матери.
Он держался прямо, высоко задрав голову. Эта привычка у него сделалась самой природой. Своей подчеркнутой надменной манерой он думал увеличить низенький рост и создать хоть слабую тень той представительности, которой в высшей степени обладала его мать.
Голубые глаза, слишком большие для его маленького роста и старообразного лица карлика, возбужденно сверкали. Судорога сдерживаемых рыданий подергивала его большой, маловыразительный рот. Он был в таком состоянии расстроенных чувств, что оказался не в силах присутствовать на погребении своей жены. Мать не могла этого не знать, чего же она сейчас может хотеть от него?
Павел безмолвно поклонился, поцеловал руку матери. Екатерина на минуту задержала его голову в своих маленьких руках, слегка стиснула лоб сына ладонями.

У Павла промелькнуло воспоминание о том, как, бывало, он в детстве мечтал о такой вот материнской ласке, чтобы хоть на один миг они в целом мире были двое – мать и сын. Как бы отдохнул он от своего грызущего, неотступающего беспокойства, которое уже помимо его воли разрешалось припадками ему самому непонятного гнева.
Сейчас ему было только неудобно стоять на коленях с откинутой головой, зажатой в полных сильных руках, пахнущих духами. А ласка матери до его чувств уже дойти не могла. Он давно своей матери не верил и ее не любил.
– Вы сейчас должны будете собрать все ваше мужество, сын мой, – сказала Екатерина по-французски и выпустила голову Павла из своих рук.
Павел выпрямился, вспыхнул и решил упрямо молчать, что бы ни сказала ему императрица.
Те же самые слова про необходимость мужества ему твердили все знаменитые, приближенные к малому двору старики, а он только хотел, чтобы его оставили в покое, одного с своим горем или с Андреем Разумовским, этим, как звал он его «ami fidèle et sincère» [91]91
Другом верным и искренним (фр.).
[Закрыть]. Он и покойная Натали одни были его опорой среди вихря корыстных партий и людей, для которых он был только средством их личных успехов. Сейчас вот и мать его хочет пытать, чтобы общественное мнение не корило ее за недостаток сочувствия к горю сына. Все у нее напоказ… Она покойную Натали совсем и не любила.
Из последних сил сдерживаясь, Павел очень вежливо сказал:
– Благодарю вас, матушка, за сочувствие; я полагаюсь на волю всевышнего бога, посетившего меня сим тяжким испытанием.
Екатерина почти блеснула на Павла глазами и молвила с расстановкой:
– А если этого горя, мой сын, вовсе нет? Верней сказать, его не будет сейчас, как только я перед вами раскрою всю правду.
Павел вздрогнул, невольно, как бы защищаясь от удара, выдвинул вперед руку.
– Что вы этим хотите сказать, матушка?!
– Я хочу сказать, – торжественно прозвучал голос Екатерины, – что как только вы глянете в глаза истине, однако не как оскорбленный муж и мужчина, а как наследник престола…
– Матушка, не томите… – рыданьем вырвалось у Павла.
Екатерина жестом правой руки указала ему на козетку рядом с письменным столом. Он бессильно опустился.
Протянув сыну правую руку, в которой чуть дрожали тонкие листки почтовой бумаги, исписанные размашистым мужским почерком, и другие листки, ответные, перевязанные розовой ленточкой, с знакомыми, чуть кривыми мелкими строчками недавно живой прелестной Натали, Екатерина веско сказала:
– Я полагаю, как добрый хирург, что наносить удар, необходимый для исцеления больного, надо сразу, не помышляя о причиняемой ему боли. И потому… Прочтите вот это сами.
Павел мучительно переводил глаза с любезно склонившейся к нему матери на пачку листков с милым почерком Натали, который он тотчас признал.
Как море в грозу, внезапно отяжелела голубизна его глаз. Они были темны и безумны.
Он раз, и два, и три пробегал пламенные строки любви, адресованные его любимой женой его первейшему другу. Сознание его медлило назвать словами причину боли, разрывающей его сердце.
Первая назвала она, его мать, императрица:
– Вы держите в руках черновики писем Натали к Андрею Разумовскому, мой сын, и подлинники его писем к ней, тщательно ею сохраняемые, как вещь, сердцу дорогую. – Екатерина указала на ленточку, которой была перевязана пачка. – Андрей Разумовский был возлюбленный Натали, и ребенок, который умер, не увидев света, был, несомненно, не ваш сын. Перестаньте же, мой друг, горевать.
Павел вскочил с козетки. Он вне себя бегал по комнате. Воспоминания, одно пронзительней и убедительней другого, подтверждая только что узнанную истину, вставали в его памяти. Все знали давно, все ему намекали. Один он не хотел понимать. Но что понимать? – Да только то, что первейший его друг Андрей Разумовский отнял у него жену его, Натали. А мать сейчас отняла их обоих…
Он остановился. Он не мог говорить. Закрыл глаза. Ему показалось, что он от боли ослеп. Он любил ее, свою Натали.
И странно, даже сейчас, в эту страшную минуту, он ненавидел не ее, а свою мать, императрицу, которая, чувствовал он, торжествовала. Единственная ее соперница устранена, и самая память ее обесчещена.
А Екатерина говорила уже деловым, ровным голосом:
– Разумовского я пока отошлю в Ревель. И подумать только, с этим дрянным человеком находил особое удовольствие беседовать сам доблестный историк Шлецер…
Острая боль с новой силой потрясла Павла. Его больное сознание содрогнулось от невозможности уже ничем спасаться от власти кошмаров своей мнительности. Чувство своей предрешенности, своей гибели ужаснуло его.
Рванувшись к Екатерине, сверкая безумными глазами, он выкрикнул:
– О, как жестоки вы, ваше величество, нанося мне эту рану!
– Вы забываетесь!
Екатерина приподнялась, поджала тонкие губы:
– Ваша мать хотела пролить на ваши раны бальзам.
– Бальзам!..
Павел, не помня себя, шагнул к матери. Екатерина испуганно потянулась к звонку.
– Не бойтесь. – Внезапная бледность сменила на лице Павла только что пылавший румянец. Он угрюмо и тихо сказал: – Хотя я ваш сын, я убийцей быть не могу.
Павел схватился за голову и выбежал из комнаты, отбросив всяческий этикет. На пороге будуара императрицы он споткнулся и без чувств упал на ковер.
Екатерина позвонила. Сбежались дежурные по дворцу, подхватили недвижное тело цесаревича. Все суетились, не зная, что делать.
Екатерина, не торопясь и вполне владея собой, приказала подоспевшему Храповицкому немедленно вызвать сюда Роджерсона, чтобы пустили кровь цесаревичу.
Радищев служил теперь в петербургской таможне, и так как не в характере его было работать спустя рукава, служба отнимала у него много времени. Утешительно было то, что старший начальник, Александр Романович Воронцов, в скором времени оказался близким по умонастроению другом. Он был сын известного канцлера, одного из немногих вельмож, оставшихся верными Петру Третьему после его низложения.
Александр Романович окончил в Париже военную школу, был поверенным в делах в Вене, затем послан в Голландию. Петр Третий пожаловал его в камергеры и перевел в Лондон.
К Екатерине Воронцов относился, по примеру отца, осудительно, и отношений его с новым двором не могла поправить даже сестра его, Екатерина Романовна Дашкова, в дни своего фавора.
Впрочем, и с Екатериной Романовной у царицы настоящей дружбы не вышло. Дашкова ретиво рвалась участвовать в перевороте, будучи еще только восемнадцатилетней женщиной, и роль свою бестактно преувеличивала. Она была только орудием в руках Екатерины, ошибочно почитая себя важным лицом в организации заговора.
Претендуя на первое место при Екатерине, Дашкова ревновала ее к Орловым и так в конце концов надоела императрице, что совсем лишилась ее расположения.
Екатерина не нашла в свое время нужным включить Дашкову в ту отважную цепь людей, которая ей доставила трон, и главные события июньского переворота прошли у нее за спиной. Она уподобилась пресловутой мухе из басни Лафонтена, которая, сидя на рогах у вола, хвасталась сделанной им работой.
Опираясь на эту басню, Вольтер добил престиж Дашковой при дворе, прозвав ее «la vaniteuse mouche du coche» [92]92
Хвастливая муха на воле́ (фр.).
[Закрыть]. Название привилось; Дашкова не обладала обаянием, ее не любили.
По характеру, который видело в нем большинство людей, Александр Романович Воронцов был суховат, угрюм, неподатлив, но одарен талантом государственным и немалым, весьма разносторонним образованием. Независимый ум его, возмущаясь произволом самодержавства русских властей, склонялся к относительной законности Англии. Вслед за Вольтером он любил повторять, что английский король хороший пример самодержавным монархам уже потому, что у него руки связаны, чтобы творить зло.
При дворе Воронцова прозвали «медведь», и Екатерина платила ему взаимной неприязнью, обидчиво говоря: «Таланты его суть не для службы моей».
Придворные ей зло намекали, что Воронцов действует часто для своих «прибытков», как его знаменитый взяточник отец, недаром прозванный «Роман – большой карман». Однако дела по таможенной службе, которые были у Воронцова с Радищевым, опровергали ходячее мнение.
Воронцов возбуждал зависть своей работоспособностью. Завадовский недаром говаривал про него: «Бумага – пища, его не насыщающая». Ползающим духом он не обладал и умел отстаивать свои мнения, если почитал их на пользу государственную.
Это качество, которым в высшей мере выдавался и Радищев, сблизило их. Вышла неприятная история, в которой Радищев смело пошел наперекор мнению старших своих сослуживцев, оказался прав и привлек к себе внимание начальника.
Обладая юридическим тактом, знанием закона и стремительной рыцарской честностью, Радищев отстоял невиновность некоего губернаторского чиновника, обвинявшегося в убийстве без достаточных улик. Своей же неподкупностью, строгим презрением к участию в обычном, особливо для таможенных служащих, взяточничестве Радищев остался неимущим на весьма выгодном в смысле доходов месте. Он этим снискал большое к себе уважение как Воронцова, так и других сослуживцев.
Несмотря на растущие траты на семью, где было уже трое детей, Радищев оставался нестяжателем, не искал обогащения.
Бескорыстие было редчайшим качеством для современников Радищева, и много толков шло в городе о том, как он проучил одно купца, ему настойчиво дававшего взятку.
Попался этот купец с контрабандой парчи и дорогих материй и наедине, в кабинете Радищева, стал просить его пропустить товар. Просьбу купец сопроводил протянутым Радищеву толстым пакетом с ассигнациями.







