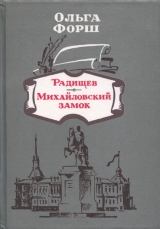
Текст книги "Радищев"
Автор книги: Ольга Форш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
Подмастерье Шихте сообщил вести еще более потрясающие, из которых все крепчало познание: «Наказ» наказом, а справедливости не было вовсе.
Некая помещица Салтыкова заистязала до смерти около двухсот человек крепостных, между ними двенадцатилетнюю девочку. За это в конце концов была судима, но, как дворянка, без применения телесного наказания, между тем как лакеи ее, которые единственно по приказу барыни истязали бедных жертв, нещадно на площади были биты кнутом.
Еще источником, из которого друзья узнавали понемногу истинное положение дел на родине за последнее время пребывания их за границей, был некий блестящий богатый гвардеец, который получил длительный отпуск для лечения. На самом деле, поговаривали, уехал он от конфуза, не выдержав во дворце испытаний по части амурной. Поговаривали, что оный гвардеец мечтал было попасть в фавор, но чем-то не потрафил и озлобился.
И ежели за счет злословия и вранья отбавить хоть половину его россказней, то и оставшейся было довольно, дабы смутить юношей, чаявших на самом троне найти поддержку своим справедливым прожектам.
Поняли они крепко одно: на родине ждет их полное несоответствие между законами и правами граждан. Комиссия уложений – не великая гордость, а тщеславная забава; сказать прямо – «кабинэ де лектюр». [63]63
Зал для чтения.
[Закрыть]
– Когда «Наказ» читали вслух, – болтал оный гвардеец, – то плакали все от умиления, а возможней всего оттого, что сама царица сидела в ложе и слеза могла обернуться наградой. А в общем, черт знает, какая неразбериха в оной комиссии: никто не ведает, как должно работать, то и дело теряют планы… Когда рассматривали торговые дела, Лев Нарышкин взял слово, и подумать, что именно стал читать? Нечто о гигиене. Иной член комиссии предлагал универсальную им изобретенную панацею против отмораживания ног! В таком роде тянулось дело в Москве, потом с грехом пополам перешло в Петербург. Матушка устала, соскучилась. К тому же пеночки все уже с этой затеи она посняла, ну, а тут кстати турецкая кампания… Бибиков, председатель комиссии, объявил, что «война призывает в ряды свои большинство депутатов, и комиссия сия закрывается». Злые языки говорят, – мне персонально до сего мало делов – продаю, за что купил, – злословил гвардеец, – что она, комиссия, не создала ни единого закона. Но Фридрих прусский царицу хвалил, берлинская академия ее сделала своим членом, в Париже пресловутый «Наказ» запрещен к опубликованию, – сие войдет в историю, – пытался он тонко, как дипломат, улыбаться. – А разве не курьезна перемена придворного фронта касательно Фридриха? Слыхали? То со слов матушки его величали не иначе как смутьян – perturbateur du repos publique, [64]64
Нарушитель общественного покоя (фр.).
[Закрыть]то вдруг разительная перемена. Ну, при дворе все секреты разнюхают. Оказалось, что при разборке бумаг покойного царя-супруга найдено письмишко, в коем юный Фридрих весьма лестно отзывался о разуме и талантах Екатерины. И вот: комплимент, сделанный женщине, изменяет всю политику царицы!
А старый один вельможа, тоже проезжий, хитро жуя тонкими губами, сам наслаждаясь своим остроумием, рассказал уже намедни последнее «mot» [65]65
Словцо (фр.).
[Закрыть]императрицы.
Когда матушка узнала, что Австрия захватила два староства у Польши, то с августейшей улыбкой изволила уронить, играя в ломбер: «Ежели эти берут, то почему бы не взять и другим». И присовокупила: «Явно, что в политике всегда во вражде начала справедливости и целесообразности».
От своих заграничных товарищей, из иностранных газет Радищев узнал, что, например, всем известное «дело Мировича», которое произошло за два года до их отъезда в Лейпциг, когда они еще были пажами и, не отставая от придворной клики, возмущались продерзостью жалкого пехотного офицера, – толковалось иностранцами не так-то просто. Европа насчитывает новое кровавое пятно на без того не весьма белоснежной горностаевой мантии русской царицы. Высочайший, дескать, претайный был с Мировичем договор об освобождении от неприятного узника, имевшего права на царство бо́льшие, чем у «ее величества Случая», как обозвал Екатерину в злой час Фридрих II. Были, дескать, Мировичу в случае успеха сделаны богатые посулы, и Мирович с совершенным спокойствием пошел на казнь. Он ожидал в последний миг помилования и тайных наград. Но Орлов якобы на пять минут опоздал – то ли замешкался, то ли угодить догадался, – только голова Мировича снята была с плеч. Европа разумно объясняла, что подобного сообщника в живых оставлять было бы слишком большим неудобством. И сколь ни покрывай хитрый Вольтер свою «великую корреспондентку» золотой лестью, выражаясь по-русски: у нее рыльце в пушку! Перед самым покушением Мировича, как нарочно, был освежен и подчеркнут настойчивый приказ: в случае попытки освобождения Иоанна Антоновича – его пристрелить.
Подмастерье Шихте, со слов товарища своего, приехавшего из России и имевшего доступ к Новикову, опять и опять докладывал, что, как никогда, народ был замучен работой и рабством, что чем сверху становилось пышней, тем страшнее убожество внизу.
– Герр Александр, – говорил Шихте, – ваш народ не имеет участия ни в каких великолепиях, за которые прославляют вашу царицу вельможи, – не верьте им. Кому от всех этих войн триумф? Престолу и дворянству. Народу вашему, как скоту, – одна бессловесная гибель… И что же происходит в отместку, какое опасное брожение умов?! Вообразите, короткое царствование Петра III вспоминается уже многими. Отнятие земель у духовенства, им было начатое, перетолковывается как начало освобождения. Ведь те, кои приписаны были к владельцам, получили свободу! Это толкование разносят устной молвой ваши раскольники. Они Петра уже почитают мучеником. Примите к сведению, задумайтесь… Чем все это угрожает? Навстречу каким событиям вы едете на родину?!
Многие немцы здесь, в Лейпциге, ужасались тому, что герой Семилетней войны генерал Леонтьев, женатый на сестре Румянцева, убит своими крестьянами за жестокость и что отдельные случаи расправы все множатся, ибо в комиссии уложения нет голоса крепостным…
Почти перед самым отъездом прислали Мишеньке деньги с таким достатком, что он мог наконец, как давно мечтал, приодеться по моде, чему словесно давно был обучен своей Лизхен. Сейчас красавчиком шел он на прощальную прогулку в Розенталь. Там уже его ждала Лиза с подружками.
Долго выбирал Мишенька, что ему лучше надеть: то ли темнозеленый кафтан при камзоле в красных цветах, то ли голубое платье, шитое золотом а ля бургонь. Прикинув то и другое, решил, что голубое ему, как блондину, будет авантажнее, и надел голубое.
Он научился маленькими глотками пить кофе, пробегая в газете смешной параграф из Езельвизе, научился курить длинную трубку, играть в модный l’Hombre [66]66
Ломбер (фр.).
[Закрыть]и на биллиарде. А голосом умел выводить разный щебет любовный, вздыхать на луну и целовать слезу на щечке возлюбленной. Волосы он носил круто завитые, когда ходил – как танцмейстер на ходу ставил ноги. Башмаки купил с пряжками, вместе с Лизхен и выбирали… А как весело было Лизхен дарить, – такая от всего ей радость! Платье подарил темно-синее с маленькими золотыми пупончиками, купил самую цветистую шляпку, как у приличных дам, всю в розах. И так было «гемютлих» [67]67
Уютно.
[Закрыть], как восклицает Лизхен, так с ней за эти последние неразлучные дни сжились – ну, сказать, новобрачные! И неужто навек расставаться?
Нарядный Мишенька пошел в Розенталь, роскошный парк, омываемый двумя реками: Эльстер и Плейсе. Здесь не много лет назад бродил столь сейчас знаменитый Лейбниц, размышляя о примирении Платона с Аристотелем…
Впрочем, Мишенька не думал ни об одном из этих трех мудрецов, как равно и о том, что убедительно на лекциях просил запомнить Геллерт. Эти по всей Германии рассеянные «Lokale» – все эти Розентали, Розенау, Розенфельды – были первоначально языческими рощами, посвященными божествам жизни и солнца. Отсюда, дескать, вытекает и то и иное… Но Мишенька служил сам, собственной персоною, этим радостным божествам и никаких научных выводов делать не хотел.
Тринадцать бесконечных аллей Розенталя все встречались, или, вернее, как речки в море, все впадали в огромный, необыкновенный по яркой зелени и пестроте цветов луг. Этот луг был любимейшим местом прогулок, беготни, любовных игр всей молодежи. Бюргеры и чопорные фрейлейн предпочитали выносить свои особы и наряды на модную Променаду с широкой аллеей.
В Розентале один Геллерт получил привилегию ездить верхом на своем «frommen Schecke», [68]68
Кротком гнедом (нем.).
[Закрыть]которого подарил ему принц Генрих, так что повозки и всадники здесь не мешали влюбленным. Мешали здесь, пожалуй, по словам Антиноя, «в лучшее время года комары, препятствуя развитию нежных чувств».
Сейчас, в осенний вечер, даже комаров не было, и восхищенный Мишенька с нарядной Лизхен, давно прогнавшей из легкого сердца всю зависть к Минне, сидели за маленьким столиком и кушали мороженое в павильоне с потешным именем «Ледяная мадам».
Грубость нравов, неизбежное наследие войны, к последним месяцам пребывания русских в Лейпциге уже окончательно сменилась слащавой вежливостью. Даже в только что вышедшей новой поваренной книге стояло: «Необходимо хозяйкам озаботиться изобретением особо вкусных домашних напитков, потому что немцы начинают стыдиться неблагопристойности опьянения».
– Сегодня будет замечательное зрелище, как нарочно всем вам на прощанье, – сказала Лизхен. – «Фрейе фрауен» будут чистить город от чумы.
И она рассказала Мишеньке про древний обычай, сегодня воскрешенный по случаю тревожных известий и появлении страшной чумы в России.
Мишенька сегодня утром получил русскую газету, где перепечатан был доклад «Чумной комиссии» императрице. Он бегло просмотрел доклад утром, не желая омрачать себе последнее свидание с Лизхен, но событие сейчас неожиданно напомнило само о себе. Мишенька вытянул газету и, пока Лизхен бегала к зеркалу поправлять развившийся локон, прочел: «…за громкими победами русского оружия, за Ларгой и Кагулом идет по пятам страшное поражение в виде моровой язвы». Дальше, после длинного столбца сетований и призыва милости божией, следовал доклад «комиссии для предохранения и врачевания от моровой заразительной язвы» в следующих выражениях: «Сколь ни обширны были земли и моря, объятые пламенем войны, и сколь ни многочисленны были неприятели, повсюду следы победоносного воинства российского блистали трофеями. Но с таковою видимою силою магометан соединился из недр суеверного сего народа невидимый неприятель, требующий сугубого сопротивления, непостижимым образом поражавший иногда войска. Была то моровая язва. Болезнь сия, чем далее неприятели удалялись от победоносных наших войск, тем более приближаясь к переделам империи, и наконец усилилась внутрь оныя в самом первопрестольном городе Москве».
– Скорей бежим к реке, началось! – И Лизхен, схватив за руку Мишеньку, потянула его за собой к воде. Перед ними бежали со смехом такие же веселые парочки. Все на ходу кричали наспех друг другу про древний обычай топить «Черную тетку», про необходимость, чтобы этот обряд совершали непременно freie Frauen – публичные женщины. Однако тревога оказалась ложной, и на берегу реки, кроме садящегося в воду, как в ванну, большого красного солнца, никого еще не было.
Парочки весело расположились по крутым склонам на траве. Разговор вертелся не на чуме, которая была так далеко отсюда, в какой-то холодной Москве, где бегают, как собаки, белые медведи. Разговор шел о действующих лицах сегодняшней процессии – о «свободках». Мишеньке был предмет интересен, он расспрашивал подробно и узнал немало забавных вещей об обычаях города.
Публичные женщины прозывались freie Frauen, сиречь «свободки». Они были исключены не только из общества бюргеров – они были исключены из всех цехов. Нравственность цехов была под строгим надзором. Так, подмастерья ткачей должны были каждые две недели давать точные сведения о женщинах, с которыми жили. Также булочники и сапожники. В случае если подмастерье-сапожник путался со «свободкой», мастер обязан был не давать ему никакой работы. «Свободкам» запрещалось пребывание в погребках, разнос вина посетителям, не допускалось и появление их в семье или обществе. Они жили в особых «хурхаузах».
Но в «хурхаузы» поступала только часть женщин; их звали «die frommen Huren» – «благочестивицы». Прочие, практикующие тайно и в одиночку, звались «die heimiliche Dirne» – потайные девки. Все дома веселья были в тихом предместье Галлишертор…
– Женатым нельзя ходить в эти дома, – прошептала Лизхен, прижимаясь к Мишеньке, и лукаво добавила: – а тем холостым, у которых есть своякрасивая мегден, тем и не хочется, не правда ли, мейн цуккерпюпхен? О, им много что запрещено, этим женщинам, – с удовольствием болтала Лизхен, – им нельзя носить кораллы, вот такие, как ты мне подарил.
Лизхен с гордостью стала перебирать висевшую на ее шее рогатую алую нитку, которая, оказывалось, была в конце концов аттестацией добродетели. Мишенька расхохотался и покрыл Лизхен поцелуями.
– Ну, Лизхен, похвастай еще.
– А еще им нельзя подбивать мантильку шелком, как подбито у меня, им запрещено в церкви смешиваться с порядочными. Они стоят особо…
– А если они не послушают, а если они подобьют мантильку шелком, – ворковал Мишенька в розовое ухо Лизхен, – тогда им что?
– О, тогда они платят штраф. Анна из Франкфурта наказана штрафом, – она носила серебряный пояс. Длинная Грета за шлейф платила столько же, это все знают. Ну, конечно, если зарабатывать очень много, то на штрафы плевать. Зато как приятно подразнить жену бюргермейстера, что ты одета шикарней ее! Ведь это им только вследствие просьб знатных дам все эти запрещения. Бюргеры подают вечные жалобы, что жены не дают им покоя, будто «благочестивицы» назло им одеваются роскошнее, чем они… Идут, идут! – прервала себя Лизхен и вскочила с травы. За ней вся толпа поднялась и вытянула шеи, жадно разглядывая приближавшуюся процессию.
– Это самые красивые идут впереди, – шепнула Лизхен. – О, какие у них веселые, какие чудные плащи!
Женщины молодые, по большей части красивые, в огненножелтых, солнечных плащах с длинными голубыми шнурами, волокли на веревке громадное соломенное чучело. Чучело было в черном саване с круглыми, нашитыми на черное, ярко-красными пятнами. Это было символическое изображение страшной чумы, по прозванию «Die schwarze Tante» – «Черная тетка».
Женщины пели мрачные погребальные песни и медленно тянули веревку. Шурша травой, скользило черное чучело. За процессией следом все спустились вниз, к самой воде.
Когда совершенно стемнело, женщины зажгли погребальные факелы и, раскачав над обрывом «Черную тетку» с привязанным к шее камнем, бросили ее в самую середину реки. Когда соломенная дама потонула, погребальные песни сменились внезапно песнями дикими, плясовыми. Не выпуская факелов из рук, девицы стали водить освободительный, торжествующий хоровод. С горящими факелами и с песнями они ушли обратно в свой «женский дом».
– Виват! – кричали студенты. – «Черная тетка» подохла в реке!
– Как бы freie Frauen, наши спасительницы, в свою очередь не наградили город чем-нибудь в этом же роде… – проворчал толстый аптекарь. – Гляди, вместе с их хором исчезла и добрая половина гулявших здесь молодцов.
– Признайтесь, герр Шнейдер, снять вам десяток годиков – и вы бы красавицам вслед показали хорошую рысь…
– Ах, Лизхен, милая Лизхен, – сказал с внезапной печалью Мишенька, – у вас тут театральные шутки, а я вот завтра уеду на родину… А на родине встретит меня не соломенная кукла «Черная тетка», а страшное поражение в виде моровой язвы, и с ней вместе ждет меня превеликая без тебя гипохондрия!
– О мейн цуккерпюпхен, продай свой родовой замок и возвращайся обратно! Возвращайся скорей, здесь будет ждать тебя твоя верная Лизхен.
«А ведь и вправду, – подумал, зарываясь лицом в благоуханные локоны, Мишенька, – и вправду братец Федор Васильевич завещал мне ранний брак. И свободы своей я с Лизхен уже никак не потеряю…»
Радищев тоже смотрел на потопление чумы «свободками» – с другой стороны реки. Там, в мало кем посещаемом уголке, назначил ему Шихте свидание, чтобы познакомить с приятелем, приехавшим из России. Приятель был некто Ицелиус, переплетчик сухопутного шляхетского корпуса в Петербурге.
Ицелиус, живя в России, порой ездил наведываться к родным и совершенствовать заодно свое дело. Закупить тесненых, позолотных, разводчатых материалов для переплетов, посмотреть знаменитые лейпцигские образцы, набрать именитых сочинителей для перевода.
Радищев надеялся узнать от Ицелиуса самые последние правдивые новости, как это бывало раньше со всеми знакомыми Шихте. Так было с подмастерьем мастера Веге, который жил на луговой Миллионной в Петербурге и продавал еженедельное издание новиковского «Трутня» по одному рублю сорок копеек, а порознь – по четыре копейки за лист. Тот подмастерье подробно рассказывал о фаворитах, о раскольниках, о лже-Петрах, прибавляя дерзновенно, что не удивительно подобное брожение мыслей в стране, где воображение всех авантюристов возбуждено примером и удачей самой царицы.
Но Ицелиус был странно немногословен. Он только сразу сказал, что у него имеется поручение к Радищеву, но насчет жизни двора он осведомлен мало, ибо его интересуют одни, – подчеркнул он голосом, – «истинные властители» душ.
– Кто ж таковые будут?
Ицелиус тотчас ответил, как будто только и ждал вопроса:
– «Истинные властители» суть те, кои слились в братском твердом желании вести всех к свободе путем, каким народы единственно могут сами идти, а не путем, предрешаемым произволом единоличных правителей-деспотов.
– Но, признаюсь, – прервал Радищев, – я не охотник до тайн, тем более масонских. Недавно одно смехотворное происшествие у меня отшибло последний к тому вкус. Так что, ежели поручение ваше будет к обществу «тайному», прошу прощения – я не передатчик!
– Однако ужель непонятно вам, что лишь тайна строжайшая может обеспечить успех в таком, например, предприятии, как намерение раздобыть если не полную свободу, то хотя смягчение участи несчастных рабов вашей собственной родины? Разве не есть мудрая предусмотрительность, если на поверхность движущих дело пружин для власть имеющих глупцов будет наброшена золоченая мишура? Как иначе прикажете делать отбор в столь важном деле?
У Ицелиуса была узкая длинная борода, мохнатые нависшие брови и под ними спокойные ребячьи глаза.
«Не иначе – какой-то святой козел», – подумал про него Радищев, но человек этот ему сразу понравился.
– Наконец-то я слышу дельную речь, – сказал он с улыбкой, – речь без утомительных символов, на которых просто помешался мой близкий друг Кутузов. Эти символы – непонятная мне ерундистика…
– О, это не совсем точное выражение, – покачал головой Ицелиус, – символ отнюдь не бессмыслие. Совсем наоборот – это, так сказать, усовершенствование нашей речи. Объединение многих соответствующих законов под одним условным знаком, дабы важную мысль выразить кратко, – вот это что. Впрочем, довольно о подобных материях; я не уполномочен вам в этой области что-либо сказать. При вашем желании, по этому предмету у вас могут произойти там, на родине, более подходящие вашему образованию встречи, нежели с неученым переплетчиком, каков есть я. И поручение мое к вам относится не к какому-либо обществу, а к отдельной персоне. Вы сейчас являетесь тем, что мы зовем «правильный канал» для передачи письма одному крайне почетному человеку. Вы знаете наверно, что на почте у вас сидят прелюбопытные лица. Они любят читать чужие письма раньше адресатов, что притом для последних не всегда весело кончается. Почетный человек, кому адресован данный пакет, – Ицелиус вынул из кармана большой запечатанный конверт, – есть один известный журналист и издатель. Вы, может быть, читали, он пишет под именем…
– Правдулюбова! – почему-то подсказал Радищев.
– Именно так – по журналу. А в жизни частной он – Николай Иванович Новиков. Письмо отменно важное, и Шихте мне сказал, что вы есть верный человек и передадите не иначе как в собственные руки, – улыбаясь и шевеля бородкой, закончил Ицелиус.
– И с превеликим притом удовольствием, – пожал ему крепко руку Радищев.
Совсем близились дни отъезда. Уже сданы были все испытания в университете и получены похвальные дипломы. Уже многократно отпраздновали прощальные ужины с немецкими товарищами. На законном основании осушили немалое количество бутылок, горланя ерундовскую застольную песню:
Отпразднован был прощальный обед с профессорами в трактире «Голубой ангел». Слушали напутственные умные речи, с горячностью говорили ответные. Давали обещания воздать на родине своей деятельностью честь учению любимого Эрнеста Платнера. Этот профессор умел, как никто среди их учителей, убедительно сближать отвлеченность положений философских с вопросами насущного социального характера. Клялись искоренять вопиющую неправду между классом имущих и правами обойденных. Вообще всю теорию права во славу коллегий Лейпцига обещали превратить незамедлительно в практику.
Невысокий, изящный Геллерт тихими, печальными глазами долго смотрел в глаза русских юношей, пожимал им руки и проникновенным голосом говорил:
– Несите, дорогие друзья, несите в порабощенную страну понятие о свободном человеке. Но будьте же и вы сами на высоте ваших слов…
Пришел проводить русских студентов и старый учитель рисования Цинк, сейчас мудрый слепец, которого водил за руку юноша ученик. У Цинка было благородное лицо со старинного портрета, полное дедовской благожелательности. Пришел и антиквар Вендлер, прелестный чудак, который, как Диоген, раздав все свои драгоценности, не имел даже постоянного пристанища. Эзер написал его портрет, Баузе сделал с этой работы чудесную гравюру, профессор Клодиус – подпись стихами. Типография размножила оттиски, и старик, продавая себя самого, – как он весело шутил, – добывал себе пропитание.
Пришел и Якоб Райске, ученый, основатель арабской филологии, тоже старик, никогда не уверенный, будет ли у него назавтра обед…
Все эти полунищие замечательные ученые и бескорыстные чудаки крепко жали руки юношам чужедальней стороны и как бы желали перелить в их сердца свою, доказанную долгой жизнью, беззаветную любовь к знанию и искусству.
Наконец дорожный возок русских был собран. Уже там лежал упившийся с горя Мишенька, а Середович, нетвердый сам на ногах, держал перед ним на прощанье «посошок» немалой вместимости, в то время как Лизхен и Минна, объединенные общей скорбью, лили поодаль тихие слезы.
Радищев и Алексис в последний раз взбежали на высокий холм кладбища. Здесь оставляли они навеки прах «вождя юности» – Федора Васильевича Ушакова.
С кладбищенского холма город хорошо виден был весь. Колокольни старых церквей, и крепостные башни, и цеховые дома с высокими крышами, и ратхаус, где столько веселых банкетов было отплясано вместе с милыми горожанками…
Четыре мельницы наперегонки работали на голубоводной Плейсе. Краснела блестящая черепица в осенней зелени пышных садов… Так все было здесь близко знакомо, такой любезной сердцу второй родиной успел сделаться город Лейпциг. То тут, то там с невольной улыбкой отмечали, как рука Эзера, ненавидевшего рококо, наставила белые колонны, огромные урны, повитые розами. Это из-за них начитанные горожане, увлеченные Винкельманом, пренаивно гордились, что их немецкий купеческий город превращен в древнегреческий.
Как все здесь мирно, как располагает к наукам! И ни за что нет ответа. Даже отвратительная смертная казнь – там, на окраине, в Рабенштейне – касается будто не Лейпцига. Эта смертная казнь… уж не подготовка ли к тем потрясающим событиям, которые на родине ждут русских юношей?
– Окончилась юность наша, – сказал тихо Кутузов. – Да поможет нам память друга в трудном служении нашей отчизне.
Радищев стоял, глубоко уйдя в себя, и безмолвствовал.

– Нам пора, Сашенька, – позвал Кутузов.
Радищев тряхнул головой, взглянул на приземистую тяжкую башню крепости Плейсенбург. Здесь, в нижней зале, перед большой картиною Эзера ему как бы самой судьбой было недавно сделано одно решающее предложение. О нем думал он все последующие дни, ища точной формулировки своего ответа.
Уму, ведущему перед собою отчет, подобный вывод – необходимость, чтобы собрать воедино все силы. Так необходима плотина реке, когда предстоит ей делать большую работу.
И, непонятно для стоящего рядом Алексиса, обращаясь мысленно к одному вождю своей юности – Федору Ушакову, Радищев громко с твердостью сказал:
– Нет! Будь я даже сам Шекспир, ни к какому бессмертию один я двигаться не желаю.
1932







