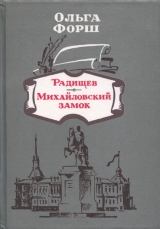
Текст книги "Радищев"
Автор книги: Ольга Форш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
Наконец тоска отпустила Радищева. Он стал думать о простых и привычных вещах, вызванных родными местами: валяют ли шерсть овечью на домашней сукновальне в сукно черное, смурое и белое, годное на полосы для онуч? А то, ярко выкрасив шерсть в крушине, из нее ткут пояса?
– А кто сейчас первая ткачиха у вас на селе? – спросил Радищев у возницы.
– Была Матрешка Климова, – ответил кучер, – да она от слез, слышно, ослепла. – Ямщик повернул к Радищеву узкобородое лицо. – Двух сынов у нее в солдатах забили. Как у нас тут пугачевские молодцы хозяйствовали, они с ними дальше пошли против Михельсона, да в первом бою и полегли.
– А страшно было, Семен, при Пугачеве?
Кучер, хотя никого вокруг не было, понизил голос:
– Как знаем мы сызмальства твою добрую душу, Лександр Николаевич, тебе целиком можно правду сказать… А правда – она вот: никакого страху нам не было вовсе. Но сейчас ты о тех днях мужиков не дюже расспрашивай сразу-то. Ведь поотвыкли они от тебя, а тут, чуть кто забалакает – в Саратов его! Оттуда дале, в секретную следственную комиссию. Там, брат, не скоро выпустят! В очевидцы определят – ну и докладывай им: кто был из деревенцев с Пугачевым заодно. Скольких замучили, зато остатние, все как один, воды в рот набрали – молчат. – Семен, держа в руках вожжи, опять повернулся всем телом к Радищеву. – Так что злодейства ихнего мы, барин, вовсе не видели! Соль выдали даром, на семена ржи отпустили… до нашего брата мужика милостивы были государевы отряды, то бишь злодеевы… – поправился тотчас Семен, ничуть, впрочем, не меняя выражения голоса. – Впрочем, батюшку твоего с семейством, это точно, искали, – склонившись к Радищеву, сказал Семен шепотом, как будто родителям его и сейчас угрожала та же беда и, говоря громко, можно было им повредить.
– Зачем искали батюшку?
– А чтобы повесить! У них таков был закон: всех помещиков вырезать, освободить от них нас, крестьян. И землицу всю миру… Но как мы стали доказывать, что не обижены, а премного довольны старым барином, а что матушка ваша всю деревню лучше лекаря лечит и всякому мать сердобольная, то сказала нам ихняя власть: ну и черт с ними, коли вы дураки! Интересоваться повесить наших господ больше не стали. А мы, не ровен час, опять спьяну они хватятся да вздернут, как прочих лихих уже вздернули, мы взяли да и попрятали родителей ваших и братцев малых. Им мордочки сажей помазали, чтобы сходственно было с деревенскими ребятами. Ну, слава богу, пронесло… все твои, барин, живы!
Радищев молчал, слезы душили его.
– Ни у нас усадебка сожжена, – указал кнутом возница на красневшую вдали за березами крышу дома, – ни разрухи не сделано, сам, чай, видишь!
«Чем отблагодарю их великодушную, их простосердечную доброту? – потрясенный до глубины души, собирал свои мысли Радищев. – Они «мазали мордочки» барчукам, тем самым, которые от рождения уже имеют жестокое право, когда наступят их годы наследственной власти, сделать безнаказанно все, что им взбредет в голову, с их родными, детьми и внуками. А крестьяне, спасая от неминуемой гибели всю семью помещика, даже и не подумали поставить ему условием этого спасения хотя бы освобождение собственное от подлой крепостной зависимости!»
У крыльца господского дома никто не стоял с хлебом-солью.
Только заслышав колокольчик и любопытствуя узнать, кто приезжий, двинулся к воротам цветник из узорчатых панев, какие здесь носят замужние, девки в длинных расшитых рубахах, парни в рубахах с красными наплечьями и ластовицами. День был праздничный.
Отец и мать, постаревшие от пережитых испытаний, не веря глазам своим, спешили из дальних покоев. Мать протянула сыну руки с высокого крыльца. Спасенные деревенцами братья прибежали из сада. Радищев разрыдался, обнимая родных.
Вечерний чай внес в просторную беседку, на серебряном большом подносе, важно его от себя отставляя, не кто иной, как старый дядька покойного Мишеньки – неистощимый бодростью Середович.
В белых нитяных перчатках и чулках, досиня выбритый, он торжественно водрузил свой огромный поднос, полный печений и варенья.
Середович с достоинством поклонился Радищеву, без удивления встрече, словно вчера его только видал:
– С приездом, барин Александр Николаевич!
Радищев его радостно обнял.
– Ну, братец, тебе на роду, видно, написано возникать, словно волшебнику Мерлину, там, где тебя и не ждешь! Какими же судьбами ты у моих родителей?
Несколько сконфуженный, Середович пробормотал невнятное и поспешил, забрав посуду, скорей удалиться, а отец рассказал о нем Радищеву любопытное происшествие.
После отбытия пугачевцев из Облязова мужики один за другим стали тайком признаваться, что за дальним хутором в шалаше залег некий «царский вельможа». Обзывает-де себя «камерхер». И, ровно сказочный Змей Горыныч, обложил он вокруг данью деревни: кого яйцами, кого хлебом, не брезгуя ни вареным, ни жареным. Особливо же падок камерхер на хмельное. А за неуваженье грозит полки царские, пугачевские вызвать обратно в Облязово на постой.
– Ну, изобретатель! – смеялся Радищев. – Как же вы этого камерхера словили?
– Настойка твоей матери с ног свалила. Больно хороша да крепка – перехватил камерхер. Бабы наши выследили, связали его сонного по рукам и ногам да на водовозке и привезли. Заперли в баньке выспаться. Он же, когда очнулся, очень рад оказался, что пребывает на земле Радищевых. Я, говорит, вообрази, Александр, нарочно в пути своем на их вотчину курс держал, как мы с барчуком вместе в Неметчине обучались!
Очень полюбился моим дворовым, все, как один, просили за него: вовсе не вредный он, говорят, «камерхер», а коль выдать его властям – засудят.
И так он сам с твоей матушкой таково толково и связно болтал про тебя и про Алексиса Кутузова, что мы семейным советом и порешили укрыть его у себя. Наш отец Петр подверг его легкому церковному покаянию, мать твоя приказала ему раза три хорошенько попариться в бане, дабы скверну злодееву выбелить, и взял я его в дворецкие, по вольному найму. Видал, сколь важен в должности?
Отец передал Радищеву камергерские знаки Середовича – петровский рубль с приделанным ушком на пестрой ленте на предмет ношения через плечо.
Радищев пробыл в доме родителей всего несколько дней. И по службе нельзя было ему опоздать на московские торжества, да и самому пребывать долее было тяжело.
Перевидал он своих сверстников, былых товарищей – ныне семейных мужиков. Заставляя их говорить, жадно слушал, какие новые мысли запали в их головы после пронесшейся на их глазах пугачевской грозы.
Барина мужики в нем не чувствовали, то и дело именовали, как в старые годы, Сашенькой. Отец и мать далеко окрест славились как добрейшие, милосердные люди. Девки за счастье почитали выйти замуж в Облязово. Получившие отпускную на волю уходить не хотели, доживали тут же, старея вместе с господами. Радищев при таких особых условиях в своем поместье мог надеяться услыхать действительно искреннее мнение деревенцев о пугачевщине и самом Пугачеве.
– Справедливый был батюшко, – определили все в голос, – он правильно шел противу лютых помещиков, и от рекрутчины вызволял, и оброчные снял, и все запреты лесные, рыбные, полевые разрешил. При нем это точно было, – вздохнули мужики.
Но мысли о том, что рабства вообще не надо бы, у крестьян и в помине не было – так испокон от бога положено: вы – наши отцы, мы – ваши дети! А коль скоро «отцы» залютели, Пугачев-батюшка их урезонит. Не он, так другой. А порядок неплох… порядок грех и менять. Не мы господ ставили, не нам и снимать! Бог над царем, царь над господами, они над нами. Слава богу, наши-то хороши!
С родным отцом тоже напрасно пытался Радищев заводить разговор о недопустимости истинному христианину иметь себе равных рабами.
Отец отвечал с кротостью своеобразного, не показного благочестия, сердечно убежденного в том, что мужики вручены ему самим богом:
– Все мы рабы божьи. А старшим из нас поручено пещись о младших, что по всей силе и совести мы с твоей матерью и делали всю нашу жизнь. За сии качества своими же людьми, жестокосердным помещикам не в пример, и были недавно взысканы.
Сочувствие своим взглядам и понимание существа своего дела Радищев пока встретил неожиданно только у одного Середовича.
На закате, после обеда, любил Середович сидеть на большом пне при входе в рощу, где преудобно чистил мелом господское серебро.
Радищев его окликнул и сел рядом на траве.
– А у меня к вам просьбишка, Александр Николаевич, – сказал Середович. – Казачок барский Мишка мне сказывал, что мою медаль с лентой старый барин отдали вам именно. Так уж вы их в музей какой аль в комиссию не сдавайте! Вы их для меня на память вечную сохраните!
– На память о чем? – спросил тихо, с намерением невыразительно, Радищев, боясь оказанным интересом спугнуть мысль собеседника.
– А на память хотя бы о том, как я человеком был! – с весом сказал Середович. – Нонче снова я грязь, а давеча, у Надёжи-то? Давеча был я князь! – пояснил он. – Там в его, Надёжином, штабу каждому по его талану цена. Будь ты хоть рваные ноздри, татарин, башкирец аль какой беглый, ка́том царицыным поротый-перепоротый, а коли есть в тебе сметка да удаль – на, пожалуйста: командуй хоть артиллерией!
– За что ты в камергеры пожалован был? – простым голосом продолжал Радищев.
– Значит, стоило, – уклончиво ответил Середович. – Только на деле доказать себя мне не пришлось – проклятые немцы все в Астрахань утекли. Одни цветы еоргины оставили.
– Знал ли ты, Середович, что Пугачев – самозванец? Ведь не царь же он Петр в самом деле?
– Ну, а чего было мне узнавать? За ним народушко шел охотой. Тыщами шел. Солдат царицыных небось в зад штыком гнать надо, чтобы воевали, а к батюшке охотничков столь много валило, что мы одних лошадных примали. А публикации Надёжины все хозяйственные, деловые, мужику нужные. Нет того, чтобы там сатаной да огнем вечным пужать…
И сколько ни рассказывал Середович Радищеву о том, как «мы потеряли из-за окаянства донских казаков», как «старшина русская и башкирская первая предавать Надёжу стала», как Михельсоновы войска одним перевесом оружия взяли верх, – голос его не спадал с уверенности в своей правоте, и ни малейшего раскаяния в пребывании своем у Пугачева старик не обнаруживал.
– Слушай, ты, – сказал в конце концов Радищев, – только ни с кем другим так не балакай, как ныне со мной. По теперешним временам, знаешь, куда угодить можешь?
– Я и с вашим батюшкой, сколь они сами ни милосердны, умных речей не веду, – сказал с важностью Середович, – как у старого барина, конечно, нету заграничного просвещения.
Радищев расхохотался и дал Середовичу слово выписать его к себе в Петербург на вечное жительство.
Радищеву после первых радостей встречи стало вскорости непереносимо в деревне.
Если самого Облязова не коснулся страшный голод того года, то вести о нем доходили со всех сторон. «Хлеб» голодающих был даже не тот нищенский, описанный Радищевым еще в «Деревне Разоренной», – там к трем частям мякины прибавлялась хоть одна-то часть несеяной муки. Сейчас хорошо, если мякина добавлялась к древесной коре и сушеному мху.
Настойчиво вставали в памяти картины только что свершенного пути через места разорения, мимо незасеянных полей!
Вставали перед Радищевым то угрюмые, на канатах влекомые «возмутители», то изможденные, с мукой смертной в глазах, матери и подростки, которые по «удобной казенной цене» рыли валы вокруг сел. Валились лопаты из обессиленных рук, люди падали замертво…
Про ужасный этот голод неоднократно писал и граф Панин, но это замалчивали в обеих столицах. Там шла подготовка к роскошным празднествам мира и успокоения страны от злодея.
Кроме того, расправы за участие в пугачевщине продолжались. У наезжавших соседей-помещиков только и речи было о том, у кого сколько изъято дворовых на виселицы и глаголи – длинные шесты с перекладиной в верхнем конце и петлей.
Все чаще уединялся Радищев в дальний лес, где, бродя до позднего часа, мучился своими, не отпускавшими совесть, мыслями:
«Все дары земли, начиная с хлеба и кончая свободой, отняты от крестьян. Вечная воловья работа в ярме – вот жалкий жребий его. Он как заклепанный в узы…
И вот едва попытался ярмо свое сбросить – ему смертная казнь, кнут, Сибирь. Каждую минуту он может быть продан, как скот, и все виды медленного отнятия жизни и сил применяют к нему даже лучшие из господ».
И перед бедными избами, крытыми соломой, перед возлюбленным «белокурым океяном» налитого, спеющего колоса, – как в ранней юности, вознесенный чувством рыцаря, повергающего в единоборстве дракона-насильника, – Радищев давал себе самому горячую клятву, что он положит всю силу, всю волю, чтобы вместо несносного мучительства рождена была рабам вольность.
Простившись с родителями, Радищев поехал в Москву и прибыл как раз к знаменитому празднеству по случаю Кучук-Кайнарджийского мира.
Иные дворяне не без основания добавляли, что празднуется перво-наперво не победа над султаном, а победа над Емелькой – мужицким царем.
По обе стороны дороги, где надлежало проследовать главному виновнику торжества – графу Петру Александровичу Румянцеву, воздвигнуты были пирамиды, украшенные транспарантами, картинами его побед.
В последнем селении перед Москвой соорудили триумфальные въездные ворота. Туда еще с прошлого вечера нагнали народ, чтобы он прокричал при проезде громовое «ура» триумфатору. Но Румянцев, с разбегу, по-дорожному, пролетел, словно молния, мимо сих торжественных сооружений. Так-таки на глазах у всех он объехал ворота.
И тотчас пошла болтовня: как бы нам и победы его не вышли-то боком!
По Кучук-Кайнарджийскому миру Россия получала Азов, Кинбурн, южные степи, торговые выгоды и большую контрибуцию.
Накануне праздника Радищев шатался по Москве. Он смотрел, стоя на Ивановской площади, как подымали огромный колокол, несколько тысяч пудов весом. Колокол водружен был на высокий помост из крест-накрест положенных бревен.
– Таким-то манером на помостке и наш батюшко недавно стоял…
Радищев обернулся. Он понял, что разговор шел о Пугачеве. По обличью говорившие были горожане, каких много, либо мастеровые в праздничный день.
– Истинно, звонил он, ровно колокол… да беда, язык вырвали.
Тот, что постарше, понизив голос, добавил:
– Дай срок, новый будет звон, – чай, опять соберется народушко…
Утром в день празднества сигнально грохнули пушки, и лейб-гвардия и полевые полки стали, как врытые, по обе стороны улиц, по которым церемониал должен шествовать от собора через Никольские ворота по Неглинной и Большой Моховой улицам до дворца, что у Пречистенских ворот.
Дамские персоны имели быть в робах. Кавалеры – в уборах своих орденов. Вся прочая публика – в цветном платье.
Екатерина сошла с красного крыльца в полном императорском одеянье, в порфире и большой короне. От ударов только что привешенного колокола закачалась колокольня. Оглушительно изверг дьякон многолетье в соборе, и медным рыком ему ответили пушки.
Перед шествием бежала пурпурного сукна дорога, трубы играли золотом в синем небе, и был звук их – победа и торжество.
Поздравления Екатерина принимала в Грановитой палате от знати московской и приезжей.
Ходынский праздник аллегорически изображал тот клочок Крыма, который русские приобрели по заключенному только что миру.
Окружающая триумфальные постройки равнина знаменовала собой «Черное море», а дальше шли «степи Барабинские», предназначенные для забав одного лишь подлого люда. Здесь были круглые карусели, шесты для лазанья за призами, канаты для бухар-канатоходцев.
Для забав дворянских посреди «Крыма» воздвигнут был роскошный павильон – «крепость Керчь». Подале шел полукружием «торговый город Таганрог» с красными рядами. Пущен был слух, что раздача товара предстоит безденежная, и несметна была перед сим «Таганрогом» толпа.
Против главного павильона, сиречь Керчи, стоял в высокой зеленой траве, как в волнах Черного моря, трехмачтовый громадный корабль с галереей для лицезрения въезда монархини и фейерверка.
Везде на часах, сияя серебром касок, белыми страусовыми перьями и перевязью на груди, – на подбор пригожие и статные унтер-офицеры из дворян. Граф Румянцев и Потемкин, тоже новоиспеченный граф, прибыли в карете цугом на Ходынку. Им отдали честь лейб-гренадеры и другие войска.
И не преминули пустить тотчас злословные остряки: кому почет за турку, а кому и за Амурку.
Особливой пышности был сегодня въезд матушки с цесаревичем Павлом. Едва сверкнула золотая карета, – ровно второе солнце, упавшее на землю, ее прокатили по полю белые кони, – грянули пушки, ударили литавры морской музыки на судах нарочно устроенного флота на обширных зеленых лугах.
Церемониймейстер двора поднес Екатерине роскошно разрисованные планы и куншты назначенных увеселений, и празднества начались.
Народу дарованы были для насыщения четыре целиком жареных быка с позлащенными рогами и огромное количество другой живности помельче. Фонтаны забили белым и красным вином.
На ступенчатых пирамидах, убранных узорчатой камкой, насыщались московские жители. Зрение их услаждено было пляской цыган и бухарцами, кои двигались, как по воздуху, по канатам.
Ужель между них сидят и те самые, кои столь в недавнее время кричали: «Да здравствует Емельян Пугачев!»?
Радищеву стало невесело смотреть на протянутые руки и жадные лица с одной мыслью получить кусок пожирней. Он двинулся к павильону «крепость Керчь».
Охватывая взором не слишком великий клочок земли, отведенный под Крым, он не мог не подумать невольно, плодом каких народных бедствий и без счета пролитой крови присоединен сей клочок.
Перед таганрогскими красными рядами, не похуже, чем простой народ перед жареными быками, с той же жадностью во взорах все еще стояли, дожидаясь даровой раздачи, болтливые как сороки мелких и крупных чинов госпожи.
А в круглой азовской каланче, воздвигнутой к празднику, был накрыт обеденный стол на множество кувертов. Посреди восседала сама царица, окрест нее – ближние придворные и знатные лица.
Всем дворянам сюда был свободный проход.
Самодержица великой многоязычной империи, избрав близким сердцу отныне одно лишь сословие благородно рожденных, Екатерина здесь сама была только им равная, дворянка, казанская помещица.
Радищев, стоя у колонны, скрытый от любопытных розовым трельяжем, отлично все слышал и мог наблюдать.
Екатерина говорила о празднике, сияя великолепием наряда, упоенная торжеством водворения мира внешнего и внутреннего.
– Прошу моих гостей запомнить, что фантазия зеленый луг превратить в Крым принадлежит мне. Первоначальный поданный мне проект изобиловал глупыми аллегориями времен Юпитера, Вакха. Я призвала архитектора Баженова, я сказала ему: «Близ Москвы есть чудесный луг. Немного воображения, и вот уж он – Черное море. Одна зала для банкета – Азов, другая – Кинбурн. Вы создадите мне в завоеванных нами землях сказочные павильоны с напитками и фонтанами, а там, за Дунаем, мы дадим фейерверк, какого еще мир не видел!» Правду сказать, твердая земля не совсем похожа на море, – Екатерина улыбнулась самой чарующей из своих улыбок, – но надеюсь, что вы, дорогие гости, и даже взыскательная история за все удачи нашего оружия на действительном море извините мне сию маленькую погрешность на суше!
Гости говорили мадригалы, оркестры заглушали речи гостей, и всех звуков сладостней хлопали пробки французских шипучих вин.
Радищев ушел не окликнутый из азовской каланчи. Он никем и не хотел быть замечен, столь его скорбное настроение духа противоположно было сей парадной гульбе.
Он знал, конечно, что и сам не уйдет куда-либо в пустыню из жизни людей своего круга. Знал, что вот скоро женится на милой Аннет, должен будет заняться домом и службой и, быть может, утратить сие пронзающее ум состояние. Да в подобном и пребывать долго нельзя. Вот только бы довести до конца поглотившую силы мысль…
Конец всегда есть начало иного, нового. Радищев не заметил, как ноги сами собой с земель крымских перенесли его в «степь Барабинскую», где веселился один подлый люд.
Его веселье было тоже печально: все успели уже перепиться и если не валялись в канавах, не дрались, то бессмысленно топтались на одном месте, облапив какую ни на есть проходившую деву.
«Чем и как помочь снять им с себя бремя, тяжесть коего они уже будто и не чуют? Если б они знали все то, что знаем мы! Если бы дать им наши права, наше знание, нашу смелость требовать своего места в жизни – от них именно, не отравленных от рождения, как мы, собственным произволом, могло бы родиться совсем новое племя, лишенное жажды угнетения себе подобных.
Но отчего бьется мое сердце? Откуда сей восторг и восхищение ума?»
За последнее время на Радищева все чаще находило подобное состояние раскаленной воли, которая желает во что бы то ни стало иметь свою часть в освобождении угнетенных, хочет крикнуть свое гневное слово в их защиту.
Но где и кому кричать, ежели один только отрывок из «Деревни Разоренной» вызвал злые толки и оскорбленным оказался весь дворянский корпус? О, если б собрать в одну книгу всю злую муку угнетенных, все злодейство тиранов! Если б эту книгу взять в руку, как диск, и метнуть… и попасть!
И много раз переживаемое чувство при взгляде на стоявшую у Фонвизина большую статую дискобола расширило грудь его, словно крыльями одарило. Прицел. Взмах руки. Сила и меткость броска. Куда метнуть и что бросить, он уже знал.
Радищев не заметил, как ушел далеко в сторону от суматохи празднества. Кругом были кусты и пригорки, неподалеку большой лес. Необъятность небесного купола, притихшая пред закатом солнца земля далеко отодвинули крикливую суетность ходынской толпы.
Радищев опустился в густую траву. Его охватила та приятная слабость, которая бывает у человека, когда он долго плутал в неизвестном лесу и вот увидал огонек и, уже зная наверно, что выберется вон из чащи, присел отдохнуть.
Волнующие мысли теперь нахлынули уже с иной стороны: как быть одному против всех? Не безрассудство ли сие и одна ненужная пагуба?
Но тотчас, возмущенный мгновенным унынием, перебил себя сам: а Иоганн Гус на костре? а Галилей среди вероломных инквизиторов?
И что же, пусть одиночество! Не оно ли всегдашний удел того, кто бескорыстно служить хочет благу общему, благу всех? Одиночество и пагуба.
Пусть же явится в свет она, моя пагубная книга!
Вслед за огненными фонтанами, вслед за превеликим множеством солнц и швармеров, лусткугелей и щитов появился на небе огненный павлин.
Величаво и царственно сей павлин распростер на полнеба свой хвост. Из хвоста фонтан разноцветных звезд просыпался ливнем на землю.
– Да будет сей триумф, да будет сей узорочный фейерверк прообразом грядущих лет владычества нашей Екатерины! – возгласил Потемкин, подымая свой кубок за здравие Екатерины.
Указы, изданные Екатериной за это время, уже носили на себе печать нового отношения к своему правлению.
Так, предписано было состоящему во вновь установленном звании обер-полицеймейстера, чтобы он старался дерзостных людей, кои на улицах подавать станут прошения императрице, забирать и представлять в сенат, где поступлено будет с ними по законам.
До последней мелочи городского управления предусматривались нововведения, которые привести должны будут империю к совершенному послушанию и благообразию. Купцам и мещанам воспрещалось обзаводиться, по примеру знати и дворянства, экипажами вызолоченными. Извозчикам поставлено было в обязанность красить в желтый цвет свои фаэтоны, от чего и произошло наименование извозчика – «Ванька желтоглазый».
Учреждены были надзиратели за казенными зданиями, и столицам дан глава полицейской системы – обер-полицеймейстер. Для городского управления дан магистрат из двух бургомистров и четырех ратманов. Наконец, проведя в нескончаемых празднествах целый год, Екатерина возвратилась в Санкт-Петербург.
И здесь были свои, более скромные, чем в Москве, торжества. Они завершились присутствием императрицы на балете в ею любимом Смольном институте благородных девиц. Живописцу Левицкому дан был приказ увековечить своею кистью лучших танцовщиц.
Утром, едва проснувшись, Екатерина уже не хваталась за книжку того или другого философа, как то бывало в первые годы царствования. Тогда ей казалось любезным, как богине Победы впереди корабля, мчаться первой среди государей к просвещению своей великой страны.
Ныне страна стала ей вотчиной. И, помещица, держа строго порядок в хозяйстве, она теперь вместо мечтаний философов слушала первого обер-полицеймейстера города.
Ежедневно по утрам обер-полицеймейстер приходил с докладом «о происшествиях, о ценах на жизненные продукты и о молве народной».
Наконец как-то ночью матушка среди сердечных услад с Потемкиным сожгла последний вольный корабль. Она шепнула Гришифишеньке:
– Мой «Наказ» просто бредни перед твоим прожектом о губерниях, о мой бели медведь!
1934–1935







