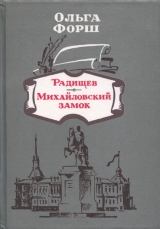
Текст книги "Радищев"
Автор книги: Ольга Форш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)
Глава восьмая
Фонвизин был в ажитации. Он тяжело ходил по кабинету. Подбрасывая носом, рыл воздух и фыркал. Он совсем еще был молод, а уже при волнении покалывало сердце, и хотелось, открыв настежь окно, по-рыбьи расширить крупный рот и дышать глубоко.
«Скупо надлежит вам, сударь, жить. Скупо – в рассуждении вина и душевных волнений. Сердечко-то у вас не ахти!»
– Не ведомо, што ли, эскулапу, что в сей придворной клоаке износится вмиг и железное, не токмо что слабое человеческое сердце?
Только что был секретный разговор с Никитой Иванычем Паниным. Начальник перед Денисом без утайки. На возвращенье в повторный случай Сергея Васильчикова, столь дружественного пропозициям «малого двора», надежды уж нет.
Тайным письмом императрицы вызванный из турецкой армии Потемкин пожалован ныне генерал-адъютантом.
Генерал-адъютант – особливое звание. Оно обозначает фавор.
От князя Щербатова для негласного обращения выдавался на сей случай титул иной – крепкого русского обозначения.
Остановившись на миг у конторки, Фонвизин дописал письмо Петру Панину, брату Никиты Ивановича. Скрепил печатью горькие мысли.
«Здесь, у двора, примечательно только то, что г. Васильчиков, фаворит, выслан из дворца и генерал-поручик Потемкин пожалован генерал-адъютантом и в Преображенский полк подполковником».
Денис Иванович опять зашагал по комнате, пофыркивал носом, высоко держа голову с лицом обиженного купидона, посаженную на короткую толстую шею.
И подумать только: с этим вот Потемкиным вместе учились. Директор И. И. Мелиссино выбрал с собой в Петербург из десяти лучших воспитанников гимназии при Московском университете Потемкина, Фонвизина и Я. Булгакова. Юноши представлены были куратору. Дениса куратор подвел к Ломоносову…
Ныне вся власть взята Григорием Вторым – так в дружеской беседе титулован был фаворит, – взята и за ним останется. «Пока он ищет в Никите Панине против Орлова и чтобы смягчена была к нему ненависть от цесаревича, – сказала как-то графиня Румянцева, – но стукнет час, и он отбоярит кого ни на есть». Истинно сказала: он жаден, когтист, говорят, влез уже во все дела. В раздачу вновь завоеванных земель и в очередную порку мундшенка. Всех и все зажмет в свой кулак!
Никита Панин хотел ограничить самодержавную власть Екатерины в пользу дворянства. Не успев помешать воцарению Екатерины, он составил с Тепловым проект об учреждении Императорского совета с сокровенной целью ограничить ее власть по шведским олигархическим образцам.
Недавно вторично, при совершеннолетии наследника, вместе с австрийским послом Сальдерном и женой Павла Натальей Алексеевной построили новый проект с цесаревичем во главе. Конституцию обещал Павел. И струсил несчастный, кинулся в ноги матери, все выболтал…
Можно ль полагаться на него после подобного? А Никита Иванович еще таит надежды и вновь твердит: «Одна самовластвует, а он под спудом, – то ли было бы при перемене мест?»
То же самое, если не худшее…
Чего стоит одна «записка» собственного измышления цесаревича на предмет «рассуждения о государстве вообще»!
Записка обнаружила не качества государственного ума будущего императора, а прирожденного берейтора, пригодного только к дрессированию лошадей.
«Предписать надо всем, начиная от фельдмаршала и кончая рядовым, все то, что им должно делать, тогда можно на них взыскивать, если что-нибудь будет упущено».
Какая напряженность при дворе!.. Екатерина не верит Павлу, он – ей. И безумные его выходки в гневе. Намедни, в любимом своем блюде вареных сосисок найдя кусочек стекла, кинулся в покои царицы, кричал, что его замышляют убить. На малоумка надеется Панин…
Вошел слуга, доложил о Радищеве. Александру Фонвизин был рад. Сегодня так трудно носить светскую личину, а с ним можно жить без хитрости. Александр даже родня. Сестра Федосья Ивановна замужем за Васильем Алексеевичем Аргамаковым, и Радищева мать – Аргамакова. Кроме того, что в одном семейном кругу вращались, нравился Радищев и сам по себе.
Самому Фонвизину таким вот быть надлежало, если бы не пошел на попятный… Оскалился крутой сатирой, да тут же и сробел. Как старший брат с малодушной биографией, гордился он этим младшим, его благороднейшей прямотой.
Пошел навстречу Александру, раскрыв объятия коротеньких рук, прижал его нежно к обтянутому под камзолом брюшку.
– Рад тебе, Александр, истинно рад!
Радищев принес с собой весенний воздух, как человек, долго гулявший пешком. Он исходил весь свой любимый Петровский остров с первой зеленью сквозистых берез и слабо-розовой перелеской, кое-где белевшей крупными звездами на несмятых лугах.
Но лицо Радищева было хмуро. Его до конца очерченные дугообразные брови, несколько высоко поднятые над большими глазами, известными своей красотой, чернели угрожающе.
– Неприятность с Аннет? – догадался Фонвизин настолько деликатным тоном, что лишен был он всякой подчеркнутой женской пытливости. – Верно, мать заартачилась?
– Нет, согласье мы вырвали, назад ей нельзя. Но пытает Аннет укорами: жених не знатен и не богат! Откуда-то дозналась, что за мой перевод Мабли, коим столь гордится Аннет, получена скромная сумма – сорок один рубль.
– Ведь ей мечталось, старой дуре, кого-либо из царицыных отставных лейб… своей дочке сосватать! – рассердился Фонвизин. – Ну, это точно, – со средствами женихи. Добывали хоть не головой, как твоя милость, но зато крупными суммами. Вообрази: Орлову отступного дано десять тысяч душ, да сто пятьдесят тысяч ежегодной пенсии за былые труды, да сто тысяч на обзаведение дома. Все за то, что казенной квартиры ныне лишен. Впрочем, сервизы, мебель и прочее из оставленных покоев при нем, равно и право носить слугам дворцовую ливрею. – Фонвизин распалился: – Я намедни сестре написал и тебе, Александр, повторяю: развращенность здешняя имени не имеет! Ни в каком скаредном приказе нет таких стряпческих дрязг, какие у нашего двора ежеминутно происходят. «Наказ» давным-давно положен под сукно, у самой одно легкомыслие и сплошной амурдон… Дивно мне, как мог почтенный Новиков за ее комедию «О, время!» посвятить ей «Живописца»?
Круглое лицо Фонвизина вытянулось, самый носик его, в профиль вырезанный как полумесяц, вдруг обвис. Станом же выше, чем был, скорбен и строг. И до того похож на совершенно ему противоположную фигуру знаменитого Николая Ивановича, что Радищев не мог не восхититься как художник чудесной работой Дениса. Смеясь, он сказал:
– Сколько раз ни видал – не уловлю, каким приемом вы себя в других претворяете?
Фонвизину легчало, когда он внутреннее раздражение выражал в шутовстве, в пересмешках.
– Итак: «Неизвестному автору комедии „О, время!”» – повторил он, делая дамский придворный реверанс. – А что автор сей пьесы малосмыслен, твой Новиков не осведомлен? Хотя Козицкий и Храповицкий черновики царицыны правят, а белиберды предостаточно остается. В сей знаменитой, примерно, комедии служанка Мавра показывается столь просвещенна, что читает «Клевеланда» Прево и «Памелу» Ричардсона, коим на русском языке еще не имеется и перевода!
Денис Иванович захохотал во весь рот, завалившись грузным телом на диван. Его зубы, среди ярко-красных губ и налившихся кровью щек, были даже страшны своей белизной.
– Люблю ваш Рубенсов пиршественный дух, – сказал Радищев, любуясь взорвавшим Фонвизина смехом, – и не могу выразить, сколь мне обидно, что вы наложили последнее время столь постную мину на ваш вольный язык. Сколь было едко начало ваших вопросов в «Былях и небылицах»! Наизусть помню: «Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а ныне имеют, и весьма большие?»
– Ты забываешь, мой друг, – пугливо вдруг оглянулся Фонвизин, приняв свое обычное осторожное обличье, – ты забываешь, что́ именно ответить изволила мне на сие матушка: «Сей вопрос родился от свободоязычия, коего предки наши не имели». Я, милый мой, стреляный воробей, хорошо понял смысл ее слов. И память моя неплоха: привела мне перед очи ее указ «О молчании». Сей дан был по поводу дела Хитрова еще в первые годы восшествия. Хитров, если знаешь, находил, что всячески противодействовать надо вступлению матушки в брак с Орловым, ибо поговаривали о сем деле как о решенном. Угрозы в случае неисполнения указа, сиречь пересуды о персоне ее величества, пахли, братец, Сибирью. – Фонвизин с сердцем боднул головой: – Вот и пришлось мне написать свое покаянное: «Заготовленные иные вопросы отменяю, дабы не подать повод другим к дерзкому свободомыслию».
Фонвизин встал и прошел из угла в угол, припадая на ногу, – тяжелый купидон. Остановился, нижняя губа дрожала от волнения, обнаруживая, сколько детской, легко вспыхивающей чувствительности было в этом человеке.
– Да что указ «О молчании»! Намедни оброчный наш человек прибыл из Сибири, насмотрелся он «по милосердию» взысканных каторгой заместо смертной казни. Та же выходит казнь, токмо горшая! Полоумный брянский пехотный солдат, самозванец Петр Чернышев, к черту на кулички, в Мангазею сослан. Пред отправкой столь много порот, что в дороге скончался. Казенную шубу приказано было из-под него выбрать, расползлась шуба. «Стаяла от многого гною», – так ему в бумагу вписали. А что было вины на этом Чернышеве? Да ничего, окромя бессмысленной болтовни. Сила двора великая, где одинокому с ней бороться? Нет возможности, минуя двор, получить должность, подряд, награду. Фаворитизм – государственное учреждение, понял? Новая знать, всем обязанная «матушке», связана с людьми случая. И пойми тоже, сколь много мы положили надежд на наследника, мы, коренные дворяне, сыны отечества! Никита Панин и сейчас от него одного велит ждать освобождающих законов.
Радищев стремительно встал и сказал без запальчивости, с особливой серьезностью:
– Свободы ожидать у нас можно никак не от престола. Кто бы там ни сидел – мало различия. Свободы ожидать должно от самой тяжести порабощения!
– Дискобол! – вскрикнул, глядя на Александра, Фонвизин. – Давеча внизу, при входе ко мне, видал? Из Италии привезли. Молодой, напряженный, как конь перед прыжком. В руке диск. Коль метнет – попадет.
Радищев взял руку Дениса.
– Собрать бы нам воедино силы, широкий взять размах… Беда моя, не знаю пока, чем размахнуться и целить куда.
– На что Сумароков за царей распинается, – сказал Фонвизин, близорукими глазами глядя в брови Радищеву, – а и у него есть обмолвка. – И, понизив голос, он продекламировал:
Когда монарх насильно внемлет,
Он враг народу, а не царь…
– А по моему мнению, всякий царь и всегда враг народа, – ответил с твердостью Александр. – Не потому ли сейчас происходит у нас то великое бедствие, которое императрице благоугодно именовать «глупые казацкие гистории»? А на самом деле не бунт ли то бедных против богатых? Холопей против господ? Мне сказывали: бар, одетых в крестьянское платье, пугачевцы узнают по рукам или же их заставляют исполнять крестьянские работы. Не умеющих взяться за цеп и косу убивают, приговаривая: «Не коси чужими руками, не живи чужим умом!»
– Александр, – остановил Фонвизин, – тебе изменяет разум. Твои слова: «свободы ожидать должно от самого порабощения» – слова безумца. Какое благородство может быть присуще вчерашним рабам? Не обернется ли их власть горшим видом нового порабощения?.. Однако волноваться впустую я не охотник.
Фонвизин вдруг рассердился на Радищева, что не поостерегся и вышел из себя. Выпил воды, уселся в вольтеровское кресло. Сказал своим наигранным голосом на стариковский насмешливый манер:
– Жизнь дает нам немало жестоких причин для волнения, чтобы мы еще сами себе добавляли. Довольно того, что моя прошедшая ночь протянулась без сна в дискуссии с Никитой Ивановичем, – нынешней ночью я желаю чудесно поспать. Как ученик Эпикура блюдя равновесие чувств, я намерен в памяти вызвать одни легкие скоморошные впечатления. А посему, милый друг, перейдем на фривольный жанр. На днях я отменно веселился у одного светского друга из французского посольства. Вообрази, какие-то шалуны его затащили на полок в общую баню. Он тотчас обмер и, когда в перепуге друзей был ими окачен холодной водой, сообщил, придя в сознание, что обморок был не от жаркого пара, а от ужасов им лицезренных нагих персон обоего пола.
Денис Иванович уже развеселился сам и, непременно желая развеселить Александра, собрался было рассказать еще кое-что позабористей, как снова вошел лакей и подал записку от Панина.
Никита Иванович звал к себе немедленно своего секретаря, чтобы спешно выехать вместе в Петергоф. Императрица экстренно созывала Верховный совет.
– Вот и вторая бессонная ночь! – проворчал Фонвизин, приказав слуге собирать чемодан. – А свой небогатый запас нервной силы я уже растратил, поволновавшись с тобой, Александр.
– Не сетуйте, Денис Иванович… за дорогу наберете сторицей, – улыбнулся Радищев. – Вам светить будет луна, и в весенних дубровах защелкают соловьи. И то и другое расположит вас на амурные грезы.
– Ах, друг мой, – пофыркал носом Фонвизин, – а ведь я так и остался при своей «двойце». Не имею духу сказать Александре Ивановне о моем сватовстве к вдове Хлопковой.
Екатерине решительно не спалось. Несмотря на значительную уже полноту, она встала быстро и легко. Не беря в руки узорного колокольчика, чтобы вызвать дежурную камер-фрау, сама облачилась в шелковый молдаван. Подошла к окну, не без усилия его распахнула. От непрестанных дождей рамы набухли.
Глянуло в комнату очень раннее утро, похожее тусклой желтизной на закат. Ленивые лучи пробирались сквозь ватный туман и не стремясь идти дальше, уперлись в портрет Григория Орлова.
Красивое холёное лицо, с бровями, высоко очерченными, смотрело с удивленной надменностью.
Екатерина на минуту задумалась, разбирая, как незнакомый, стишок под портретом в отдельном золоченом ободке:
Чие ты зришь лицо?
Помощником был он
Спешащей истине
Спасти российский трон.
– То-то двенадцать лет я и терпела сего помощника… Нечего сказать – государственный ум!
У императрицы не проходила досада на Григория Орлова с недавнего Фокшанского конгресса. Как мальчишка, прервал мирные переговоры с турками, едва шептуны нашептали: его-де место не пустует, Васильчикова объявлен фавор.
– Вот и мой Алешка в него. И красавец и балбес…
И, как всегда при мысли о своем втором сыне – орловском, бастарде, [80]80
Незаконнорожденном.
[Закрыть]получившем наименование «граф Бобринский», горечь проела сердце.
– Ему б на глазах, при дворе расти, ему б и наследовать мне.
Летом, когда Павел сильно болел, мысли у самой были и Орлов спьяну выкрикнул: «Умрет Павел, объявить должно Алексея!»
Павел выздоровел. Орлова больше мочи нет выносить. Последние порвались с ним душевные скрепы, а он, как дурной, все круче себя заявлять стал. Нет, не муж он. Насильный, кровью скрепленный был бы с ним брак, и хорошо, что Панин помешал…
А терпеть его до сей поры надо было. На кого было положиться ей, кроме Орловых?
Сын Павел, великий князь, болтун несчастный, сам же намедни и выдал все замыслы вражьи: убоялся как бы не дозналась стороной о пропозициях, сделанных ему Сальдерном: заявить свои права на престол.
Правда, всячески выбелял наставника своего Никиту Панина, он-де оного Сальдерна не апробировал. Однако же промолчал Панин. Хоть знал о прожектах дерзких – не доложил. И как тут не подумать, что по той лишь причине Сальдернову затею не апробировал, что считал ее преждевременной?
С укором и болью глянула на профиль великого князя, висевший тут на стене: чухонский нос мягкой пуговкой, с проваленным, как от дурной болезни, переносьем. То ли он недоумок, как отец, то ли какой-то остервенелый? В характере и уме точно черты имеются и ее, но до чего искажены, не приведены к ее силе, к ее выражению плавному!
Прав Корберон: все порывы цесаревича без твердой воли, без государственной дальновидности. Несчастный голштинский ублюдочный род!
Екатерина разволновалась. Тихо опустила на пол сонного сира Томаса, но он зарычал, и тогда, угрев его снова на руках, снесла на его собачью постель. Уложила белую тонкую морду на подушку, укрыла розовым стеганым одеяльцем.
Время двигалось медленно. Или оттого так казалось, что солнце не выходило из-за ватных белых облаков и невеселый, не летний дождь моросил в окно? Еще никто из дворцовых служащих не вставал. Только водовозы проехали с бочками, и шел пар из придворной пекарни, где пекли к кофею свежие сайки. Екатерина закрыла окно и стала ходить, неслышно ступая в плисовых котах, обшитых мехом.
Сегодняшний день – устрашительный. Надлежит собрать все свои силы для присутствия на тайном государственном совете.
Глянула на часы – шести еще не было. Решила: через час начнет думать об одном непременном решении, и надо, чтобы голова отдохнула на каком-нибудь чувстве любезном. Тогда мысли придут доходчивы, полны свежести.
В том одиночестве, на которое обрекла ее странная судьба, в том неослабном напряжении удержать трон у нее выработаны были проверенные опытом способы умного сохранения своих сил.
Однако, хоть разгар лета, как холодно в этом сыром Петергофском дворце! И собаки недовольны переездом. Вот сир Томас попискивает. И от сырости, что ли, фонтанов ноют ноги… Как это намедни столь забавно сказала Феклуша, истопникова жена: «Гудут ноги к погоде да к бабьему веку». Сорок лет – бабий век!
Екатерина несколько раз прошептала с сильным немецким акцентом:
– Сорок лет – баби́ фэк!
Она гордилась, что на каждый случай жизни помнит русскую поговорку. Там, в Ярославле, в семьдесят первом году, чтобы отвлечь мысли от московской чумы, писала комедию «О, время!» и, как девчонка, зубрила пословицы для своей рассудительной Феклы и народные приметы и суеверия для г-жи Ханжахиной. Храповицкий, секретарь, сна лишился, черкая царицыны черновики.
– Ах, мейн гот, уж эти мне русские падежи!
И, как всегда, сама перед собой не трусливая, Екатерина вдруг выговорила до конца одну свою тайную мысль: «Мне сорок пять. Потемкину тридцать пять. Ровно на десять лет…»
Ну и что? Ну и хватит моего курцгалопа.
Взяла опять на руки пискуна сира Томаса, опять села в кресло, запахнула собачку полой молдавана и дала себе наконец волю. Думала о нем, сейчас пылко любимом и единой опоре.
Неприятно, что имя такое же, как у Орлова: Григорий.
Глянь со стороны, кто он? Мелкопоместный дворянин Смоленской губернии. Громаден, всех выше на голову, и хотя сердцу мил, а не может она не видеть трезвым глазом, как и всё и всегда видит: нет, не орел, – раскормленный хищный кобчик этот владыка и шельма, как уже именуют его в тайных письмах.
Суворов почитает ум его гениальным, – перехватил, конечно. Однако то истина, что Потемкину не до одной своей вотчины дело. А верней сказать – своей вотчиной хотел бы назвать не воеводство какое – целый бы мир. Вот каковы мы с Гришифишенькой!
Придумала ему словечко на свою голову: писать-то его легче, чем выговорить.
Пятнадцать лет ему было, когда впервой увидел ее, еще великую княгиню. Божится, что в тот же час стрелой амуровой был уязвлен. А может, и тут перехват, и одно честолюбие привести может в движение его чувства. Что толку разбирать! Ведь если в остуду нонешний пыл перейдет, на пути государственном им идти рука об руку до конца полный профит. Столь сходствуют мнения, тот же полет, и, главное, вера есть: этот вот не продаст. С кем же сравнить его? Ужели с грубияном Орловым, тем паче с недавним Васильчиковым?
При мысли об этом мимолетном Васильчикове, красивом, спокойном, как мерин-водовозка, Екатерина усмехнулась: «Вот уж точно не угадать ему, где нашел себе заступника. У барона Гримма…»
Открыла маленькое бюро красного дерева, достала черновики писем, выбрала последнее к Гримму. Письмо было по-французски.
«…вы назвали меня флюгером. Бьюсь об заклад, оттого что в вашу бытность здесь, на ваших глазах, я удалилась от некоего прекрасного, но очень скучного гражданина, который тотчас был замещен, – не знаю сама, как это случилось, – одним из самых забавных оригиналов нашего железного века».
А ведь про флюгер-то барон сморозил из собственного баронского расчету, – догадалась Екатерина, – это он дорожится, вымогает все новые заверения, что переписка с ним невесть какой важности.
Взяла карнетик слоновой кости и, брезгливо сморщась, отметила: «Послать новую шубу барону Гримму».
– Должно, не накладнее моего сей барон обходится старому ироду Фридриху, коего он состоит платным агентом-корреспондентом.
Кладя аккуратно сложенные черновики обратно в бюро, Екатерина вспомнила иные бесчисленные листки – записки своей юности. Разыскать бы их на досуге – то-то забава! Еще великой княгиней додумалась до сей дипломатии или, верней сказать, необходимейшей жизненной тактики.
На вечеринках узнавала о здоровье именитых злоязычных старух. В памятные листки вписывала дни ангела, имена мосек, любимых дур, попугаев. При встречах осведомлялась, сопровождая улыбательным вниманием тягучие воспоминания стариков. Кое-что особливо лестное для славы их рода заносила особо. Не преминуть им же при случае выдвинуть.
И что же? Каково резюме из сего почти женского рукоделия?
Не прошло двух лет с ее приезда в Россию, как жаркая хвала уму ее побежала во все концы. И раньше чем незадачный супруг Петр Федорович утомил всех своей дуростью, общественное мнение – сия всесильная мода, владеющая умами, – целиком была на ее стороне.
Да, за годы своей юности научилась она отменно хитрить. И еще научилась много и сильно хотеть. И в тот незабвенный день, давший ей царство, все вышло по ее хитрости и по ее хотению, сколько ни хвались Орлов, что это он ее посадил на трон, а дура Дашкова – что она.
В четвертом часу пополудни к деревянному дворцу приведены были войска и поставлены вдоль по Мойке от моста. Под барабанный бой двинулись сюда, в этот вот Петергоф…
Она впереди на белом коне, в преображенском мундире, в руке обнаженная шпага. Сейчас это уже история, это – замечательный портрет там, внизу, в первой зале дворца. Вчера еще, мимо того портрета выходя в сад на празднество в честь французского посла, остановилась, охваченная внезапными тревожными мыслями. Сказать, это было предчувствие той страшной вечерней реляции…
В том же зале супротив Петра Первого – ливонская крестьянка, вознесенная им на трон прямиком из лачуги, чернобровая тезка ее Екатерина I. Тут же Елизавета в своей молодой бабьей прелести блестит очами, улыбкой, бриллиантами. И тут же она, Екатерина II, в сапогах, белом мундире, на белой лошади, с веткой дуба на шляпе, как кругом у ближайших.
На всю жизнь она помнила, как горело лицо ее, как волосы, густые и длинные, распущенные поверх преображенского мундира, словно ветви хлестали ее по плечам. Помнила, как минутами воображение, уставшее от необычайности того, что свершилось, пугалось и меркло, и некий голос, глумяся, шептал: «Ой, сорвется игра!»
А вот и не сорвалась игра.
И торжествующая, сопровождаемая большой свитой, сошла она вчера в сад хвалиться послу высоко бьющими фонтанами не хуже версальских.
Позднее, переодевшись в платье алого бархата с малым шлейфом, с невеликой бриллиантовой короной на высоко взбитых волосах, она играла в ломбер с Чернышевым, Потемкиным и послом. С послом вела нужные французские разговоры, а уголком глаз наблюдала, как придворные шаркуны «махаются» с певицей Габриэль.
Оная Габриэльша, дочь повара, которой за талант ее князь Габриэль дал свое имя, мелкая чертами, дурная, но полная бесовской грации, всколыхнула всех шаркунов. И не только молодых – Иван Перфильич Елагин, – скажите, пожалуйста! – статс-секретарь и масон, едва заиграла музыка, пригласил Габриэльшу на танец. Вознамерился ногами выплести прехитрые модные штуки, для балетных танцев оказался тяжелым, и хитрой штуки Елагин не вывел, а потерял равновесие и рухнул грузным туловом на паркет. Двор много смеялся, пока не кинулись смотреть иллюминацию.
Две аркады против большого дворца, канал, который соединяется с заливом, усыпаны букетом огней. Лампионы заложены в зелени, – иначе светляки-великаны. Пирамиды, храмы, боскеты – все являет вид огнем воздвигнутых фигурных строений. Фонтаны, отражая огни, сыпали мелкой бриллиантовой пылью.
– Какая сказка, какие миркали! [81]81
Чудеса.
[Закрыть] – восторгался французский посол.
Вдруг черный дым ужасающей копотью, как на пожаре, потянул на зрителей. Копоть чернила светлые платья дам и, забираясь глубоко в ноздри, вызывала смехотворное чиханье.
– Я полагаю, матушка, сии миркали прокоптят нас, аки окорок. – И Левушка Нарышкин отдал приказ тушить плошки и факелы.
Окончилась сказка превеликим смрадом.
И тут вот как раз возвещен был гонец с той ужасной реляцией: город Казань разорен. Губернатор со всеми командами заперся в Кремле. Пугачев похваляется: сжег Казань, иду на Москву.
Уже два раза на волоске была власть Екатерины, ее свобода и сама жизнь. Было ей восемнадцать лет, когда обвинялась она в государственной измене, в сговоре с Пруссией через Бестужева. Фельдмаршала Апраксина Елизавета повелела судить за бесславную ретираду, за поддачу якобы Фридриху. Дескать, не подкуплен ли? И пусть даже Фермор показал, что причиной отступления Апраксина был недостаток людей и что лошадям субсистенции не хватало, вследствие чего лошади в совершенную худобу пришли, так что невозможно было с желаемым успехом военных операций производить, – не помогало ничто.
Арестован Бестужев, канцлер, арестован и вот этот Елагин, тогда молодой адъютант Разумовского, и положение ее, великой княгини, было из рук вон – не ахтительно.
С послом Вильямсом разговоры не однажды велись. У посла Вильямса и расписочки были от великой княгини. Расписочки за полученные ею немалые суммы от английского короля. За что платил великой княгине английский король?
Редкую ночь не кричала в испуге: виделась камера убитого Ивана Антоновича. В камере шмыгали крысы, подымалась по горло вода, палили в крепости пушки.
Хотя Бестужев умудрился из-под стражи передать ей записку, чтобы не беспокоилась, – все-де бумаги, которые их обоих могли погубить, им начисто сожжены, – в такой пытке жила, в такой пытке ждала ежечасного ареста.
Наконец Елизаветой затребована была на два ночных свидания, вернее сказать – на два допроса при свидетелях, скрытых ширмами. Одной собственной сметкой-умом выбралась. Пала в ноги Елизавете, просилась обратно домой в Ангальт-Цербст: «Если вам угодить не пришлось, лучше на свете не жить!»
Сделала вид Елизавета, что поверила, оставила дело. Была стара, чуя смерть, боялась хлопотни с престолонаследием. Самое же главное – не выдал Бестужев.
Второй раз искушение судьбы ее царской такой пышной победой окончилось, таким блеском, что и сейчас для борьбы с третьим искусом оттуда черпнуть надо мужества.
Такой был жаркий тот летний день, хотя почти на целый месяц раньше, чем сегодняшний. Тот день – 28 июня 1762 года. Давно было все заготовлено – и никак не решались. Арест гренадерской роты капитана Пассека двинул события. Началось – и пошло.
Семеновцы и измайловцы окружили дворец, преображенцы внутри… А если б полки не явились? Если б караулы не встали? Если б митрополит новгородский, согласно своему сану, держался бы за присягу, данную императору Петру III, ее законному мужу, и отказался б давать присягу новую ей, мужней жене, посторонней немке, прав на российский престол не имеющей, – что тогда?
Привезенная на одноколке Орловым в тот особенный, яркий солнечный день, – в какие бы места отдаленные могла бы быть препровождена, ежели не лишена самой жизни?!
В этот второй раз смертельной опасности была она в цвете всех сил.
И вот сейчас, на двенадцатом году царствования, судьба в третий раз занесла меч. И стынет в сердце кровь от разметанных по деревням листов Пугачева.
«Сошлю ее… заточу… Пусть грехи замаливает!»
Из великой ектении ее вычеркнул – и нет ее царского имени. Не поминают за литургией послушные силе попы.
Екатерина больше не могла сдержать волнения. Не помогли хитрые расчеты, ни кровная немецкая дисциплина.
Как ни отдаляла минуту, инстинктом, как зверь защищаясь, копя силы перед страшной битвой, прикидываясь пребывающей в благополучии, – минута пришла. Надлежало глянуть прямо в лицо новому бедствию, не токмо одному Пугачеву – пугачевщине. Вот тебе и «казацкие глупые гистории».
Еще недавно, неутомимо поддерживая свой престиж, писала знаменитому корреспонденту-философу с расчетом на всеевропейскую ее сплетню про маркиза де Пугачева о том, что разбит он то ли восемь, то ли десять раз, так что бить его надоело.
Писала небрежно, с установленной буффонадой, которая, казалось ей, должна выдержать философское и просветительное ее превосходство.
Сейчас некуда было деваться от страха. Сейчас стояла перед большим зеркалом в серебряной раме с летящими амурами зеленая, с обрюзгшим от бессонной ночи лицом, растерянная пожилая немка.
Стояла, держа в руке звонок, и медлила звонить дежурную свою камер-фрау, потому что ей никаким усилием воли не удавалось сделать лицо свое спокойным и царственным в обычном улыбательном ореоле. Словом, тем лицом, которому обучена была кисть живописца, дабы внедрять в сознание верноподданных августейший образ российской Минервы.
В который раз за эту ночь перебирала в мыслях, нет ли иного выхода из положения, как уступить ей сегодня на тайном совете предложению Никиты Панина, которое, знала она, непременно будет им сегодня сделано.
И предложение это – вот оно: вызвать из немилости брата его Петра Ивановича Панина и ему вручить полное командование против самозванца. Ей вызвать великого враля и персонального оскорбителя, который громко кричал на всю Москву: «Не баба – мужчина должен быть на престоле, дабы иметь возможность предводительствовать войском».
А что если самой ей сделать попытку? Самой впереди войск? Ведь уж однажды верхом на коне, сабля наголо, взяла трон?
И ответила сама с горьким унынием: тогда шла против жалкого, безумного мужа, ненавистного всем, сейчас надлежит идти против сына, против Павла, о совершеннолетии коего шепчутся. И ослабела чуть не до обморока. Долго сидела усталая полная пожилая немка с узорным звонком, зажатым в руке, и, как обыкновенная измученная женщина, она вздыхала о муже, о помощи, о защитнике. Поговорить бы перед советом еще раз, в последний, с Григорием.
От одной мысли свидания с Потемкиным подобралась, тряхнула колокольчиком, встала и встретила вошедшую камер-фрау своим обычным, одаряющим царским взором.
Парикмахера, ловко накинувшего на пышные ее плечи пудермантель, весело спросила о здоровье своих крестников, о дочке-невесте. Пока парикмахер гулял заячьей лапкой по баночкам с притираньями, румянами и белилами, пока оттягивал незримой машинкой височки, отморщинивал постаревшую кожу, Екатерина настраивала себя на любимый портрет Эриксона. Этот портрет ей, как певцу – камертон. Румяная, со взбитыми волосами, напудренной прической, как богиня, сияла она торжеством спокойной совести, яркими синими глазами и почти подавляла б величием, не догадайся художник смягчить ее грацией, спустив ей с головы на грудь шаловливый локон, обвитый жемчужными нитями.







