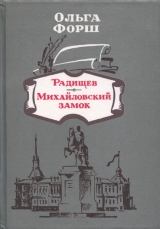
Текст книги "Радищев"
Автор книги: Ольга Форш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
Сейчас вот таскались по холодным, на зиму ставшим степям. Почитай без воды и без хлеба, и томились смертельно.
Ночью сделали совещание. Пугачев было встряхнулся. Как бывало, орлом предложил:
– А ну, детушки, в Запорожье? В Сибирь? К калмыкам? Не наберем, што ль, людей? Не впервой нам…
Казаки были хмуры… Сидели молча, уставя очи в брады. Как дикие кабаны, наготовя тайно клыки, протвердили одно:
– Нет нашей воли идти!
– Переменились, выходит, местами, – усмехнулся Пугачев, – поводыри ноне вы, а я – замиренный медведь. Ин ладно, куда поведете, туда и пойду.
Казаки упрямо сказали:
– Нам желательно только вверх, к Узеням.
Оглянул всех Пугачев:
– Мало ль вместе городов брали, пиров правили, знали дни красные и превратные?
Не смотрят казаки в глаза.
Бесконечная тянется степь. Снег повыпал.
Степной снег был без жалости и – под недобрым ветром – колюч. Снег обидно заплющивал очи и седоку и коню. И роптание слышал Пугачев среди спутников на несносное сие мучительство.
На ночлеге в Узенях, когда ушли многие поохотиться на сайгаков, впал он в какое-то отупение. Планов больше не строил, хотя нет на завтра ни боевой цели, ни коням фуражу, ни убежища воинам.
Перебирал в одной не изменявшей ему военной памяти, как именно произошло посрамление под Сальниковым заводом, где, сразу после разгрома Сарепты, его нагнал Михельсон.
Еще пьяный немецкими настойками, но отдохнувший и полный прежней удали, Пугачев прибег к способу нападения, ему не однажды приносившему победу над войском царицы. Он открыл сразу орудийный огонь по всей линии и вдруг двинул пехоту.
Но изменники народному делу, донские казаки и чугуевцы, с самим Михельсоном ударили в контратаку столь стремительно и удачно, что растерялись пугачевские молодцы и, сколько он их лично не улещал, все бежали.
Двадцать четыре орудия взял Михельсон и преследовал сорок верст. Пугачев потерял войско, двух дочерей и казну. И погиб друг, Андрей Овчинников. Сейчас у него всего-навсего двести человек вместе с яицкими. И горько ему, что из этих двухсот доверять он может только чужим, а не им, бывшим ближайшим, своим яицким казакам.
Если не мог точно знать, то чувствовал, что они, боевые товарищи, не только неверны – они умышляют против него.
И действительно: казаки Иван Творогов и Федор Чумаков уговаривали всех прочих Пугачева выдать властям. Чтобы раскалить себя, поминали его вины важные и пустые: не мог, дескать, подписать бегло указ, да взятый им сан уронил в глазах войска женитьбою на простой казачке Устинье Петровне, да и мало ли что….
Чтобы остаться им только в своем яицком кругу, заговорщики потребовали от всех прочих спутников Пугачева сдачи коней. Насильно спешенных ими людей они пустили идти на все четыре стороны. И осталась от могучей и страшной орды едва ли дюжина.
Наконец наступил последний путь не то что власти – самой свободы Емельяна Пугачева, императора Петра Третьего.
Казаки, пошедшие на охоту, нашли неких старцев в землянках, а при них огород и бахчу спелых дынь. Пугачев пригласил товарищей ехать к тем старцам за пищей.
И, как часто бывает как с палачом, так и с жертвой, когда уже оба знают – одному гибнуть надо, другому его погубить, – они в самый последний миг испытуют судьбу: авось пройдет еще мимо!
Пугачев, бывало, устраивал состязания башкирцев и калмыков на лучших отборных конях, чтобы в свою конюшню отобрать победителя, и хранил как зеницу коня-молнию на последний свой день, для последнего бега.
И вот почему сейчас он же сам, уже ведая про измену казаков, велел оседлать себе коня наихудшего?
Ведь знал, что идет не с подручными, а с врагами, идет в такое пустынное место, где им всего легче его будет взять.
А почему это Иван Творогов, решивший твердо недавнего друга, сейчас уж «злодея», выдать властям, дабы миновать для своей головы смертной плахи, – почему вопреки своей выгоде, превежливо стал упрашивать Пугачева взять себе коня лучшего?
– Вы такую худую лошадь под себя берете? Неравно что случится, было бы на чем вам бежать!
И Пугачев Творогову:
– Берегу хорошую впредь!
А что хорошего ждало его впредь? Измена, арест, четвертованье в Москве на Болоте?
Подъехали к старцам: Творогов на отличном коне, Пугачев на плохом. Старцы свои души спасали. Они развели чудесные дыни и отказа в них ближнему дать не могли. Повели казаков брать на выбор. Осталось вокруг Пугачева меньше народу, чем в те начальные решающие дни, когда он впервые сказал, распахнув грудь и указуя на рубцы от ран: «Вот они, мои царские знаки!»
И спросил его Чумаков, в последний раз применив к нему царский титул:
– Что же, ваше величество, куда думаешь дальше?
Екнуло сердце вещее. Ведь только что порешили – куда, и снова чинится допрос. И зная, что не дело спрошено, а по умыслу, сказал с неохотой:
– Идем к Гурьеву городку. Перезимуем там – и айда за Каспийское море, подымем орду…
Перебили казаки:
– Хватит нам под тобой воевать! Безмолвные, что ли, мы?
Понял тут: совсем это конец. Отработала на мирской пай его черная борода…
Подошедший сзади казак схватил его вдруг крепко за руку выше локтя. Он не удивился, когда казаки крикнули:
– Отдай свое оружие Бурнову!
– Не дорос Бурнов, ему бесчестно мне отдавать, – сказал с гордостью Пугачев. – Я отдам своему полковнику Федульеву.
И Федульеву, сняв с себя сам, отдал шашку, пороховницу и большой нож.
Посадили казаки Пугачева на его худую лошадь и повели ее под уздцы. Творогов же поехал рядом на своем, на лихом коне.
Зажглись глаза у Пугачева и, глядя в упор на былого друга, он сказал:
– Иван, отъедем-ка в сторону, сказать тебе слово хочу!
Отъехали.
– Что пользы тебе меня потерять и самому погибнуть?
Твердо знал былой друг – сам-то он, ежели предаст, не погибнет.
И, не моргнув, выговорил Надёже смертный его приговор:
– Как задумали против тебя, так тому быть.
Рванул Пугачев коня, ушел в степь…
Эх, если б того коня-молнию, что оставлен им про запас!
Ведь вот он… наступил бег последний. И плоха под ним лошадь.
Догнали. Связали.
И бранили его тут, сколько кому на память пришло…
Так показал в секретной комиссии Иван Александров, сын Творогов, любимец Пугачева, полковник и судья военной коллегии.
И спросить: где были верные, те, что не стали б предателями?
Казнены. Пали в боях. Пропали без вести.
Каждый из генералов, одновременно прибывших в Яицк для принятия преданного казаками Пугачева, хотел первым послать весть верховным властям.
Разогнали курьеров с депешами, и каждому было сказано:
– Коль хочешь успеть по службе, обгони всех других.
А за обладание самим Пугачевым поднялся превеликий спор.
Председатель секретной комиссии, двоюродный брат фаворита и однофамилец Павел Потемкин, хотел вырвать злодея из рук Суворова. А главнокомандующий граф Петр Панин, страдавший от лагерной жизни сугубыми подагрическими коликами, почитал за собой одним сие право. Пользуясь своей почти неограниченной властью, он приказал, неусыпно следя за пленным, доставить его в свою штаб-квартиру в Симбирск.
Был придуман надежный способ доставки – большая, отменно крепкая клетка. Так перевозят диких зверей, к которым был Пугачев приравнен.
Пугачева повезли степью. Двигались медленно. Путь освещали смоляными факелами.
Предваряя картину своего предстоящего эшафота, вознесенного высоко над толпой, Пугачев, далече видный, ехал в своей огромной звериной клетке, сооруженной на телеге о четырех колесах.
В промежутке крепких жердей клетки сверкали под красным огнем факелов два черных с прожелтью глаза на исхудавшем, нестрашном, обыкновенном казацком лице. И блестела застывшей смолью неподстриженная черная борода.
Пленника окружал конвой из двух рот пехоты, двух сотен казаков и двух орудий, вывезенных из Яицкого городка.
Глава двенадцатая
Граф Панин получил извещение о поимке Пугачева, еще будучи в Пензе. Он в тот же день отправил своего внука, князя Лобанова, радостным курьером к Екатерине.
Матушка возликовала. Лобанов награжден был переводом в лейб-гвардии Измайловский полк.
Панин гордился, что Пугачев пойман был во время его командования. Придворная знать и дворянство торжествовали, что наконец казнен будет тот, кто, по словам сумароковской оды:
Забыв и правду и себя
И только сатану любя,
О боге мыслил без боязни
И шел противу естества…
Желая скорее заглушить неприятный интерес к персоне злодея, царица запретила его везти через Казань, а повелела устроить там лишь торжество сожжения злодейской «хари», сиречь портрета, с него писанного живописцем.
На площадь выведены были в кандалах пугачевцы и вторая супруга Емельяна – царица Устинья Петровна, несмотря на горестный поворот ее диковинной судьбы все еще прекрасная лицом и станом.
На малом эшафоте стоял палач при живописном портрете, изображающем чернобородого казака, сметливого взором, стриженного в круг по обычаю.
Чиновник из суда прочел грамоту:
– «Секретная комиссия, по силе и власти, вверенной от ее императорского величества, определила: сию мерзкую харю сжечь под виселицей, на площади и объявить, что сам злодей примет казнь мучительную в царствующем городе – Москве».
По сожжении портрета под виселицей, Устинья Петровна, бледная, краше в гроб кладут, громогласно, якобы без всякой понуки, возопила, что сожженная харя есть точное изображение ее мужа – второженца, изверга, самозванца.
Творогов и Федульев, казаки, предавшие Пугачева, клялись публично в содеянных беззакониях и объявили народу, что они есть те самые, кои во искупление своих злодейств выдали своего главаря-самозванца властям.
Им тут же обещана была от имени царицы замена смертной казни ссылкой в Сибирь.
А в царствующем городе Москве на смертную казнь на Болото повезли Надёжу на высоком помосте на санях. Рядом с ним сидел Афанасий Перфильев. Изо всех приспешников он один пошел вместе до плахи. Невеликий ростом, сутулый, отчего сдавался еще меньше, он был рябой и, как определили при снятии допроса, «свирепо-виден».
Выше всех несметных голов, всей Москвы, собравшейся поглазеть на лютую казнь, был этот помост на санях. Пугачев на нем виден был в подробности.
Был он в нагольном тулупе овчинном, бородка смольевая не расчесана, и волосы не приглажены.
Глазами по своему обычаю он стрекал на народ и ему кланялся низко. С возвышения видать ему было, сколь многие в народе о нем плакали. И хотя казенные чиновники грозились заплаканных к ответу привлечь, однако, не скрываясь, вслух сожалели людишки Емельяна Ивановича, полагая, что он муки идет принимать за мирское дело, за волю мужицкую.
А в руках у Надёжи были две восковые свечи воску желтого. Колебалось легонько пламя, освещая снизу его лицо, оплывал желтый воск ему на руки, – он не слышал.
Полицеймейстер Архаров верхом на коне распоряжался зрелищем. Смотрел, чтобы генерал-губернаторское постановление соблюдено было в точности.
Эшафот непроходным частоколом окружили войска. Одних чиновных бояр приказано было без препятствий пропускать. Дворянам законно увидеть поближе, как будет муку терпеть их заклятый враг и обидчик.
Ну, а подлый народ пропусти – не ровен час, может глупостей накричать. Недаром по Москве вечерами неведомых смутьянов крик пробегал: «Да здравствует Емельян Иваныч Пугачев!»
Черному люду было мало важности, что он имя царское на себя принимал. Не по принятому, по его крещеному имечку вызывали – Емельян.
Эшафот был построен высотой в четыре аршина. Обшит он был тесом и заборчиком окружен, ровно в саду городском для музыки.
Вокруг главного места наставлено было со всех сторон плах и виселиц. С их перекладин спускались веревки с петлями. К ним приставлены лесенки, у каждой – ей предназначенный висельник и его палач.
Другие преступники, помельче, кои привезены были только для вразумительного посрамления, повержены были в оковах у подножия эшафота.
Вот подъехали сани с Перфильевым и Пугачевым. Палачи схватили Пугачева за рукава тулупа и поволокли по ступеням наверх. И стал он у своей плахи недвижим, затихший.

Кроме заготовленных висельников, вслед за Надёжей натащили еще немало народу из его близких единовольников. Их, как и его, приставили близехонько к ихним плахам, последнему земному достоянию. И за спиной у каждого, как ангел-хранитель, – палач.
Для казни Емельяна Ивановича, как на большие царские праздники, составлен был нарочитый церемониал.
Надлежало: отрубить ему правую руку, левую ногу; помедлить; отрубить левую руку и правую ногу; напоследок – голову. И в тот же самый миг, как почнут кончать Пугачева, предписано поднять стукотню и на прочих всех плахах.
Одновременность казни надумана в назидание: вместе злодействовали – вместе держите ответ!
Заморил сенатский секретарь чтением долгой сентенции. Верхом на лошади, полицеймейстер Архаров уж и посадку свою ястребиную утратил, сидел курицей, притомился работой за последние-то деньки! И тут и там опасайся, за все про все отвечай!
Знал он: подлый народ – что греха таить – сожалел Пугачева. Ни анафемы митрополичьи, ни царицыны, позорящие злодейское имя, публикации – не помогало ничто.
Кабы сейчас чего не вышло, когда стоит Емельян Иванович на своем эшафоте еще выше над всеми, чем когда ехал на санях, и ждет своей казни!
Чует ли он, как далеко за фронтовой цепью солдат грозятся в народной толпе пустить за него по дворцам и поместьям красного петуха? Чует ли, как ему шлют благословенья умильные, как шепчут губы замученных неволей людей: «За нас, батюшко, муку принимаешь!»
Донесли полицеймейстеру Архарову, что болтовня идет по народу: помилования ожидают злодею. Только сего и желают. Кабы не кинулись отбивать его!
Встряхнулся Архаров, колесом выпятил грудь. Сейчас кончать будут свое дело заплечные мастера, и никому жертвы у них не отбить. Приказ дан – приказ выполнят.
Глянул вкось на царя самозваного: где тут царь? Несметны тысячи таких, как он, на Дону. И чем только взял? Ни осанки, ни росту, не зверообразного какого обличия! Совсем еще не старый, обычный чернявенький казачишко!
Пугачев один стоял на эшафоте с открытым лицом. Прочим, возведенным ему в компанию, понадевали на голову тюрики – мешки смертные.
Пугачев был покоен, окончив свой бурный жизненный бег.
Архаров подал знак последний – шагнул старший палач и стал. Бросились подручные старшего палача, как стервятники, на свою жертву – на Емельяна. Сорвали с него белый бараний тулуп, схватили за рукав шелкового малинового полукафтанья.
Последним взором обвел Пугачев несметных людей, и горячо загорелись глаза. Тряхнул головой. Торжеством пронеслось:
«Всех не переказнишь – будут черные бороды!..»
На старшем палаче один миг задержался глазами. Как своему, как мужик мужику, Пугачев ему глянул прямо в упор…
Встряхнулся полицеймейстер Архаров, – слава те господи! Последний момент. Приказ свыше дан – приказ выполнят.
Размахнулся палач. Сверкнул на морозном солнце наостренный топор и скосил вмиг Емельянову злодейскую голову.
Архаров в ярости дернул коня. Вспрянул конь на дыбы. Обрушил конь со звоном передние ноги на камни мостовой. Изругался в бешенстве полицеймейстер.
Приказ дан, да не выполнен.
К измывательской, к мучительной казни – четвертованию – приговорен был сенатским определением Пугачев, а палач ни минуточки ему не дал помучиться. Палач одним махом снес ему голову, а про четвертование словно забыл.
Нет, не потешил палач чувства мести дворянской. Казнь Пугачева была без издевки, в самый чуточный миг.
Как зверь изругался Архаров, словно кнутом полоснул своей бранью чиновников. И вскричал старшему палачу судейский:
– Ах, сукин сын, что это ты сделал? Рубай скорей руки и ноги!
И старший палач отрубил их уже мертвому Пугачеву.
На железную спицу поверх двух столбов насадили голову Емельяна Ивановича.
И, не закрывая век, смотрел Пугачев на Москву, где, если б ему на нее только вовремя двинуться, мог бы не на плахе лежать – на троне в Грановитой палате сидеть.
В миг казни Пугачева выбиты были со своих скамеек все висельники с тюриками на головах. Чуть качаясь, повисли они, как большие дворцовые люстры в белых, на лето надетых чехлах.
И отметил в своей памяти для потомков очевидец: гул аханья и превеликие восклицания жалости пошли по всей площади.
А старшего палача, заменившего сенатское постановление о позорном четвертовании злодея Пугачева легким и мгновенным отсекновением его головы, Степан Иванович Шешковский, сам первейший в империи заплечных дел мастер, тихонько допрашивал о причинах его предерзкого ослушания.
По своему обычаю, Шешковский ласково окликнул приведенного к нему палача. Осведомился об его имени-отчестве. Засим, подойдя легко, шажочками, вдруг что силы поддал ему в нижнюю челюсть. Таково ловко умел поддавать, что свои зубы вместо ответа на пол сплевывал опрошенный. И кулачком-то хватил господским, не дюже великим, а видать, по какому-то заграничному способу был учен.
– Да как это только, голубчик мой, ты посмел? Ручки-ножки злодеевы пожалел? Раньше сроку головку оттяпал? По какому такому резону?
И, не трогаясь с места, отвечал палач:
– Ошибочка вышла.
– Хороша ошибочка – две руки, две ноги! А ну-тка поближе!
Судьба пощадила оставшиеся зубы старшего палача. Прибыл экстренный курьер с секретной эстафетой Потемкина: «Допроса палачу не чинить, зане акт милосердия свершен по воле самой императрицы. Сего разглашать не следует, но дело прекратить».
С неохотой Шешковский отпустил палача, и язвительный домысел о царице скривил его тонкие губы:
– Сама, чай, первая с домашним философом своим разгласит по Европе о своем милосердии. Ну и ловка же наша матушка – старшего палача, и того обобрала.
С казнью Пугачева, хоть и пришло донесение от секретной комиссии, что наступила в крае «вожделенная тишина», башкирцы не успокаивались. Напрасны были увещевания с посулами милостей и угроз. Салават и отец его Юлай продолжали волновать население. Наконец и вожди башкирские были пойманы, были биты кнутом и с рваными ноздрями сосланы навек в суровый Рогервик.
Потемкин, председатель секретной комиссии, послал царице подданически и с усердием свое поздравление о спокойствии внутреннем:
«Настало нам время, в которое премудрость вашего величества, блаженство России, счастие подданных великой Екатерины взойдет на горнюю степень».
Премудрость ее величества и вправду решила шагнуть на впредь недосягаемую народным злодейским бунтом высоту. И надежней опоры, чем Гришифишенька, где ей сыскать? Может, и венчаться решила с ним, как тетка Елизавета с Разумовским, только велено настрого: знать про то, да никому не поминать, одним своим ближайшим да протоиерею от Самсония.
С Гришенькой вместе сейчас одна мысль, заветная: оплот такой надо создать, чтобы навек неповаден был подобный пугачевскому усмиренному бунт, и навек забыть страх бессонный, что любым злодеем отнята может быть царская власть, если народ власти захочет.
Потрясло ее пуще всего, что сей неугомонный «враг внутренний» с такой легкостью пошел против. А сорвался однажды с цепи, – кто поручится, не сорвется ль еще? Заковать его, запереть на запоры, а дворянам – ключи. Другого выхода нет, как идти впредь рука об руку с новым дворянством, во главе коего он – бели медведь, Гришифишенька.
И не перелистывать уж отныне не токмо не любезного сердцу Руссо, даже приятельские Вольтеровы вольнодумства. И забыть все девичьи мечтанья о вольности…
На его, фаворитовой, родине, в Смоленской губернии, предположено впервые открыть новые учреждения. Ими преобразовано будет местное управление и до предела усилена власть помещиков.
Через новые сии учреждения от самого трона до последних глухих углов империи протянуты будут тончайшие щупальцы правительственных канцелярий.
Звено к звену будут подогнаны столь крепкие цепи надзорные, что не токмо самовольству не будет места, а никакой мысли, не любезной властям.
И Паниных честолюбивые замыслы и враждебность родовитых домов – все будет той цепью обмотано.
В долгие ночи с Гришифишенькой, между любовных забав, строится вот какое, государственной важности охранение самодержавной империи.
«Князь тьмы» – именуют Гришеньку Панины и все иже с ними. Еще бы: провалился навек их прожект о воцарении Павла и себе власть прихватить.
Новые дворяне, новые полицейские чиновники защитят не за страх, за совесть. Защитят ради себя самих ее самодержавный трон.
Было время одно – из просветительной философии жали сок, ныне время иное, ныне одна поддержка трону – дворяне. С ними, значит, и счеты. Гришенька – скиф, он говрить любит одними простыми русскими словами: дворянам нужны деньги, нужны земли и рабочие руки, сиречь мужики.
Гришенька прям, как истый солдат: чтобы в казне были деньги, потребны новые войны! Ну и нечего церемониться ни с Польшей, ни с Турцией.
Словом, в долгих разговорах, с cher époux, [87]87
Дорогим супругом (фр.).
[Закрыть] – так его уже приучалась звать в письмах, – вырабатывалось совсем новое управление, где прежним просветительным забавам уже места не было.
Не умирать же ей, в самом деле, за титул: «философ на троне!» Довольно остроумия. Сам учитель Вольтер, как фиговым листком, прикрывает своим вольнодумством не бог весть какую мораль.
Доводы в защиту нового управления приводил Гришенька неглупо, прямехонько в точку: сколь ни велика в количестве сила мужичья, ей не устоять перед натиском войск регулярных. Ведь тотчас и усмирили бунт, едва толком взялись!
И все приходило к одному, как пелось в детской игре: «revenons à nos moutons», [88]88
Вернемся к нашим баранам (фр.).
[Закрыть] – побольше регулярных войск, побольше завоевательных войн, побольше денег и новых земель!
Новые земли заселит Гришенька беспокойными и беглыми. Солдат заставит кормить хорошо, амуницию им упростит, этим самолично займется, – а дворян поощрит, наградит.
Хитро говорит Гришенька: людишками управлять умеючи – людишки и не пикнут! Отныне у кормила государственного корабля «два богатыря» – Екатерина и Потемкин. Они спасут корабль от бурь и подводной угрозы.
От слов пора перейти к делу.
Что же до гордецов, кои пожелают свободы превыше доходов, чинов и покоя, – нет-нет, а беспокоил вопрос:
«А в случае окажутся не похуже, чем Пугачев, им возможно рога обломать и резвость утишить – кому в крепости, а кому и в Сибири. Мало ль ссылочных мест? Империя обширна».
И мелькала у императрицы в острой памяти одна пустяковая, однако идущая к делу подробность:
«Продолжению «Деревни Разоренной» в новиковском журнале не быть!»
Государственный руль твердо повернут. Потемкиным власть взята, за ним и останется. И царствование Семирамиды Севера прославлено будет первейшим из пиитов.
Что власть останется за Потемкиным независимо от фавора – это скоро поняли все. Масонские круги, дабы сохранить свое достоинство, поспешили противопоставить «князю тьмы», нелюбимому за самовластье выскочке, свое обновленное учение, восходящее через «философа неизвестного» к самым истокам человеческого бытия.
Радищев не мог говорить с Новиковым о потрясших его глубоко событиях пугачевщины и ею вызванных мыслях. Новиков был всецело поглощен своими поисками «истинного масонства». Для этой цели ему неизбежно было вступить в ложу и стать братом внутреннего посвящения.
Случай к этому представился, когда Яков Федорович Дубянский, сотоварищ Радищева по Лейпцигу, подал наместному мастеру ложи «Урании», писателю Владимиру Лукину, письмо, подписанное им и другими членами, с просьбой «конституции» для учреждения новой ложи – «Астреи».
Конституция была получена, ложа торжественно открыта, и Новиков в нее вступил членом.
Пугачевщина потрясла и Новикова. Его глубокой религиозности всякие меры борьбы со злом в форме насильственной были невозможны. Но честность душевного склада, человеколюбие и строгость деятельной воли настойчиво побуждали найти исход, дабы оказано было противодействие безудержному произволу наступающего потемкинского правления.
В своих поисках «истинного масонства» он уже прослышал про Рейхеля, знакомого с только что появившейся в печати во Франции замечательной книгой «философа неизвестного». В сей книге давался разумный ответ на все запросы жизни, общества и души.
По тайным каналам в письмах доходили до русских масонов фрагменты из этой книги, приводившие ум в равновесие, дававшие примирение мучительным противоречиям сознания и воли. Книга была «философа неизвестного» – Клода де Сен-Мартена. Ей предназначено было в дальнейшем сыграть столь важную роль в судьбе русских «мартинистов».
О ЗАБЛУЖДЕНИЯХ И ИСТИНЕ, ИЛИ ВОЗЗВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОДА К НАЧАЛУ ЗНАНИЯ
«Сочинение, в котором открывается примечателям сомнительность изыскания и непристойные их погрешности и вместе указывается путь, по которому должно бы им шествовать к приобретению физической очевидности о происхождении Добра и Зла. О человеке, натуре естественной: вещественной и невещественной. О натуре священной. Об основании политических правлений, о Власти Государей, о правосудии гражданском и уголовном. О науках, языках и художествах».
Идея новой разновидности «тайного учения» была для многих ко времени. Она снимала ответственность за отсутствие решительного противодействия власти там, где совесть и разум этого противодействия требовали, и вместе с тем давала своеобразную и стройную моральную систему.
Главное в этом учении было: человеку надлежит раньше всего стремиться к достижению совершенства личного. При совокупности совершенств персональных само собой, медленно, но верно произойдет отпадение всех зол, созданных богатством и прочим многообразным неравенством людей.
Всякое насильство и кровопролитие в защиту чего бы то ни было вызывают у противной стороны таковой же ответ. Желаемая человеку гармония золотого Астреина века может быть достигнута навсегда только бескровно…
Алексис Кутузов во фрагменте, дошедшем до него из книги «философа неизвестного», в параграфе о звании военном нашел для себя утешительную базу и оправдание перед требовательным другом Радищевым, укорявшим его покорством властям без рассуждений об их жестокой несправедливости…
«Звание военное – первое по порядку, понеже там должность каждого определена. И там не вменяется в стыд быть ниже прочих членов того же тела. Но единственно стыдно быть ниже своей ступени».
Кутузов доказывал другу, что общество военных предшествует всему устроению человечества в грядущем золотом веке.
Новиков же утверждал, что на долю одного лишь просвещения может выпасть славный удел хоть медленно, зато верно продвинуть все человечество в Астреин век справедливости…
К волнению, потрясшему всю страну, у Радищева прибавилось еще томительное беспокойство за свое счастье с Аннет. Ее мать настолько была против сей незначительной, по ее мнению, партии для своей дочери, что, несмотря на вырванное у нее согласие, то и дело измышляла новые проволочки нежеланному браку дочери.
Радищеву удалось выбраться наконец из Петербурга ровно полугодом позднее, нежели он собирался. Он поехал в родовое имение Облязово, в Саратовскую губернию, к своим родителям, дабы получить и от них благословение на свой брак с Аннет Рубановской.
Охваченный душевной мукой, близкий к отчаянию, ехал Радищев разоренными землями крестьян, где нищенское их хозяйство, описанное им самим с такой правдой в новиковском «Живописце», выступало сейчас в еще большем убожестве и разорении.
На большой дороге то и дело встречались партии арестантов на канатах, сопровождаемые гарнизонными солдатами. Это последние остатки пугачевских бунтовщиков препровождались в места ссылочные.
То тут, то там указывал кнутовищем ямщик на уцелевшие от панинского усмирения виселицы и глаголи.
Ужасен был вид смертельно изможденных людей: женщин, почерневших от муки, и голодных детей, по милосердию царицы занятых рытьем огромных валов вокруг города и большого села. Заработок их был по приказу: «удобная казне хлебная плата». Дома же они ели, почитай, один желудь да лебеду.
Возможно ли, нося в своей памяти сии расширенные голодом детские глаза и стариковски сморщенные личики, заниматься, как масоны, только «приведением себя самого в приближение к совершенному виду»?
Мучительство выше меры одних и жирное благополучие и бездушность других смогут ли выбраться из своего уродства одним просвещением умов? Мало ль знаем в истории просвещенных злодеев и деспотов?
Нет, обезвредить законами злую волю, не дать ей заедать чужой век, все сравнять перед судом и в свободном владении землей – вот выход.
Таковы были мысли Радищева, и бессилие помочь безмерности народного бедствия доводило его до душевной болезни. Сейчас он ехал, нечувствительный к прелестям столь любимых просторов ковыльных степей. Равнодушно смотрел, как сквозь желтизну прошлогоднего жнивья обстают дорогу веселые новые зеленя.
Он только горько противопоставлял бессмертное равнодушие природы неизбывному горю людей. И собственное личное счастье – предстояла свадьба с Аннет – показалось сейчас чуть ли не беззаконием…
Правда, его безмятежность и в юные годы была недолга. До того решающего часа, пока не потрясено было его сознание мыслью, которая, забрав в себя всю силу его мозга, довела ныне до мучительства…
Было дело во время жнивья: воздвигнуты уже были по всему полю скирды, в которых ему нравилось искать сходство с готической постройкой.
И вдруг молнией пронзила та мысль: крестьяне идут домой, отдав весь свой трудовой день не на свою – на чужую работу! Идут такие же люди, как он, вот поют песни, смеются, но это люди не свободные в своей жизни, счастье, работе, в своем достоинстве человека. Это люди крепостные. Их хозяин, собственник, барин – помещик. Он их может продать, засудить, убить, и ответа с него не спросят.
Среди тихого вечера, среди «белокурого океяна» спелых колосьев опалившая сердце молния – вот та единая мысль. Сейчас снова они, эти родные места, после лет учения, службы, после пугачевщины.
За обширным полем дорога пошла вверх по пригорку, крутым спуском прямо к реке. Текла река быстрая, чистая по мелким, сквозь воду видным камням.
Налево тянулся обширный яблоневый сад, огороженный плетнем. За садом белела стволами старая березовая роща.
В деревне было около полсотни изб. Все обитатели знакомы поименно: с кем мальчишкой бегал в ночное, с кем по ягоды. Что они сейчас – Маши, Феклуши, Дуни? Небось все уже матери!
Прямо против двора при самом въезде – три березы, «современники детства». Тут же опять речка в глубоких берегах. И конопляники за избами, крытыми соломой. От конопляников потянуло особым, жарким, им одним свойственным запахом, и Радищев понял всей душой, что приехал к себе на родину.
Встали в памяти как-то разом грибные березники и любимые с детства лужайки изумрудной травы с веселою земляникой, с ромашками, с гудящими пчелами, и пышный румяный закат.
На голых обрывах пригорков вскрывалось само тело земли, не прикрытое ни кустом, ни травою. Оно было то из желтой глины, то из черного жирного чернозема.







