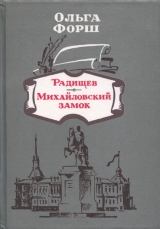
Текст книги "Радищев"
Автор книги: Ольга Форш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц)
Кутузов невольно попятился, недоумевая, – столь сходственной была в полумраке эта тень с портретом, им изучаемым. Однако сам «бюргермейстер» важного фасона внезапно не выдержал. От пыльного щекотания в носу он прегромко и многократно чихнул.
Тотчас Морис пустил гореть все светильники и со смехом скомандовал:
– Базили, снимайте ваш перрюк!
Тень тотчас скинула многоярусный парик, и перед друзьями предстал хорошо им знакомый дядька Ушаковых.
– Середович! – захохотал первый Радищев. – Ну с каких это, братец, пор ты ходишь в тенях?
– А вот и Минхен, – вывел за ручку из темной комнаты Морис. – Рекомендую – великая рукодельница. Воротник тени – ее вышивка.
– Морис, – воскликнул вне себя Кутузов, – во имя справедливости вы обязаны назвать себя! Вы обязаны назвать того, кто арестовал Шрёпфера.
– О, это все тот же человек в черном кафтане, которого вы искали со дня носорогова чуда, дорогой Алексис. Что же касается меня, я вам себя назову лишь при следующей нашей встрече. Я вам обещаю, что эта встреча будет весьма скоро. Она будет на вашей родине. А пока прошу вас запомнить одно только: я тот друг, который готов остеречь вас всегда от ложных увлечений… Теперь, мои дорогие, нам здесь делать больше нечего. Выйдемте отсюда. И прошу вас обоих, – Морис слегка поклонился Радищеву и Кутузову, – прошу не бранить злосчастную «тень бюргермейстера». Ведь не кто иной, как я сам, желая основательней вас разубедить, любезный Алексис, порекомендовал через Минну в подручные Шрёпферу нашего милого Базили.
Власий, считая, что наступила минута, когда ему надлежит выполнить урок сегодняшнего дня, завопил:
– Лопни глаза мои, ежели этот ферфлухтер немец не улещал меня на коленях подновить себе морду и напялить парик!
Глава четвертая
Миша Ушаков сверх обыкновения спозаранку ушел в коллегию. Дома был один Власий. Он выставлял проветриться во дворе общежития барчуковы сундуки – пора было готовиться к отъезду. Неожиданно, украдкой, подошла к Власию фрейлейн Лизхен, пассия Мишеньки.
Лизхен была в кружевной мантильке, накинутой на голову и скрывавшей черты, так что Власий вовсе ее не узнал, принял за Минну и улыбнулся с приятностью.
– Герр Базиль, у меня к вам важное дело, – прошептала Лизхен и метнула из-под мантильки глазками.
– Тьфу ты, и как это я обознался! – проворчал Власий. – Да к чему ты, канашка, врешь? Дело твое нимало не ко мне… а герр Мишенька – фью! Улетела птичка.
Власий потрепыхал локтями, как крыльями, и ткнул перстом в пустое окно общежития. Лизхен поняла, засмеялась, но тотчас настойчиво повторила:
– К вам, герр Базиль, к вам одному дело.
– В таком разе мне с фрейлейн на дворе не гоже, – пожалуйте в апартамент.
Власий провел Лизхен по лестнице и открыл дверь в свою чистую светелку. Победоносно глянул на вышитую скатерть, немедленный подарок Минны после «вызова тени», и сказал пригласительно, широко разведя правой рукой, как бывало на пахоте, когда бросал в землю семя:
– Битте вам, присаживайтесь.
– О, какой восторг! – похвалила, оглядывая комнату, Лизхен. – Вы бравый мужчина, герр Базиль, и – ах! – как мне вас жалко.
Лизхен вынула платочек, но привычные слезки вдруг не послушались, и она только помахала сама на себя кружевцом.
– Ваша любимая Минна, герр Базиль…
Власий насторожился – «ихние бабьи подвохи», – промелькнуло в уме, – и с достоинством сказал:
– Фрейлейн Минна есть скромная девушка.
– Она сквозная голова, – вскричала Лизхен, – она мне хвастала, что вы будете на ней жениться и будто пришла бумага с печатями от самой царицы, чтобы вам стать при дворе камердинером. И будто она, Минна, будет жить в Петербурге, а захочет – так и в собственном здесь доме, в Лейпциге! Что? Вы будете ей в Лейпциге покупать дом?
– Что же, при фортуне… очень обыкновенно. Кому какая фортуна, – самодовольно сказал Власий.
– Это Минне фортуна? Минне? – пискнула гневно Лизхен, и маленький носик ее покраснел. Она забегала по комнате, стрекоча что-то позорное по адресу подруги.
Особо важные обвинения Лизхен выделяла отчетливо и повторно, сопровождая иллюстрировавшим поступок жестом. Так, посвящая Власия в темное прошлое Минны, – отец неизвестен, а мать «eine Dirne» – гулящая женщина, которая целовала всякого, – Лизхен чуть не задушила в своих объятиях Власия.
– Ну, эти французские штучки, Лизавета, ты брось… – остановил строго Власий, – говори одно дело.
Дело же, – с грехом пополам понял Власий, – заключалось лишь в том, что, позавидовав Миннину счастью, подруге пришло в голову его погубить.
В доказательство своих показаний насчет прошлого Минниной матушки Лизхен обещала выкрасть из сундука Минны особый билет с обозначением ее профессии и запрещением носить шелк и золото и в церкви стоять рядом с женами почтенных людей. Когда Лизхен с Минной еще дружила, та показывала ей сама этот билет и страшно ругала законы и самого господина бюргермейстера, их представителя.
– И все, что есть у Минны золотых вещей, – а у нее их ай, ай, ай! – с завистливым блеском в глазах перечислила Лизхен по пальцам, а когда не хватило пальцев, простым устным счетом, предметы давних своих вожделений – браслеты, аграфы, парюры [58]58
Украшения.
[Закрыть]недавней подруги, – герр Базиль, все это хоть дорогое, но для человека честного, какой вы есть, приданым считаться не может. Ведь мать Минны нагуляла все это в публичном доме, ведь она была eine Dirne!
– Великое дело – прошлое, – ответствовал Власий. – Уж и то добро, что эта мать хоть публичная, да рачительная!
Внутренно Власий радовался, что у Минны оказалось столько ему неизвестных богатств, – на гостинцы можно и не тратиться. И, вставая в знак оконченной аудиенции, он нравоучительно сказал Лизхен:
– Как на деньгах, равно и на мануфактурном товаре никакого сраму быть не может.
– Однако ее в нашем городе никто замуж не брал как раз из-за этой причины, – презрительно фыркнула Лизхен.
Власий развел руками:
– На вкус и цвет товарища нет – кому арбуз, кому свиной хрящик.
Пословицы Лизхен не поняла, но почувствовала, что Власий не только на Минну не сердится, а, напротив того, ей сплетня Лизхен как-то оказалась в профит. Она рассердилась сама на себя и уже с непритворными слезами сказала:
– За что же, герр Базиль, про меня вы так худо Мишеньке говорите, а этой Минне у вас почет? Ведь она по самому рождению уже хуже меня! Мой папахен – почтенный бюргер, он имел должность…
Но Власий осуждающим жестом прервал:
– Человека, милочка, родят не спросивши. Вот я, примерно, крепостного звания ни у кого не просил. Человек, милочка, только за персональное свое поведение отвечает.
Власий легонько щипнул круглолицую Лизхен и добавил галантно:
– Вот за французские за свои штучки ответишь! А засим благодарим, визитация окончена и гутен вам таг!
Власий открыл дверь, сердитая Лизхен, шурша юбками, выбежала вон из светелки.
Однако оброненная ядовитая сплетня свое действие над Власием возымела: деньги и вещи – оно, конечно, – срамом не пахнут, но и то надо в память принять: от яблоньки яблоко падает недалече. Когда еще Морисова сказка о воле обернется былью, когда еще деньги свалятся купить здесь кофейню, а отъезд с барчуками домой на носу. Хорошо б Минну придержать чем-либо устрашительным в благолепии заглазного поведения. Девка молодая…
И, вспомнив, куда собирался наутро идти, любя волнительные зрелища, Середович решил для назидания обязательно прихватить с собой Минну.
А собирался он посмотреть казнь девушек-детоубийц.
Когда рано утром Власий и Минна подходили к лобному месту в Рабенштейне, Власий был очень доволен, что тут все без обмана, совсем как напечатано было на картинке, прибитой к городскому столбу.
Из больших камней полукругом сложен высокий помост, чтобы народу хорошо было видно. На помосте, сверкая обоюдоострым мечом, стоял палач в хорошем кафтане и ждал не шелохнувшись, как статуя. Преступниц еще не привозили.
Народу, несмотря на ранний час, было множество; усыпали холм, камни, редкие большие деревья. Казалось, на пустыре этом опять большое гулянье, как было недавно после присяги курфюрсту. Женщины все нарядны и возбуждены. Чтобы получить хорошее место, они забрались сюда до рассвета. Сейчас стрекотали, закусывая, а мужчины спорили громко о палаче, – вроде об заклад бились, – хорош ли будет у него удар. Вспоминали, как в прошлую казнь молодой мастер, привезенный из Иены, по неопытности два раза рубанул по шее некую Эльзу, и то не убил. По самый локоть рассадил ей соскользнувшим мечом руку и прикончил преступницу уже не на плахе, а на досках помоста.
Вдруг все вскочили, толпа завыла, махая платками и шапками. Показалась телега с детоубийцами. Минне и Власию хорошо рассмотреть их проезд не пришлось, потому что пришли они поздно, а за спинами горожан стало видно, только когда девушки начали подыматься вверх на помост.
Девушки медленно шли по ступенькам, нарядные, в новых платьях с пышными юбками и в белых косыночках. Этот праздничный костюм был милостью, которую власть оказала преступницам, снисходя к просьбам их родных. У девушек в руках – для позора и в память того, что именно этими тонкими, слабыми руками они совершили свое злодеяние, – звенели тяжелые цепи. Для равновесия девушки выставили пред собою эти руки в цепях, подымаясь с трудом по высоким ступенькам.
При взгляде на их покрасневшие лица, на глаза, опущенные вниз, на эти выставленные вперед руки, издали можно было подумать, что две нарядные кельнерши в праздничных платьях несут яства на тяжелых подносах каким-то важным гостям.
Минна, не отрывая глаз, глядела на их голые шеи. У одной девушки, Иоганны, шея была белая, пухлая, с еще детской складкой; у другой, Регины, – худенькая, с бьющейся голубой жилкой.
Какой-то человек в черном кафтане стал читать уже всем известное преступление девушек, потом к ним подошел с распятием пастор.
Девушки одна за другой приложились к кресту и вдруг разом как подкошенные упали на колени и, уронив руки по швам, далеко вперед послушно вытянули головы.
– Они озабочены, чтобы белые их косынки остались незапятнанными! – сказали соседки. – Они очень прилично хотят умереть… aber ganz anständig. [59]59
Вполне прилично (нем.).
[Закрыть]
У женщин Лейпцига было поверье, что, если тело погребено с покаянным стишком в зубах и в чистой белой косыночке, душе будет легче пройти все тяжкие мытарства.
Пока седая старуха разъясняла любопытствующим молодым эти загробные тонкости, палач не спеша стал снимать свой кафтан, чтобы правой рукой было сподручней рубить.
Толпа же, не владея собой, ринулась с воем к помосту. Ринулась и затихла. Потом дважды, одной огромной общей грудью, все разом ахнули, когда палач, сверкнув на солнце высоко вознесенным блестящим мечом, тяжко его уронил, свершая казнь «отделения головы от тела».
Первый удар палача был по беленькой пухлой шейке Иоганны, второй обрушился на тонкую шею Регины, с голубой жилкой, бившейся, как подкожный фонтан. Палач высоко над головой поднял одно за другим легкие девичьи тела и возложил их для более длительного позора и публичного назидания на колесо.
Отрубленные головы девушек были поставлены на спины туловищ. Палач разъял лезвием меча судорожно стиснутые зубы и вложил каждой покаянный назидательный, напечатанный в лейпцигской типографии, стих. Он начинался так: «Mensch, was du thust, so bedenke das Ende!» [60]60
Человек, что бы ты ни делал, помни о конце! (нем.).
[Закрыть]
Стих был прочитан пастором громогласно всей площади.
Вдруг женщины с испугом зашептались:
– Палач перепутал головы!
– Голова Иоганны на спине у Регины…
– А не все ль им равно, – отозвался мужчина, – чья у кого голова? Ведь уже больше в ратхаус танцевать не пойдут.
– О милосердный бог, они больше танцевать не пойдут! – И только сейчас поняв, что произошло, Минна залилась слезами.
– Необходимо переставить девушкам головы! – кричали в ужасе женщины, глядя, как под пухлой шейкой Иоганны большим красным подносом сгущается кровь, а под головкой свисают чужие, длинные руки тонкого туловища Регины. Между тем коротенькое пышное тело Иоганны, с раскинутыми ручками в ямочках на локтях, служило пьедесталом голове смуглой подруги.
– Ох, надо переменить им головы… Как предстанут они с чужой головой на Страшном суде?
И Минна не хотела уходить с пустыря, пока не уверилась, что палачу известна ошибка и что остались добровольные контролеры, которые при положении казненных в гроб присмотрят за тем, чтобы тела их положены были с собственными головами.
Что касается Власия, – в конце концов он был недоволен. Все вышло молча, скоропалительно, словно орудовано было не над людьми, а над восковыми фигурами. И главное – девки казненные ничуть не повыли…
– Вот ежели б так наших русских… – сказал он Минне, когда отошли, – при всем при честном народе, – да впору бы уши заткнуть и куда глаза глядят… А эти твои и не визганули.
– Но так гораздо приличней, Базиль! – воскликнула заплаканная Минна. – Они совершенно прилично умерли – aber durchaus anständig, и родным ихним не стыдно, и герр пастор их будет хвалить.
– А на черта им резаного пасторова похвала? Слыхала… танцевать не пойдут. Лучше попричитали б честь честью, народ бы их пожалел. Причитать бабам надо, а они ровно куклы. Ну, пойдем, што ль, кофию попить…
Власий не окончил и шарахнулся в толпу. Он наткнулся лицом к лицу на Радищева – барина. Но тот его не видал. Стоял высокий, помертвелый, не иначе сам зарубленный. Ни кровинушки в лице, а глаза темные и немигучие.
– «Может, припадок с ним будет, – опасливо подумал Власий, – водичкой бы прыснуть…»
Но Радищев сорвался вдруг с места и стремительно зашагал в лес.
– Ах, герр Базиль, почему девушкам подобная казнь, почему? – плакала Минна. – Вот им отняли головы один раз и навсегда, а тот мужчина, который их соблазнял, тот мужчина сейчас, может быть, выпивает пиво и думает, как лучше соблазнить ему новую девушку! Ах, отчего так несправедливы люди, герр Базиль?
– Чего людей в такое путать? Сам, значит, бог девок обидел. – Власий был раздражен так, что многообещающее зрелище его не взбудоражило. – С мужиком разве можно девку равнять? Где мужику встать да встряхнуться – там девке рожать! И вот вы, фрейлейн Минна, смотрите мне, – Власий погрозил выразительно пальцем, – соблюдите себя! Затем вас на такое дело и приводил. Значит, для примеру.
Потрясение чувств Радищева было велико. Кроме ужаса и пронзающей сердце жалости, позорное зрелище, коего он был только что свидетелем, давало как бы высшую санкцию и священные права последней работе Ушакова – его размышлению «о смертной казни».
Радищев все ускорял шаги, чтобы уйти от ужасного воспоминания – о двух девичьих легких телах, вознесенных высоко на колесе, с беспомощно раскинутыми руками.
О, сколь прав был Федор Васильевич, задавая свой главный вопрос: «на чем основано право наказания? кому оно принадлежит? и нужна ли, точно, сама смертная казнь?!»
Со всем пылом присущего ему благородства Ушаков доказывал, что, помимо исправления преступника, никаких иных целей у правосудия истинного и быть не может. А посему следовало его категорическое: «смертной казни быть не должно».
Образное доказательство Руссо полного бессмыслия отнятия жизни само собой встало вдруг перед Радищевым. Встало не в мыслях, а всем существом кровно им почувствовалось, едва он представил себе государство цельной персоной, а граждан – членами сей персоны. И сколь плачевно-бессмысленный получился немедленно вывод!
Ежели человеку, например, переломили ногу, то он, исходя из данного понятия, будет принужден уже нарочито раздробить и другую. Кому? Сам себе!
Ежели цель у государства одна, – шагал опять по проселку Радищев, – ежели цель эта – благосостояние собственное, то и наказание всякому преступившему должно заключаться лишь в том, дабы воспрепятствовать кому-либо здоровью общественному навредить. Но препятствовать вреду, не налагая притом ослабления ни на физические, ни на моральные силы злодея. Нет такого человека, который не оказался бы где-либо на своем месте и к чему-либо для всех пригодным. Надлежит только приобрести способ всестороннего исследования преступника, надлежит найти безошибочное применение его сил. И, не ровен час, вчерашний убийца – сегодня спаситель человечества, знаменитый хирург. Вот оно, вот единственное разрешение вопроса об исправлении преступного.
О, сколь трудна будет подобная работа у себя на родине… – внезапно перебились общие рассуждения Радищева такой близкой, своей, домашней болью. Он уже знал, что императрица, воспитавшая себя на Беккариа и Монтескье, их мысли включившая в свой знаменитый «Наказ», была щедра только для дворянства, ибо на него опиралась, а народ пуще прежнего замучен черной работой. Но если б даже царица оказалась верной опорой молодым просветителям, то дворяне допустят ли насаждать? Нет, вовек не захотят согласить волю свою с волей народа, который у них в столь им прибыльном позорнейшем рабстве находится. И, следовательно…
Радищев встал, отряхнулся, подошел к роднику, неподалеку бившему в камне, освежил пылавшее лицо и, овладев собой, но еще не желая встречаться ни с кем, зашагал по направлению к крепости Плейсенбург.
Привычка, по мнению Гельвеция, – вторая природа, если не первая. И если государство поставить на должную высоту, то сам собой подымется в нем и человек как достойный его гражданин. Ergo… [61]61
Значит (лат.).
[Закрыть] – вторично подошел Радищев в своих мыслях к последнему волнующему выводу, – чтобы человек правильно мыслил и справедливо поступал, надо в такой же мере, – если не в большей, чем его перевоспитание личное, – приняться за переустройство всего государства.
Крепостные стены с башнями и зелеными валами предстали перед Радищевым. В былое время сюда сажали важных преступников, здесь Лютер сражался с Экком, здесь недавно останавливался в придворных залах курфюрст для принятия присяги. В верхнем помещении была сейчас устроена постоянная академия живописи. Первым директором ее был знаменитый художник Эзер. При государственной академии он открыл и собственные частные курсы живописи.
Гёте охотно ходил рисовать к Эзеру. Об этом говорили в университете, потому что с некоторых пор Гёте стал предметом всеобщего внимания. Он высмеял в иронических стихах ходульную музу профессора Клодиуса. Его стихи, углем написанные на белой стене кондитерской известного в городе Генделя в прославление его вкусного производства, – тем же размером и с той же напыщенной образностью, с какой Клодиус трактовал свои сюжеты, – были у всех на устах.
Радищев подумал, что если Гёте будет в мастерской и будет один, то он к нему подойдет и непременно познакомится ближе. Необыкновенная внешность юноши, таланты его и какое-то особое, гордое право на жизнь и ее радости Радищева и привлекали и мучили непонятно. Необходимо было узнать, в чем же сила этого молодого? Где ее источник, каковы устремления в будущее?
Академия художеств была первым подарком, который недавно заключенный мир поднес городу Лейпцигу. В старинном замке по винтообразной лестнице Радищев поднялся в залы, полные простора и света. Стены были покрыты картинами и переносили из германского торгового города в чудесную страну итальянских мастеров.
Было еще слишком рано. До начала обычных занятий только немногие из самых ретивых сидели за мольбертами. Рядом в кабинете коллекций минералов и редких книг по искусству, куда заглянул Радищев, целой группе молодых старший ученик и помощник Эзера так объяснял творчество учителя:
– Композиции Эзера основаны не на рисунке, а на светотени. Это повод врагам находить у купидонов его картин сбитые контуры и фигуры богинь громоздкими. Но что бесспорно, как прелестная улыбка на некрасивом лице, что отрадно поражает в его композициях, – это всегда нежданная, полная жизни выходка, порой прямо юмористическая, разбивающая чопорность. От этой чопорности, деспотически введенной Готшедом, нам давно, друзья мои, стало тошно, а потому…
Радищев не дослушал. Среди слушателей-учеников прекрасной головы Антиноя не было. Радищев прошел в нижнюю залу. Действительно, Гёте оказался там. Но к досаде Радищева, не один. Рядом с ним торчал длинной тенью неизбежный «серый дьявол».
Оба стояли перед громадным занавесом, который Эзер только что окончил для нового городского театра. Радищев с интересом глянул на занавес и подумал, что характеристика этого мастера, только что им услышанная, дана не без остроумия верно.
Занавес изображал храм Славы. Между двумя группами муз, застывших в своей важности на первом плане, стояли статуи Софокла и Аристофана. Вокруг них толпились вполне современные драматурги в модных костюмах. Взоры древних мужей и современных авторов обращены были на сверкающие вдали колонны храма Славы. И вдруг, среди всеобщей торжественной окаменелости, на свободном просторе картины, в развевающейся, вполне домашней куртке, дерзкая чья-то фигура! Человек в куртке, независимый от муз и мужей, не озираясь назад, шел, как идут в собственный дом, прямехонько к храму Славы, на который вся знаменитая братия лишь робко взирала с умиленным вожделением.
Бериш, указывая на этого дерзкого своей тростью, искривившись, как дьявол, захохотал:
– Еще щелчок по носу герра Клодиуса et compagnie! [62]62
И компании (фр.).
[Закрыть]Вообразите – это сам Шекспир. И от него видны всем одни пятки. По замыслу Эзера, только он, без предшественников, без преемников, не удостаивая всех этих «высокопочтенных» даже взглядом, как пуля, один прет в бессмертье. Можно вообразить, как эта поучительная аллегория за живое задела всех дураков! Молодец Эзер!..
Солнце чудесно дополняло художника. Оно ударяло всей своей силой в колоннаду храма Славы, золотя бесконечность его перспективы. Гёте, чтобы лучше видеть, стал на лесенку и собственной головой попал в яркий луч.
– Стойте так! – театрально выкрикнул Бериш. – Вы так прекрасны на этом месте. От имени самого Шекспира провозглашаю: – Вот он, преемник!
– Бериш, – сказал задумчиво Гёте, – я вчера прочел в одной книге, которую дал мне гехеймрат Бём для ознакомления с искусством Индии, что у них аллегорически изображались с особым вдохновением две идеи: совершенство своей личности и жертва этой личности для совершенства других. Я же думаю, что в идее первой уже заключена и вторая идея, а потому…
– А потому обожайте себя самого на здоровье, мой друг. Меня же нимало не забавляет ни совершенство персональное, ни всеобщее. Самому в тысячу лет не достичь, а утирать нос каждому Гансу и Грете – слуга покорный. Давайте-ка лучше заключим союз: вы будете производить совершенные вещи, а я буду совершенных вещей толкователь. И, как мудрецы, скоротаем наш век.
Оба засмеялись и под руку пошли в верхний зал, не обращая никакого внимания на Радищева.
Наступило время, когда истощение сил Ушакова дошло до своего последнего предела. Никакое отвлечение воли, ни твердость мысли уже не помогали. Оставалось одно – глядеть в глаза смерти и сознавать свое угасание.
Прогулка с друзьями к любимому ручейку была последней вспышкой сил. Так костер, уже догорающий, может под внезапным порывом ветра еще однажды вспыхнуть на миг, чтобы тем быстрее угаснуть совсем.
За три дня до смерти, уже никакими лечебными средствами не заглушаемой, Федор Васильевич ощутил конечное разрушение всего своего тела. И тут он проявил полное присутствие духа, упрашивая врача сказать в точности, возможно ли ему облегчение и долго ль остается жить.
Подробности болезни, поучений и мужественной смерти Федора Васильевича Ушакова достойны внимания особого уже потому, что, по свидетельству Радищева, именно личность этого друга в те юные годы легла в его сознание как пламенный «заквас». И был ему Федор Васильевич – «вождь юности».
Некий врач, уважая Федора, как все его уважали, скорбно понурясь, объявил ему правду: жить осталось не более суток.

Ушаков призвал друзей и, слегка удивляясь, ибо был в полной ясности мыслей, сказал:
– Завтра жизни не буду причастен… завтра? Что же, умереть всем должно, днем ранее или днем позднее – какая соразмерность с вечностью…
Но тотчас, не желая на этой печали останавливаться, благодарил врача, считая подобную откровенность доказательством дружбы.
Вокруг Ушакова собралась вся русская колония. Каждый его обнял. Все рыдали.
– Ну, простите навеки! – сказал Федор. – Теперь уйдите и оставьте меня одного.
Они уходили, оборачиваясь невольно. Он же смотрел каждому вслед, ловя особо взгляд каждого своим умным и знающим взглядом, нестерпимой делая мысль, что такое благородное создание уже завтра канет в полное небытие.
Овладев вполне собой, Ушаков вызвал одного Радищева и, через силу шевеля языком, выговорил:
– Мы столь с тобой много говорили, и столь одинаковое было нам важно. Прими, друг, бумаги мои, разбери, сделай что хочешь. У меня сил хватило только начать… Подойди ближе, дай руку. – И совсем тихо, последним шелестом: – Еще помни, что тебя я любил. Помни, что в этой жизни нужно иметь правила, чтобы быть счастливым. Помни и последнее: нужна твердость мыслей, чтобы не только жить, но и… умереть бестрепетно.
Радищев вышел, уже не озираясь, и почти бегом прошел далеко в Розенталь. Проник прямо в те еще дикие, не разработанные садовником места, где, бывало, в первые годы, когда Ушаков еще был силен, они бродили часами. Слова умирающего, знал он, навеки вошли в его память. Больше того: вошел сам он. Весь духовный облик друга, с пламенем чувств, с неутолимой жаждой познания и твердостью воли, слился с сознанием его и – знал он – до гроба внедрился в сердце.
Переполненный горем, но в то же время дивно укрепляемый этой новой, прибавленной к нему силой, Радищев пришел к Шванентейху – тихому пруду с белыми лебедями. На мягких зеленых холмах здесь все лето цвели колокольчики и белели звезды ромашек. Плакучие ивы купали в воде серебристые косы, исторгая у многих студентов тайный чувствительный стишок. Когда садилось солнце, особая невинность и первобытная свежесть охватывали неизменно этот мирный немецкий ландшафт.
Уже сильно больной, редко сюда добредавший Федор Ушаков, бывало, говорил: «Тут я снова юн и невинен, как на коленях у матушки. Когда помру, поклонись, братец, от меня старой иве! Без чувствительности живут одни бревна».
У этой земли, ласковой и прекрасной, искал прибежища Радищев, когда, рыдая о безвременно погибшем друге, упал под седую иву. Но едва склонился на траву, он сам как бы провалился в небытие, охваченный вдруг мертвым сном.
Радищев проснулся от холода. Солнце давно уже село. Туман стоял над озером. Черными сделались ивы. Сотни рук они спустили плетьми в воду, как бы ловя там кого-то. За холмами в ближнем лесу уже кричали совы, как злые дети.
Радищев вскочил. Сразу все вспомнил и пришел в ужас. Зачем же он здесь, когда Ушаков, быть может, еще не умер? Последние часы, самые последние минуты… Может быть, можно еще раз увидеть живого, если поспешить.
Радищев кинулся краткой дорогой к общежитию. У лестницы внизу стоял Мишенька весь в слезах.
– Ум…мер, – заикнулся он и, не вполне еще понимая совершившееся, обиженно, по-детски прибавил: – Всех Феденька выслал – один Кутузов притаился и остался. Он ведь не брат родной, как я? А вышло – он-то и видел последнее вздымание груди, он один принял последний вздох!
Спустился сверху Кутузов, взял Радищева под руку, отвел в их общую комнату и тихо сказал:
– К Федору сейчас идти нельзя, его убирают.
– Какова была сама смерть?
– Страдания его под конец были ужасны. Знаки антонова огня, объявшего все внутренности, выступили наружу черными пятнами. Он просил меня дать ему яду.
– И, конечно, ты не дал? – докончил горько Радищев. – О, почему я позорно проспал! Друг хотел прекращения ужасного и бесполезного терзания. Я бы не струсил попов, я бы взял на себя. Ведь он в полном сознании тебя убеждал?
– Он был в полном сознании, когда своей рукой хотел положить предел мукам, – сказал бледный, как призрак, Кутузов, – но, поверь, не малодушие остановило меня ему всыпать яд! Нет, но я полагал, что эта минута слабости духа лишь от страдания тела. Ведь я помнил слова, им же изреченные в его сильнейшем подъеме сил: «Друзья, берегите жизнь». И я мнил воздать другу большее уважение, памятуя именно эти слова, если откажусь самовольно разрушить его тело – «храм духа и мысли нашей». Я мнил…
Кутузов вдруг качнулся и без чувств упал на руки Радищева.
После смерти Ушакова столь горькая тоска охватила друзей, что только работой удавалось им заглушить эту тоску. Даже Кутузов, пораженный обманом Шрёпфера, внутренно опустошенный, без почвы под ногами, до сих пор все время убивавший на тщетные розыски как в воду канувшего парикмахера Мориса, с головой ушел в отчетные испытания.
В свободное время новое, тяжелое беспокойство стало терзать Радищева: положение дел на родине. Русские студенты, они окончили курс наук и возвращались домой в конце осени.
Радищев жадно собирал сведения о царице. До последнего времени русскую колонию посещали проезжавшие в Архипелаг воины и вельможи, упоенные славой русского оружия и неслыханной удачей морских битв. Юноши слышали от них одни восторженные отзывы о том громадном значении, которое доставила России в общеевропейских делах Екатерина.
В июле, незадолго до срока отъезда студентов, торжественно праздновала колония необычную удачу графа Румянцева – победу при Кагуле. Все были согласны, что ежели граф был бы разбит неприятелем, состоящим из двухсоттысячной армии, то Порта, с крымскими, буджатскими и прочими ордами, отворила бы свободный ход в Россию и, сообщаясь с врагами ее – Польшей и шведами, положила бы надолго конец ее величию. И не удивительно было, что витии славословили спасение России от бедствий, равняя победу Кагульскую с победой Полтавской, одержанной Петром. И хвалилась сама матушка: «Я так своих расщекотала в их морском деле, что, гляди, все моря заберут…»
Гордились юноши немало и тем, что знаменитый «Наказ», составленный царицей по Монтескье и Беккариа, оказался даже для самой Франции столь вольнодумным, что был строго в ней запрещен.
Но, увы, слова, усвоенные царицей: народы созданы не нами, мы, напротив того, существуем для них, – лишь в начале пребывания за границей необычайно питали надежды мечтателей. Просветительные, дескать, начинания будут насаждаться при содействии самого трона – детские мечты, они сейчас, перед отъездом на родину, уже предстали как злая издевка.
Первое разочарование случилось в 68-м году, когда все столь безмерно прославляли императрицу за смелость и самоотвержение прививки оспы себе и наследнику. Этой прививки всё еще опасались, предпочтя гибнуть, не препятствуя воле божией. От иностранцев наши студенты узнали, что в том же 68-м году издан был Екатериной указ, который запрещал крестьянам жаловаться на жестокость своих помещиков. И больше того: приказано было возвращать жалобщика к тому, на кого жалуется, для домашней расправы.







