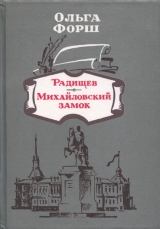
Текст книги "Радищев"
Автор книги: Ольга Форш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
«Толико ненавидели они их, что ни один не хотел миновать, чтобы не быть участником в сем убийстве, как то они сами после призналися».
Радищеву мало было дать просто картину жестокой жизни. Силой своего слова он хотел заставить читателя быть заодно с крестьянами в их правом суде. Если у него не было права и власти карать извергов, то хотя бы расправу с ними он хотел узаконить. Он крикнул всем насильникам как предупреждение, как угрозу, как средство последней защиты из терпения выведенных рабов:
«Невинность сих убийц – математическая ясность».
Рассматривая это вопиющее дело, Радищев признается во всеуслышание, что он «не находил достаточно убедительной причины к обвинению преступников. Крестьяне, убившие господина своего, были смертоубийцы. Но убийство сие не было ли вынуждено? Смерть этого помещика хоть насильственная, но правая».
Радищев до самого утра правил последнюю корректуру своей книги.
В главе «Тверь» измышленный герой путешествия встречается с самим автором «Вольности». Читается сама ода, и великое сочувствие к бедствиям народа переходит уже в потребность действовать ему в защиту.
А народ из страницы в страницу вырастает в великую силу, которая одна и способна переродить, воскресить Россию.
Путь к возрождению – одна революция, разбивающая узы рабства. И, конечно, не забитые смиренники, а совсем иного склада крестьяне, подобные встреченным автором в конце пути, являются грозными мстителями за свое поруганное достоинство человека:
«Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение!»
Впервые героиней русской прозы в главе «Едрово» появляется крепостная крестьянка Анюта. В ее лице Радищев показывает, какой высокий характер может вырастить крестьянская дружная семья, облагороженная трудом. Не менее Анюты поражает мужественной простотой своего характера и рекрут Ванюша из «Городни». Такие крестьяне вызывают уже не жалость, а восхищенное уважение. В них залог всяческой победы русских людей. Все эти высокие качества соединяются воедино в лице великого русского гения Ломоносова.
Заключительные страницы «Путешествия» и посвящены краткому «Слову о Ломоносове». Для Радищева он является совершенным завершением русского человека. Ломоносов – великий муж, исторгнутый из среды народной, русский по рождению, по духу, по делам своим. «И сколь велик своей заслугой перед обществом!» Образ Ломоносова наводит на мысль о скрытых творческих силах русского человека, до поры дремлющих в каждом, во всей полноте вспыхнувших мощно в этом гении русском, многостороннем ученом и поэте.
Когда народ придет к зрелости, когда в его сознание внедрится необходимость возрождения страны революцией, он, вдохновясь благородным образом Ломоносова, можно надеяться, создаст своими руками и новый государственный строй.
Кончив править корректуру и не выпуская последних печатных листков из рук, Радищев стал ходить по комнате. Глянул в окно, распахнул его.

Пахнуло свежим духом только что опушенных листвой свежих майских берез. Заблаговестили в церкви к ранней обедне.
Радищев провел рукой по черным своим волосам. Что-то как бы упущенное вызвал в памяти и для проверки стал листать свою корректуру. Взором ярким и точным, несмотря на бессонную ночь, он быстро нашел в книге желанное место. Как бы не веря своим глазам, что напечатано и оно, прочел его раз и два. Сначала вполголоса, потом громче:
«О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашею обагрили нивы свои…»
Радищев на минуту закрыл глаза и ясно представил себе, как это место читает Екатерина, как читает его Потемкин, как читают многие прочие, как прочтет его известный кнутобойца, заплечных дел мастер Степан Иванович Шешковский, который одним ударом под нижнюю челюсть сбивает с ног допрашиваемого. Так вот на допросе собьет и его…
Радищев долго стоял перед открытым окном; он встречал бледную петербургскую весну, для него, может быть, последнюю.
Лицо его побледнело, но рука не дрогнула, когда, взяв колокольчик, он позвонил и, протянув вошедшему слуге последнюю корректуру своего «Путешествия из Петербурга в Москву», спокойно приказал, дабы старший наборщик сегодня же свез экземпляр в канцелярию полицеймейстера для разрешения пустить книгу в продажу.
Глава восемнадцатая
Екатерина очень долго не допускала, что события, происходящие во Франции, могут иметь какое-то всеобщее значение. Народные волнения, казалось ей, происходят единственно от слабохарактерности короля, от его неспособности вовремя топнуть ногой. Вступивший на престол после презираемого ею Луи Пятнадцатого Луи Шестнадцатый был поначалу весьма ею обласкан. Ей даже нравилось, что жена его, Мария-Антуанетт, дочь неприятной ханжи и всегда ей враждебной Марии-Терезы, по своему чрезмерному легкомыслию оказалась полной противоположностью своей матери.
С течением времени, когда финансы страны стремительно падали, а слабость короля и ветреность королевы помешали даже такому умеренному и одаренному человеку, каким был министр Тюрго, кое-как спасти страну от окончательного разорения, Екатерина стала к французскому двору неприязненна. Не было секретом, что Тюрго, выведенный из терпения слабодушием короля, который не в силах был защитить даже то, что сам в высшей мере одобрил, то есть его реформы, уходя в отставку, в последних строках своего письма к Людовику пророчески ему вымолвил:
«Никогда не забывайте, государь, что слабость привела Карла Первого английского на эшафот».
Это предупреждение уже касалось всех королей, его сейчас надлежало вспомнить по-новому ввиду урагана, охватившего Францию. После краткой попытки реформы восторжествовала партия реакции, вознесшая Неккера, противника Тюрго. Однако и он был отставлен, едва, по мнению двора, совершил дерзкий поступок обнародования государственного бюджета, бывшего до сей поры тайным. Несметные суммы, поглощаемые французским двором, возбудили не только всеобщий народный ропот. Екатерина, сама грешившая раздачей фаворитам миллионов государственных денег, была возмущена.
Однако грозного смысла событий, надвигавшихся на Францию, она настолько еще не понимала, что за год до взятия Бастилии писала Гримму:
«Не разделяю мнения тех, которые думают, что мы будем свидетелями великой революции…»
Узнав во время своей поездки по Крыму о вторичном созыве нотаблей, [101]101
Представителей сословий.
[Закрыть]она увидала в этом лишь только подражание созванной ею законодательной комиссии времен «Наказа». Когда же заговорили о Лафайете, Екатерина, жадная ко всякой знаменитости, не замедлила его пригласить приехать в Киев для знакомства с ней.
Как о забавной шутке над литературным скудоумием Луи Шестнадцатого, императрица рассказывала, что он не нашел ничего важней записать в своем дневнике в тот день, когда народная толпа нахлынула к нему в Версальский дворец, что «события помешали ему продолжить охоту».
Только день взятия Бастилии раскрыл Екатерине глаза и так испугал ее, что выразился резкой переменою поведения.
И когда Гримм, привыкший к легковесной оценке русской императрицей французских событий, попросил у Екатерины портрет ее для передачи мэру города Парижа Бальи, она, без обычной любезности, весьмя ядовито ему написала, что мэру «демонархизатору», врагу самодержавной власти, не приличествует иметь портрет самой монархической в мире персоны, какой является она.
Главным образом ее выводила из себя на глазах растущая роль участия в политике самого французского народа. Она в ярости восклицает, а Храповицкий невозмутимо записывает:
«Как это сапожники могут вмешиваться в политику! Сапожники только и знают, что свои сапоги».
Наконец она додумалась, что одна из важных причин развития революции – это повсеместное гонение на иезуитов и закрытие их школ.
«Что ни говорите, – записал за императрицей Храповицкий, – а эти плуты внимательно следили за воспитанием, нравами, вкусами молодежи, и все, что во Франции было лучшего, вышло из их школ».
Екатерина оказалась самой возмущенной из монархов, когда Франция стала воплощать в жизнь как раз те самые революционные идеи, которыми она прикидывалась восхищенной в творениях просветителей в те далекие дни, когда она поразила Европу своим «Наказом», и еще она любила повторять: «Душа моя – республиканка». Казалось бы, какая пережита ею трагедия: ненавистница деспотизма, волею судеб она сама попала в положение деспота.
Но трагедии не вышло: Екатерину спасло ее великое неуважение к людям, возникшее с детских лет вследствие зрелища бесконечных интриг, несправедливости и произвола русского двора. После перемены в ее судьбе лесть одних, притворство других и продажность всех укрепили ее окончательно в оправдании своего произвола, а Потемкин успокоил совесть: он доказал ей, что после пугачевщины новая полицейская система государства – единственное средство удержать чернь от бунта.
Еще более тонкую поддержку, настоящий выход из сложного положения, когда убеждение расходится с действием, оказал ей старый учитель – Вольтер.
Ненавистник «системы», он учил ее, что всякий догматизм принижает разум и отсутствие ответа за слова и дела стало его легким обычаем.
В конце концов она и сама не заметила, как все чаще мелькало в ее утомленном годами мозгу наместо затверженных прекраснейших истин из энциклопедии просветителей нечто весьма с ними не схожее:
«В конце концов все войско в руках Потемкина!»
Когда придворные, ею воспитанные по старой моде, еще вольнодумные, как люди, донашивающие прекрасно сшитую некогда одежду, с которой им все еще жаль расставаться, восхищались при ней ответом графа Мирабо, с гордостью отказавшегося выйти из залы «jeu de paume» [102]102
Для игры в мяч (фр.).
[Закрыть]со словами, вошедшими в историю: «Только сила штыков нас может заставить выйти отсюда», Екатерина усмехнулась с иронией и сказала:
– Больше доблести – пред штыком не моргнуть. Как видно до конца в своих мыслях и бунтовщики не доходят.
Она достаточно доказала, что была слишком умна, чтобы не понимать передовых идей своего времени. Но если обстоятельства ее правления были таковы, что чем далее, тем становилось необходимее, просто ради того, чтобы уцелеть, удерживать свое самодержавие, то долой колебания и долой все, что может мешать ее власти.
Потемкин разленился. Его теперь все чаще захлестывает тоска, черная, ничем необоримая. Это что-то до того совершенно чуждое ее немецкой натуре, размеренной, склонной к порядку. Непонятна, утомительна, вызывает брезгливость, как и безобразные его кутежи, эта гипохондрия светлейшего. Какая он с нею противоположность! Ведь даже в самые жаркие дни их сердечной страсти ничто не могло остановить ее от раз заведенного ею порядка сидеть в шесть часов утра у рабочего стола и с ясной, как всегда, головой выслушивать доклады.
А он? Коли захлестнет его, как давеча, при осаде Очакова, он, на срам всей надзирающей Европы, показать себя может, как только что показал, сущей расслабленной бабой. Как будто и светлейший уже не тот, на силу его ей по-прежнему не опереться.
Все чаще теперь мысли Екатерины останавливались на иезуитах. Конечно, из всех тайных обществ, против которых столь предупреждал ее в последнее время верный советчик Циммерман, это единственное, с которым власть монархическая должна и может идти рука об руку. И пусть они себе царят над душами, ежели тела подданных умеют делать столь послушными власти царей.
Екатерина с удовольствием вспомнила, что не ошиблась, пустив иезуитов в Белоруссию; в такой спокойный, ее скипетру верный, они, ей в благодарность, превратили весь этот край. Иезуиты, несомненно, враги масонов, особливо того их течения, которое сейчас тщится опрокинуть все троны.
И потому сегодня, когда по особо важному делу Екатерине доложен был маркиз де Муши, она приказала объявить что для всех прочих приема не будет. Маркизу де Муши Екатерина, по ходатайству ей угодных могилевских ксендзов, разрешила снова приехать в столицу. Время от времени она его совершенно келейно и тайно от Потемкина принимала.
Де Муши в последнее время намекал ей, что масоны желают возвести на престол Павла. Он представил изъятые из продажи книги, полученные московскими ложами, об «учреждении феократического правления», об «истинном царе». Хотя Екатерина и дала свое распоряжение эти книги изъять, но для начала каких-либо серьезных преследований, как на том настаивал де Муши, ей нужны были не утопические химеры, а доказательства действительной опасности масонских лож для ее власти.
Со вступлением на престол наследника Фридриха Великого розенкрейцерский орден стал во главе прусской политики, и тем ненавистней сделались московские масоны Екатерине. Вся ее южная политика требовала для своей успешности разрыва с Пруссией и союза с Австрией. Между тем у московских масонов связь с Германией крепла: неоспоримым доказательством являлась зависимость хотя бы того же Новикова от какого-то мекленбургского поручика, его орденского начальника, некоего Шредера. Копия обличающего документа «Письма Коловиона к начальнику» была Екатерине представлена, но оказалось не чем иным, как необычайным по искренности покаянием верующего своему исповеднику.
– Столь богатый разумом человек, как Новиков, может так себя разорять – и перед кем? Перед мекленбургским поручиком! – воскликнула в негодовании императрица. – Что же остановит прочих безумцев при подобном монастырском послушании выдать секреты империи, коль иноземный начальник их совести того потребует?
Гнев Екатерины на Новикова из затаенного ею ещё с времен издания им «Живописца» и «Трутня» с годами делался явной враждебностью.
Еще несколько лет тому назад, когда она узнала об основанных Новиковым училищах в Петербурге, в судьбе которых даже духовенство принимало участие, она язвительно, подразумевая его, написала Гримму:
«Когда это переведутся между образованными людьми негодяи с ложным направлением и кривыми взглядами?!»
Гнев Екатерины на Новикова и масона Походяшина за то, что они в недавний голод, когда она каталась по Днепру, роздали, как ей показалось – с нарочитой целью ее унизить, целое состояние голодным крестьянам, был чрезмерен. Не есть ли их филантропия замаскированное продолжение «колобродных» мыслей в форме, умы возмущающей и пленяющей сердца малых сих?
Екатерина была отлично осведомлена о том, что в масонских кругах происходило необыкновенное оживление, центром которого являлась Москва, откуда отправлен был апостолом Шварц к герцогу Брауншвейгскому за поисками самой истинной мудрости. Вот эта «связь брауншвейгская» уже могла быть рассмотрена как государственное преступление, особенно когда обнаружилось, что в сию связь вовлечена была и некая персона, сиречь цесаревич Павел.
Под именем графа и графини Северных Павел ездил с женой за границу. Поездка эта вызвала большие дипломатические разговоры при дворе. Только что произошел в политике Екатерины резкий поворот в пользу Австрии, а с Пруссией разрыв, и потому императрица не хотела, чтобы наследник повидался с Фридрихом-Вильгельмом. Но сам Павел, поддерживаемый масоном Куракиным, этого хотел непременно.
В Вене Павел был посвящен, и по поводу его роли в масонском ордене Шварц обменялся письмами с герцогом Гессен-Кассельским. Когда и об этом событии в самое время донес Екатерине де Муши, она многозначительно сказала:
– Из сего заключить можно, что князь Куракин употреблен инструментом для приведения великого князя в братство.
Последили за перепиской Куракина с сопровождавшим Павла флигель-адъютантом Бибиковым. Оказались дерзостные суждения о том, что отстранен от дел Панин, а «князь тьмы» самовластвует. Бибиков предан суду и сослан в Архангельск, а Куракин по возвращении направлен в свое пензенское имение с запрещением въезда в столицу.
Павел при своей подозрительности все-таки не знал степени наблюдения за ним, потому что Екатерина писала ему легкие, любезные письма. Она слегка посмеивалась над порочностью французского двора, но вместе с тем польщена была вниманием, которое оказала Павлу с супругой Мария-Антуанетт, заказавшая придворной фабрике замечательный по ценной работе сервиз с инициалами великой княгини.
Любезна была ей и особая популярность, коей во Франции стало пользоваться все русское. С легкой руки философов и щедро ею одаряемых, нужных для ее прославления людей весь быт ее двора, ее остроты, обычаи – словом, все, чем она стремилась быть на виду, стало модным. Она изобрела детский костюм для великого князя Александра, который сама нарисовала и послала Гримму, а он, всегда догадливый корреспондент, повез его по всем парижским салонам и заставил всех матерей пожелать сшить своим детям костюм à la russe. Знаменитый парижский портной на этом детском фасоне сделал целое состояние, чем немало потешил тщеславие императрицы.
Сегодня де Муши принес сведения о новых серьезных опасностях.
То, что Екатерина принимала маркиза-иезуита тайком от Потемкина, в то время как он все еще почитал де Муши выехавшим навсегда за границу, всякий раз наполняло ее сердце особым торжеством.
С тех пор как де Муши стал ее тайным советником, она почувствовала себя опять на свободе, опять не мужней женой, что природе ее, привыкшей столь рано к одинокому самовластью, уже сделалось нестерпимо.
К Потемкину по-прежнему сохранилась привязанность, не сравнимая ни с одним из ее увлечений альковных, но быть руководителем он ей больше не мог. Хотя даже враги признавали у Потемкина проблеск ума гениального и способности превыше обычных, но она знала теперь слишком хорошо, каким капризам характера и прихоти могли подчиняться его действия…
Сейчас, в интимном будуаре, куда дан приказ больше никого не пускать, сидел перед Екатериной значительно постаревший и переменивший до неузнаваемости весь свой облик маркиз де Муши, уже не нарядный кавалер, а весь в черном строгий дипломат или духовное лицо, оскорбленное изгнанием.
Екатерина слушала маркиза с волнением. Она то и дело подносила к носу флакончик английской соли, ей почти делалось дурно от сообщений, которые делал иезуит ровным голосом, чередуя соболезнующие ноты с угрожающей замедленностью тона. Последним был удар, поразивший ее в самое сердце: цесаревич Павел будто бы находится в постоянных переговорах с агентом прусского двора Гютлем.
По примеру Пруссии, где масоном оказался сам король, готовятся и московские ложи поставить над собою самого русского царя. Отсюда и вся империя будет управляться одним только их орденом. Звание великого мастера оставлено вакантным. Для кого? Для цесаревича Павла.
Де Муши закончил донесение ядовитым выводом:
– Итак, в то время как ваше величество порвали с Пруссией и для блага империи вошли в союз с Австрией, брауншвейгская рыцарская организация дошла до самой столицы. – Де Муши чуть всплеснул узкими розовыми руками. – Скажу точнее: она дошла до двора.
– Доказательства? – сказала, едва владея собой, Екатерина.
Де Муши поклонился.
– Не замедлю представить вашему величеству документ о том, как цесаревич, поведя свою политику, отличную от вашей, убеждал Румянцева, русского посла в Берлине, действовать в пользу Пруссии. Он обещал его наградить при своем вступлении на престол.
Де Муши встал, понимающе и покорно поклонился, собираясь уйти. Екатерина его остановила:
– Мне сказали, будто недавно цесаревич накричал на Баженова, когда тот от Новикова привез ему книги. Это противоречит вашим уверениям, что именно Баженов желанный гость в Гатчине и передатчик по масонскому братству. И книги, как мне известно, привезены им довольно невинные: некое «краткое извлечение», их масонская «избранная библиотека». Все это пренелепо, туманно, но к политике, чаятельно, никакого касательства не имеет.
– Смею заверить, что ваше величество ошибаетесь, – сказал, скрывая насмешку, де Муши. – Читая именно «краткое извлечение», при освещении соответственном, цесаревич отлично может понять, что именно на него возлагаются орденом все надежды. Это ему надлежит изготовить «царство лучшее», нежели «сие мрачное несовершенство». – Де Муши еще поклонился и для смягчения смысла слов в поклоне докончил: – Под последним инфернальным [103]103
Адским.
[Закрыть]обозначением подразумевается правление вашего величества и светлейшего князя Потемкина. Что же касается недовольства цесаревича и грозных его окриков на Баженова, посланного к нему от московских масонов Новиковым, то не объясняется ли это естественным образом: цесаревич боится неловкого усердия этого слишком пылкого мечтателя Баженова. Ведь для цесаревича сейчас все висит на волоске.
– Где тонко, там и рвется… – сумрачно сказала Екатерина и, протягивая маркизу руку в знак оконченного разговора, многозначительно напомнила, подразумевая представление доказательств его речей: – Буду ждать.
Екатерина проводила лето девяностого года в Царском Селе. Она изредка выезжала в Петергоф и в столицу, но чаще не выходила из любимого ею парка, пребывая в тягостном состоянии духа.
Де Муши обещание сдержал, обвинения его на цесаревича подтвердились.
Как-то вечером Екатерине захотелось почитать совершенно отвлекающие от дел и забот какие-нибудь путешествия. Плодились они сейчас во множестве в подражание модному Стерну.
Уже целый месяц прошел, как из его собственной типографии вышла в свет книга Радищева. Она делала в городе большой шум, а Екатерине еще никто про нее не сказал. Де Муши был в отъезде, а из придворных никому не хотелось явиться первому с вестью, которая, знали все, понравиться императрице не может. Еще шли большие толки о том, кто анонимный автор книги, терялись в догадках, но все мнения сходились на одном: «Книга возмутительная и предерзкая».
«Путешествие из Петербурга в Москву» лежало на большом столе в библиотеке Екатерины вместе с другими книгами, недавно присланными из-за границы. Екатерина, перебирая новые заглавия в поисках чтения на сегодня полегче, остановилась на «Путешествии». Прежде всего ее заинтересовало сходство в распределении глав между этой книгой и той, изданной не так давно в училище Горного института, озаглавленной «Путешествие ее величества в полуденный край России, предпринятое к назиданию государственных польз и к усовершенствованию благоденствия ее поданных».
«Может быть, это нечто вроде дополнения к тому изданию», – подумала было она. Однако весьма скоро, с первых же страниц, взволнованно насторожилась от догадки: уж не пародия ли это новое «Путешествие» на ее недавнее шествие на юг.
Каждой строкой этой книги безжалостно обнажались противоречия между показным благоденствием страны и жестокой действительностью. Оказывается, что уже в заглавии была заключена насмешка, и презлая. В самых простых, казалось бы, словах, обращенных к читателю, были гнев и презрение:
«Зимой ли я ехал или летом, для вас, я думаю, все равно…»
Даже это, показалось насторожившейся императрице, написано в противовес верноподданнической отметке камер-фурьерских журналов каждого малейшего ее передвижения, трапезы, приема и поведения.
В этом, совсем ином путешествии по ее следам пишущему все равно, что на небе – дождь или вёдро. Одно ему важно: ежеминутно знать и пояснить, что во все времена года, и в дождь и в вёдро, в стране творятся насилие и позорный торг миллионами людей, которые именуются – крепостные.
Все чувства и мысли этой странной книги – пламенный гнев и жестокая скорбь. И все-таки в первую минуту, не оглядываясь еще, не раздумывая, Екатерина увлеклась чтением.
Она вдруг помолодела от этой книги. Похоже было – она еще принцессой Цербстской или несчастной великой княгиней, которой угрожает то ли монастырь, то ли казнь, мечтая о несбыточном, в глубоком одиночестве переживает гениальные мысли просветителей. Встали и те дни, когда клялась сама себе: если будет царствовать, то сделает свой народ свободным и счастливым.
Да, в самый первый раз Екатерина читала книгу Радищева не как самодержица-императрица, а просто как человек, которому были когда-то близки все лучшие просветительные мысли века, у которого были великодушные благие намерения…
Так велика была сила книги, так стремительна ее безудержная, безрасчетная искренность, что нельзя было хоть на короткий миг ей не подчиниться, не разделить ее вдохновения, говорившего о том, что общее благо превыше блага личного, что должна почитать служение на общую пользу обязательным всякому, кто именует себя – «человек».
Екатерина сама это знала когда-то, и она не хотела рабов. Но ей хорошо объяснили, что при подобных намерениях потерять можно власть и корону, и она предпочла самодержавие.
Сейчас в этой книге она читала похожее на то, что, бывало, в дни писания «Наказа», по вдохновителю своему Монтескье, она тысячу раз твердила сама:
«Нельзя быть счастливым, когда кругом рабы. Когда те, на коих зиждется государство, терпят голод, холод, нужду, а владеющие ими утопают в роскоши и предаются разнузданным страстям». Эта книга карала крепостников, а стихи оды «Вольность» карали царей. Приговор тем и другим беспощаден…
Вот помещик-насильник убит своими крестьянами, вот Карл Первый сложил голову на плахе, а вот и победа тринадцати небольших штатов, сомкнувшихся дружно супротив силы английской державы. Соединившись, они победили.
Как губка напитавшись ядом аббата Мабли, Рейналя, Руссо, хватив попутно и сегодняшней французской заразы, сочинитель взял в руки перо и открыл свободный ход гневу собственному… Кто же он?
Екатерина прочла книгу не отрываясь, приходила долго в равновесие мыслей и чувств. Гуляла по парку с левретками, принимала очередные доклады. Только вечером, вместо обычной партии в бостон, она сказалась нездоровой и, запершись у себя, взялась читать книгу неизвестного сочинителя вторично. Сейчас читала строго, как надлежало читать только императрице. Уже после тридцати первых страниц Екатерина написала на полях, еле сдерживая подступивший гнев от неслыханной дерзости книги, быстро в ней сменивший невольную первую дань восхищения:
«Знания довольно и многих книг читал… Но яд французский, Руссо, аббэ Рейналя…»
В конце июня Безбородко получил от Екатерины записку:
«По городу слух, будто Радищев и Щелищев писали и печатали в доме типографии ту книгу, лутче исследовав, узнаем».
Вскорости установлено было, что автор книги один – Радищев.
Храповицкий занес в дневник:
«Говорено с императрицей о книге «Путешествие из Петербурга в Москву». Тут рассевание заразы французской, отвращение от начальства, автор – мартинист».
Донесли Екатерине, что имевшиеся в книге поносные намеки на нее и светлейшего подхвачены городом, что велик спрос на известную книгу масонскую, издания Новикова, «Жизнеописание Конфуция», что иные читают с многосмысленным подмигом: «Восхвалим государя, который отженет от себя ласкателей и удаляться станет от венерических забав».
Кто сей восхваляемый государь, оплот и надежда мартиниста, императрице ведомо уж самой, без подсказки. Желанный государь – не кто иной, как все еще не допущенный до престола родной сын, цесаревич Павел. И, полагать надлежит, неспроста печатал в своих журналах дерзновенного бунтовщика, «злодея хуже Пугачева», сего Александра Радищева, не кто иной, как первейший мартинист – Николай Новиков.
Де Муши, вовремя подоспевший, стал, в свою очередь, нашептывать, то книга-де выдана через частное лицо от всего ордена, связанного, как сейчас очевидно, с злокозненными иллюминатами. «Путешествие из Петербурга в Москву» умышляет опрокинуть свыше данный порядок – власть самодержавную. Не мартинисты ли основывают учебные заведения колобродного направления? Не они ли тратят неведомо как добытые великие суммы для уничтожения законной власти, раздавая во время недорода безвозмездно зерно крестьянам? Сейчас же они пустились печатать возмутительные книги, даром что не хотят признаваться. Все они одна шайка.
Самое страшное доказательство злонамеренности автора «Путешествия» – это его пророчество о наступлении революции, подобной той, которую заговорщикам уже удалось вызвать во Франции. Что же иное, как не обещание новой пугачевщины, сей крамольный предупреждающий голос Радищева:
«Блюдитеся, да опять посечены не будете».
– Вот мы и выполним совет сего сочинителя, – недобро поджав губы, сказала Екатерина Безбородке, побледневшему от неприятности возложенного на него поручения узнать все дополнительно о Радищеве. – Выполним его совет… – еще злей повторила Екатерина, ужимая тонкие губы, – от него первого и поблюдемся!
В разгаре лета Безбородко написал Александру Романовичу Воронцову:
«Ее императорское величество, сведав о вышедшей недавно книге под заглавием «Путешествие из Петербурга в Москву», оную читать изволила и, нашед ее наполненною разными дерзостными изражениями, влекущими за собой разврат, неповиновение власти и многие в обществе расстройства, указала исследовать о сочинителе сей книги. Между тем достиг к ее величеству слух, что оная сочинена г. коллежским советником Радищевым: почему, прежде формального о том следствия, повелела мне сообщить вашему сиятельству, чтобы вы призвали пред себя помянутого г. Радищеваи, сказав ему о дошедшем к ее величеству слухе насчет его, допросили его: он ли сочинительили участникв составлении сея книги…»
В тот же день Безбородко еще раз написал Воронцову, добавив на адрес «нужное»:
«Спешу предуведомить ваше сиятельство, что ее величеству угодно, чтоб вы уже господина Радищева ни о чем не спрашивали, для того что дело пошло уже формальным следствием».
Послано было за полицеймейстером Рылеевым. Он сознал свою ошибку, бросился на колени перед императрицей с возгласом: «Виноват, матушка!» Рылеев покаялся, что подписал книгу, даже не читая, ибо попался на невинности заглавия: «Путешествие».
Никита Рылеев, полицеймейстер, был большой любитель балета и преглупый человек. Ему простили, ибо действительно он не мог рассматриваться как пособник столь дерзкому делу, и был тут же помилован императрицей.
Екатерина распорядилась, чтоб книга немедля, с курьером была послана в ставку светлейшего, от которого приказано привезти скорый ответ с отзывом, как он нашел сочинение и сочинителя.
Главная квартира Потемкина летом была в Дубоссарах. Ставка его великолепием походила на визирскую. Сад вокруг нее был насажен в английском вкусе, известный капельмейстер Сарти с двумя хорами роговой музыки там ежедневно его забавлял. Казалось, светлейший располагает остаться здесь навсегда – столько понаехало к нему на прочное жительство народу.
Люди поражались разницей между главной квартирой светлейшего и бывшего перед ним отличного военной простотой и суровостью Румянцева.







