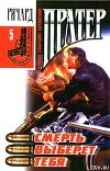Текст книги "Личный убийца"
Автор книги: Олег Приходько
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
ГЛАВА 19
Следователь Кокорин в управлении популярностью не пользовался. Отчасти потому, что пришел в прокуратуру из ФСК в тот период, когда у комитета забрали следственную функцию; отчасти – по причине собственной скрытности. Он держался особняком, в гости никого из сослуживцев не звал и сам ни к кому не ходил, избегал даже междусобойчиков в кануны торжеств. Знали о нем немного: учился на факультете психологии, затем – на юридическом в МГУ, преподавал одно время на курсах повышения квалификации работников КГБ и, поговаривали, написал даже книженцию по невербальному общению с подследственными с грифом «Для служебного пользования». Здесь, в облпрокуратуре, не знали, что отец Кокорина Михаил Григорьевич работал в аппарате ЦК. Сам Алексей Михайлович не хотел, чтобы об этом знали, потому что относил своего отца к людям порядочным, убежденным, и опасался, что на нем поставят клеймо «аппаратчик»: отец отличался от тех, кого сегодня принято охаивать, компетентностью, интеллигентностью и искренне, мучительно переживал искусственный и неоправданно резкий поворот истории вспять: «Если караван внезапно поворачивает в обратную сторону, – говорил он сыну, – то впереди оказывается хромой верблюд».
Визит к Богдановичу и Решетникову показал, что допрос первого необходимо тщательно подготовить; именно поэтому Кокорин перенес его на среду, а весь вторник с утра до поздней ночи мотался по городу, проделав тот же путь, которым до него шли Каменев и Решетников (в том, что сыщики отработали полученный аванс сполна, он уже не сомневался, зря только Решетников не рассказал всего, что ему было известно – сократил бы временные затраты). Ни к какому выводу Алексей Михайлович, однако, не пришел – он всегда сторонился каких бы то ни было умозаключений до полного выяснения обстоятельств, – не было и сколько-нибудь стройных версий. Были сомнения, и теперь эти сомнения предстояло развеять вдовцу Богдановичу.
«И пусть развеет, – искренне думал Кокорин, двигая мебель: свое глубокое и тяжелое кресло он поставил Богдановичу так, чтобы тот оказался к окну спиной, а к следователю – левым боком; себе же взял жесткий венский стул с инвентарным номером. – Пусть развеет!.. Зачем нервы человеку трепать? Он и без того пострадал: сидел в тюрьме (будет небось давить на этот факт своей биографии: «Вы думаете, если я сидел, то меня можно подозревать?»), надорвался на торговой работе (и это учтет наверняка: «Вы думаете, если я работаю в торговле, то на меня сыплется манна с небес?»).
Была ли у Богдановича поддержка «сверху»? Даже при особом таланте Архангельский торговый техникум и Московский годичный институт экономики и бизнеса едва ли послужили ему трамплином в стремительной карьере.
Опоздание на допрос следователь расценил не как недисциплинированность (сослуживцы характеризовали Богдановича как человека жесткого и пунктуального), а как нетактичный прием.
Он достал из портфеля кассетный аудиомагнитофон – подарок ребят из техотдела ФСК. Вещица размером с покет-бук включалась автоматически при малейшем шуме и отключалась через две секунды после последнего звука. Магнитофонная запись позволяла сэкономить на оформлении протокола в присутствии свидетеля, хотя кредо и опыт Кокорина предполагали визуальные наблюдения: пантомимика составляла предмет его научного интереса. Взгляды и жесты позволяли получить шестьдесят процентов информации, словам же отводилось не более семи. Еще тридцать – тональностям и интонациям, так что последующее прослушивание магнитофонной записи иногда приводило к открытиям.
Факт он считал вещью настолько же «упрямой», насколько и «голой»: из верных фактов можно выстроить ложные выводы.
– Прошу простить за опоздание: попал в «пробку». – Тусклый взгляд, слегка замедленная речь, приглушенный голос должны свидетельствовать об угнетенности вдовца.
– Присаживайтесь, Леонтий Борисович. Нет, не сюда – вот сюда, в кресло. Здесь вам будет удобно.
Эмоциями повелевает правое полушарие, логикой – левое. Каждое координирует разноименную сторону тела. То, что человек старается продемонстрировать, отображается на правой половине лица; что переживает реально – на левой. Именно поэтому Кокорин так установил кресло: его интересовало то, что представляет собой Богданович на самом деле.
Пауза. Кассета в магнитофоне замерла.
– Цель нашей с вами встречи понятна? – завертелась снова.
– Не совсем. – Богданович сбросил ворсинки с рукава, коснулся перламутровой запонки на черной траурной рубашке со стоячим воротничком.
«Нервничает», – сработал детектор лжи в Кокорине.
– Впрочем, да, понятна. Что ж тут непонятного: хранение незарегистрированного пистолета и, как следствие, смерть… Смерть… – Богданович поперхнулся и замолчал. Голова опустилась, последовал надрывный выдох.
– Как следствие – следствие, – скаламбурил Кокорин и улыбнулся: – «Окорочка к окорочкам, а раковые шейки – в сторону».
Пристальный взгляд. Наклон головы – пробуждение интереса.
– Почему как следствие-то, Леонтий Борисович? Незарегистрированное оружие, почитай, есть сегодня в каждом втором доме. Не все же оно срабатывает?
– Что… вы хотите сказать?
– Только то, что сказал: незаконное хранение вами оружия и боеприпасов – одно, смерть Киры Михайловны – другое. Давайте все-таки поищем причину ее самоубийства, а не следствие? – Кокорин достал из стола позолоченный портсигар, раскрыл и придвинул к Богдановичу.
«Интересно, что он не отреагировал на оценку «самоубийство», как будто это уже доказанный факт».
– …Или убийства.
Глаза Богдановича сузились.
– А что, вы допускаете, что это могло быть убийство? – проговорил он с удлиненными паузами, демонстрируя недоверие.
– Я допускаю.
– У вас есть основания?
– Есть установленный факт смерти вашей жены. И заключение патологоанатома. Смерть наступила в результате проникающего ранения в область головы. Если мы докажем…
– Кто это «мы»? – Настойчивый взгляд в глаза с резко сузившимися зрачками, обрывание чужой речи, отклон головы назад: враждебность.
– Я имею в виду следствие, – вежливо пояснил Кокорин. – Я же не один работаю над этим делом, есть баллисты и химики, трассологи и прочие специалисты. Пока в полной мере свою работу сделали только медики.
– И что, они считают, что это могло быть убийство?
Кокорин покачал головой:
– Они ничего не считают, они только дают заключение.
– Значит, вы так считаете?
Магнитофон отключился, пауза затянулась. Богданович взял сигарету и прикурил, воспользовавшись своей зажигалкой. Кокорин открыл фрамугу, посмотрел на улицу и вернулся за стол.
– Леонтий Борисович, а вы ведь сталкиваетесь со следствием не впервые, да? – побарабанив пальцами по столу, перелистнул досье.
– Зачем спрашивать о том, что вы прекрасно знаете, – недовольно сказал Богданович.
Струя дыма ушла в потолок.
– Ну, не так уж прекрасно.
– Вы хотели меня спросить о другом?
– Если я стану спрашивать вас о том, что мне хочется, то вы уйдете отсюда ровно через минуту. Но есть еще длинный перечень вопросов, которые мне необходимо выяснить. Очень длинный, Леонтий Борисович. Боюсь даже, что мы сегодня не уложимся. Поэтому давайте приступим. Итак, вопрос первый: привлекались ли вы ранее к суду?
– Привлекался к суду. Отбывал наказание по сто семнадцатой, части первой.
Кокорин удивленно приподнял брови:
– Да?.. В какое время?
– С восемьдесят седьмого по девяносто второй.
– Не знал. У меня вот тут на бумажке написано, что в это время вы служили в четыреста пятьдесят шестом управлении в Ленинске.
Богданович торопливо докурил и уселся, скрестив лодыжки, но отвечать не спешил, глядел в никуда, не желая «топить» себя обилием невостребованных слов («Вам надо, вы и доказывайте»).
– Я свое отсидел! – ухватившись за подлокотники, вдруг подался всем корпусом вперед. – Мне что же, всю жизнь людей сторониться или кричать на всех углах, по какой статье да за что?!
Кокорин, сдерживая усмешку, положил руки перед собой и, глядя на него, отчетливо произнес:
– Довожу до вашего сведения, что заведомо ложное показание наказывается лишением свободы на срок до одного года или исправительными работами на тот же срок, согласно статье сто восемьдесят первой Уголовного кодекса.
– Знакомо, – сник Богданович. Лоб его заблестел. – Но вы же понимаете, почему я не указал факта привлечения к суду в управлении кадров?
– Понимаю. Четыреста пятьдесят шестое управление в Ленинске находится в подчинении Главного управления военной торговли, кажется? И вы решили, что этот факт ни у кого не вызовет сомнения. К тому же райпищеторг на Саянской не станет связываться с «Океаном» в Строгине, где вы указали, что привлекались за нарушение правил торговли. Так?
– Так.
– Тогда я спрашиваю вас еще раз: за какое преступление и по какой статье вы были привлечены к суду в одна тысяча девятьсот восемьдесят седьмом году?
– За изнасилование, – приглушенным голосом признался Богданович и расстегнул воротничок. – По статье сто семнадцатой…
– Часть?..
– Вторая.
– А вы говорили – первая, – кивнул Кокорин. – Существенная разница. Кто ходатайствовал о пересмотре дела?
– Адвокат Рознер.
– Семен Давидович? Это дорогой адвокат, насколько мне известно.
– Не дороже, чем два года свободы. – Богданович вздохнул, скептически скривил рот. – Я не понимаю, какое отношение имеет мое прошлое к смерти моей жены!
– Я тоже.
– Что «тоже»?
– Тоже не понимаю. Но хочу понять. – Кокорин был само спокойствие. Ответ Богдановича на вопрос о судимости показал, что на искренность и правдивость его рассчитывать не приходится. Следователь заправил в машинку лист бумаги. – Кое-что мне известно достоверно, Леонтий Борисович. Из безотносительных истин. Еще раз соврете – предъявлю обвинение за дачу заведомо ложных показаний.
Богданович покраснел, потер о колени вспотевшие ладони, не столько мучаясь стыдом, сколько стараясь скрыть гнев.
– За кого вы меня принимаете? – не сумел-таки промолчать.
– Разве я вам не сказал? За обвиняемого в преступлении, предусмотренном статьей двести восемнадцать, и свидетеля по делу, возбужденному по установленному факту смерти Богданович Киры Михайловны.
– Какой же я свидетель, если меня в это время вообще здесь не было? Я близкий родственник потерпевшей.
– Полагаете, близкий родственник не может быть свидетелем? – спросил Кокорин. – У вас в доме хранились деньги?
– Деньги – понятие резиновое.
– Вы не знаете, сколько денег было в доме?
Богданович вздохнул и закурил. Растерянность и нервозность отступили, теперь он избрал агрессивную тактику: приподняв бровь, отстраненно взирал на следователя сверху вниз. Кокорин знал второе значение подобного выражения лица: оно свидетельствовало о контролируемом страхе.
Остатки спеси он сбил просто: минут пять печатал на машинке, сосредоточенностью подчеркивая, что разговор будет долгим и торопиться некуда.
– Так сколько, Леонтий Борисович?
– Около двух тысяч долларов.
– В валюте?
– Да. Кира обменивала их по мере надобности. И вообще я не вникал в то, как расходуется семейный бюджет. Если речь не заходила о крупных покупках: дачи, машины.
– Где хранились деньги?
– В моем кабинете есть сейф.
– У нее был ключ?
Богданович помолчал, словно припоминая, был ли у жены ключ от сейфа, где хранились семейные деньги, или не было.
– Не было ключа, – сказал тихо. – Ключ был один, у меня.
– Она могла взять ключ без вашего ведома?
– Чаще она говорила, что нужны деньги, и я ей давал. Иногда брала сама, если меня не было дома.
– Ключ от сейфа хранился дома?
– В последнее время – дома.
– О каком времени идет речь?
– Месяц тому назад ей понадобились деньги, для того чтобы расплатиться за новый смеситель в ванной, а меня не было в городе, ей пришлось занимать. Когда я вернулся, она устроила мне скандальчик и потребовала вынуть ключ из связки.
– То есть в течение последнего месяца ключ находился дома?
– Да.
Кокорин снова принялся печатать, на сей раз пауза потребовалась ему. Получалось, что либо Богданович говорил неправду, либо неправду сказала Кира детективу Решетникову.
– Скандалы промеж вами случались часто? – «свойски», как бы ненароком, поинтересовался Кокорин.
– Часто, – неожиданно ответил Богданович.
– Причина?
– Причина… Причина – крайняя нервозность Киры. Скандал мог возникнуть на ровном месте. Я даже настоял, чтобы она показалась врачу.
– Когда это началось?
– Что… началось?
– Нервозность когда стали замечать?
Богданович изобразил задумчивость.
– Полгода тому назад. – Он помассировал виски, наклонился вперед и зажмурился, затем откинулся на спинку и тряхнул головой: – Полгода тому назад она узнала, за что я сидел на самом деле.
Теперь у него был вид глубоко несчастного человека, и даже глаза заблестели слезой. Кокорин подумал, возможно, жертва не она, а он, и все, что Кира рассказала детективу Решетникову, могло оказаться вымыслом. Но было то, что мешало Кокорину проникнуться сочувствием к сидевшему перед ним человеку: он не признавал раскаявшихся насильников.
– Как узнала? – спросил Кокорин, выдержав паузу и поняв, что именно этого вопроса подследственный от него ждет.
– От меня. Вернее, я бы ей никогда не рассказал об этом, но по телефону стала звонить какая-то женщина. Она говорила, что жертва насилия – это ее слова, не мои – жива и ничего не забыла. В другой раз было что-то вроде угрозы: пусть он не думает, что отделался пятью годами… Ну и прочее в таком духе. Звонков было три…
– Когда?
– В сентябре и начале октября, кажется… Да, именно: незадолго до моего дня рождения десятого октября состоялось объяснение. Кира стала нервничать, смотреть на меня подозрительно, следить за мной. Плохо спала по ночам. Да и я тоже, признаться. Жить в постоянном ожидании разоблачения невыносимо. И я ей все рассказал. В надежде, что станет легче.
– Не стало?
– Наоборот. Неделю она не разговаривала со мной, уверяла, что никогда не вышла бы за меня замуж, знай об этом раньше, отказывалась от еды. В молодости она была актрисой, у нее был муж актер, потом она уличила его в изменах, они разошлись со скандалом. Видимо, профессиональная впечатлительность и неудача в первом браке сказались. Постепенно все наладилось, но только внешне… Внешне, да… На самом деле было достаточно малейшего повода, чтобы возникла ссора. Я предоставил ей полную свободу действий, достроил дачу, купил «Ситроен», не ограничивал в средствах… Насколько, конечно, позволял мой заработок. Сам все время пропадал на работе – расширял производство, налаживал торговые связи… Словом, прятался за работу, чтобы не появляться дома. Не интересовался даже, как она проводит время. Иногда она рассказывала об этом сама – под настроение.
– У нее были подруги?
– Какие сейчас подруги-друзья, вы сами знаете. Интересов и особых привязанностей за Кирой я не замечал – театры она категорически отвергала, иногда звала знакомых в ресторан, выезжала с кем-то за город, бывала за границей – в Голландии, Германии, Франции, в прошлом году летом – в Арабских Эмиратах. Посещала массажный кабинет… В общем, вела жизнь праздную, но удовольствия от нее, похоже, не получала.
– А родственники?
– Сама она родом из Пензы, там сейчас живет ее отчим – у него уже другая семья, он Киру никогда не любил и не признавал, даже на похороны не приехал.
– Он знал о том, что она умерла?
– Кирин брат Егор – он переехал в Воронеж и живет сейчас там, да вы его видели на похоронах в понедельник – сообщил.
Кокорин вновь сделал паузу на ведение протокола. Правдивость показаний Богдановича в той части, которая касалась его жены, сомнений не вызывала, постепенно вырисовывался ее психологический портрет: жила с отчимом, значит, непростые взаимоотношения в семье не могли не сказаться на ней; затем – неудачное замужество, супружеские измены – снова травма; потеря работы, отвращение ко всему ненастоящему, фальшивому, театру в том числе и, наконец, второе замужество. В тридцать лет одинокая женщина находит прибежище, начинает новую жизнь, но вдруг оказывается, что и этот человек ее обманывал, и она уже не в состоянии видеть в нем родного, она видит в нем насильника и обманщика, нечистоплотного торгаша. Все, что было в ее биографии подлого и лживого, наслаивается, она теряет веру, отчаянно пытается жить той жизнью, которую навязывает ей Богданович, тратит деньги на приобретение подруг, но понимает, что такой дружбе грош цена, и продолжает оставаться одинокой, какой и прожила всю жизнь, несмотря на обилие знакомств и наличие семьи.
– В ваше отсутствие Кира Михайловна брала деньги?
– Там не хватает полутора тысяч долларов.
– Часть из них вам вернули?
– Триста сорок тысяч в российских рублях.
– Знаете, куда она потратила остальные?
Богданович кивнул:
– На частного сыщика, который обнаружил ее… мертвой.
– Вы с ним разговаривали?
– Сегодня по телефону. Он не сказал, какое именно поручение она ему дала.
– Подобные сделки утрачивают конфиденциальность со смертью клиента, но только в отношениях с органами надзора и охраны правопорядка. Для всех остальных, тем более лиц, которым предъявлено обвинение, это пока остается тайной в интересах следствия. – Кокорину показалось, что Богданович вот-вот грохнется в обморок: лицо его стало мертвенно-бледным, он вынул платок и стал отирать лицо, ожидая подвоха, но все же не решаясь задать вопрос, который мог ему подсказать, как вести себя дальше.
– Я понимаю, – проговорил он едва слышно, – понимаю. Для меня это не тайна, Алексей Михайлович.
– Вот как?
– Если можно, стакан водички, пожалуйста…
Кокорин подошел к маленькому холодильнику «Снайге» в противоположном углу, достал бутылку «Ессентуков».
– Я нервничаю, – продолжал Богданович. – Нервничаю от двусмысленности ситуации. Хочу, чтобы вы меня поняли: она умерла… Застрелилась или ее убили, тут уж не мне разбираться… А я – без пяти минут на скамье подсудимых. Я виноват во всем, виноват, и не ищу никаких оправданий…
Кокорин поднес ему стакан с шипящей водой, Богданович благодарно кивнул и выпил залпом.
– Спасибо.
«У него очень крепкие нервы, – думал Кокорин. – И ноль раскаяния. В колонии насильников не жалуют. Пять лет унижений, побоев, потом – пересмотр дела с помощью Рознера. Целое состояние! Его нужно иметь… Конфискации не было, значит, деньги, которые он наворовал до посадки, у кого-то хранились, а потом сработали. После освобождения – бизнес: от снабженца в продторге до генерального директора. Знакомства, связи, женитьба на актрисе – нищей, неустроенной, вздорной. Трудно поверить, что это была любовь. На любовь этот торгаш едва ли способен. А тогда что?..»
– Вы ее любили, свою жену, Леонтий Борисович? – допечатав страницу до конца, спросил он так, словно это и не допрос был вовсе, а мальчишник.
– Конечно. – На лице Богдановича – удивление, изумление даже. И растерянность: он ведь дал точную посылку, заявив, что знает, зачем Кира обращалась к детективу. А следователь – о другом, совершенно о другом. – Я ее любил, я делал все, чтобы к ней пришло душевное равновесие. Поговорите с моими сослуживцами, они не раз становились свидетелями, как я гасил пожар, который она так и норовила распалить в присутственных местах. Но я молчал и терпел, помня свою вину, молчал и терпел, надеясь, что все образуется и она поймет…
Он замолчал, почувствовав, что следователь не слишком ему верит: Кокорин сидел, подперев большим пальцем подбородок и скрестив руки на груди, и смотрел на подследственного, будто тот был распят иголками на предметном стеклышке микроскопа.
– Извините, мне трудно рассказывать о чувствах следователю прокуратуры.
– Вы всегда хранили пистолет в столе?
– Нет. Иногда я брал его с собой. Иногда держал в сейфе.
– Кира Михайловна знала, что в доме есть оружие?
– Разумеется.
– Вы никогда не замечали за ней склонности к самоубийству?
– Ведете к тому, что я оставил ей пистолет умышленно? – ухмыльнулся Богданович.
– К чему я веду, к тому и приведу, Леонтий Борисыч, – сдерживая раздражение, прикурил сигарету Кокорин. – Отвечайте на вопрос.
– Да, я замечал… Она мне угрожала этим, и неоднократно. Я совал ей пистолет: на, застрелись! Застрелись!.. У меня обойма была с холостыми патронами, специально для нее держал. И когда она начинала кричать, что выбросится из окна, я распахивал окно, а когда кричала, что повесится, я доставал из кладовой веревку: выбрасывайся, вешайся, стреляйся!..
– То есть вы были уверены, что она этого не сделает?
– Не был уверен. Не был! Я тоже живой человек, и у меня тоже есть запас прочности. Иногда он иссякал.
– Не проще ли было развестись?
– Мне что, опять рассказывать о своей любви? Увольте, не стану. Надежда во мне не угасла, а она, как известно, умирает последней: я до последнего надеялся, что Кира перебесится. Небезосновательно, надо сказать: в последнюю неделю у нас скандалов не было – напротив, мир и порядок, мы даже побывали на даче накануне, она проводила меня на вокзал. Я уехал с легким сердцем – думал, смирилась, успокоилась, теперь заживем.
– Вы сказали, что вам известно, с чем она обращалась к детективу?
– Я сказал, что догадываюсь.
– Отмотать кассету в магнитофоне? – потянулся к кнопке Кокорин.
– Не надо, я помню. Да, для меня не тайна ее поручение детективу. Проклятые звонки Люсьен Вороновой… Это та женщина… В общем, как она представляется, «жертва изнасилования». Извините, не хотелось бы возвращаться…
– Вы с ней разговаривали?
– Нет.
– Но уверены, что звонила она?
– Она или ее сестра. Звонки были всегда в мое отсутствие. Они действовали на Киру убийственно, она впадала в истерику и все время порывалась пойти в милицию.
– Вы говорили, что было три звонка?
– До того, как я все рассказал Кире. Потом они повторялись еще и еще.
– А почему вы не хотели подключить к этому милицию?
– Это бессмысленно. Типичный шантаж, вымогательство. Вороновы знали, что я не «клюну» на это, а болезненная реакция Киры их обнадеживала. Они рассчитывали получить деньги с нее, а не с меня. И она собиралась встретиться с ними, но я категорически препятствовал этому. Я понес наказание. Пять лет каторги – вполне достаточно. Тем более что Люсьен оболгала меня, показав на суде, будто я угрожал убийством. О своих финансовых притязаниях она впрямую не говорила, если бы милиции стал известен абонент – хотя я более чем уверен, что звонили из автомата, – она бы не понесла никакого наказания. Разве что за телефонное хулиганство. Глупо. Я объяснил Кире, что она не должна реагировать на эти звонки, кажется, мне удалось ее убедить не обращаться в милицию. Тогда она вычитала в какой-то газете об этом агентстве… «Шериф», кажется? Звонила, узнавала расценки – я нашел бумажку в телефонном справочнике.
«Или он действительно верит в то, что говорит, или Кира готовила его к своему походу в агентство», – подумал Кокорин.
– Нелогично, Леонтий Борисович, – сказал вслух, – обращаться в агентство, платить деньги, а через два часа кончать жизнь самоубийством. Что же могло произойти в эти два часа? Ведь вы говорите, что в доме в последнее время воцарилось спокойствие?
– Да.
– Кстати, кого вы просили привезти саженцы?
– Саженцы? – удивился Богданович. – Какие саженцы?
– Как, разве вы не заказывали саженцы? Жительница Малаховки Глаголева сказала, что Кира Михайловна мотивировала свой приезд на дачу тем, что в семнадцать часов должна прийти машина с саженцами.
– Да помилуй Бог, Алексей Михайлович! – покачал головой Богданович. – У нас и сада нет, о каких саженцах речь? Зачем ей было это выдумывать – ума не приложу!
Кокорин задержал на нем взгляд:
– И вы не собирались разбивать сад на даче? – произнес удивленно.
Богданович ответил не сразу – проиграл на лице нечто граничащее с непониманием и обескураженностью:
– Сад?.. А, да… То есть… Кира строила планы обустройства, хотела посадить какие-нибудь деревья – сосенки или декоративные кусты, но все это было на уровне ее фантазий.
Кокорин снова отвлекся на протокол, совершенно машинально занес его показания, так и не решив, могут ли они иметь какое-нибудь значение, но они противоречили показаниям свидетельницы Глаголевой, и уже по одному этому должны были найти отображение в документе.
– Скажите, Леонтий Борисович, поездка Киры Михайловны на дачу в Малаховку – случай из ряда вон выходящий или она наезжала туда в ваше отсутствие?
– Нет, почему же. Редко, но наезжала.
– Зачем?
– Вы имеете в виду…
– Я имею в виду – в одиночестве?
– Раза два или три.
– С какой же целью?
– Закрепления навыков практического вождения. Права она получила недавно.
– Значит, она ездила туда на автомобиле? – спросил Кокорин. – А в этот раз…
– Ее «Ситроен» сломался.
– Давно?
– В воскресенье. Что-то с зажиганием – не сумела завести.
– Он стоит в гараже?
– Да.
– Во вторник накануне вашего отъезда в командировку вы ездили на дачу электричкой?
– Моей машиной.
– Зачем?
– Просто прокатиться. А в общем, распечатывали дачу – мы были там в прошлом году осенью. Кира собиралась проводить время в мое отсутствие на даче. Меня эти ее намерения радовали. Я думал, в ней происходят перемены к лучшему.
– Почему? Богданович задумался.
– Трудно сказать. На уровне ощущений. Когда человек ищет уединения, значит, он мудреет. Выпивка, банкеты, пикники – вся эта суета ей надоела, она сама говорила мне.
– А что, она выпивала?
– Не так, чтобы уж очень, но прикладывалась. Во всяком случае, не отказывалась, когда ее куда-то приглашали.
– В среду двадцать второго вы поехали на вокзал в служебной машине?
– А как же иначе?
– Обратно Киру Михайловну должен был отвезти ваш шофер?
– Да. Но Кира отдала машину Ричарду Шелуденко, моему заместителю. Видите ли, я забыл папку с бланками контрактов. Это выяснилось буквально перед отъездом, часа за два. Ключ от моего кабинета в офисе только у Ричарда, я позвонил ему и попросил прислать кого-нибудь, но он приехал сам…
– Когда машина уже ушла за вами?
– Совершенно верно.
– Он приехал своим ходом?
– Нанял частника.
– Вы отправились в Архангельск с какой целью?
– Собирался заключить ряд сделок с рыбхозяйствами.
– У вас нет отдела по снабжению?
– Личностный фактор, Алексей Михайлович. У меня там, как сейчас говорят, «концы». Я в свое время учился в Архангельске в торговом техникуме. Кое-кто из моих однокашников занимает сейчас видное положение в тамошнем управлении торговли. А Гриша Носов – директор рыбной базы в порту. Он меня встречал на вокзале.
– Несмотря на «концы», поселились вы все-таки в гостинице?
– Это моя слабость – гостиницы. А почему вы спрашиваете? Какое это может иметь отношение к делу? Ну, в гостинице, да. Что в этом такого?
– Раньше вы тоже останавливались в этой гостинице?
– Когда… раньше?
– Разве вы впервые ездили в Архангельск?
– Да нет, почему же? Осенью был. Вместе с Кирой. Да, тоже в гостинице «Север».
– Почему вы не взяли жену в этот раз?
– Она не захотела. А я не настаивал. Видите ли, мы оба понимали, что нам нужно отдохнуть друг от друга.
– Предполагали пробыть там долго?
– Нет… Не знаю… сколько потребовалось бы для решения вопросов. Может быть, неделю. А что?
Кокорин взглянул на него исподлобья:
– Здесь вопросы задаю я, Леонтий Борисович. – И углубился в протокол.
Богданович несколько раз попытался переменить позу в кресле, потом закурил, но вовсе не оттого, что ему этого хотелось – не нашел ничего лучшего, чтобы занять себя и не сидеть истуканом. Запрет задавать встречные вопросы обострил допрос, тут же переставший походить на доверительную беседу.
– Поезда – это тоже ваша слабость? – как бы невзначай бросил Кокорин.
– Нет, моя слабость – самолеты, – съязвил Богданович, отвыкший быть в подчиненном положении. – А поезда – моя сила.
Кокорин почувствовал обиду и вызов и пожалел, что не одернул его раньше: в жестких условиях допроса он вел себя куда менее уверенно.
– Поясните.
– Я не понял вопрос.
– Почему вы не полетели самолетом? Поезд в Архангельск отправляется в двенадцать часов десять минут. Таким образом, у вас выпадал целый день. Вы же деловой человек, Леонтий Борисович? Экономили на билете?
И просьба повторить, и долгие паузы с жадными затяжками дымом, слишком частое сбивание пепла с сигареты – все говорило о том, что на этот вопрос у него нет готового ответа.
– Во-первых, поездка в спальном вагоне действительно доставляет мне удовольствие, – объяснил тоном, каким воспитатели разговаривают с несообразительными питомцами. – Во-вторых, в самолете меня укачивает. То есть не то что я не летаю вовсе, но потом целые сутки я прихожу в себя. В-третьих, в случае задержки рейса я мог потерять больше.
Кокорин перенес его более чем обстоятельный ответ на бумагу.
– Опасались нелетной погоды, значит, – подытожил.
Богданович демонстративно посмотрел на часы:
– Надеюсь, мы с вами не будем говорить о погоде?
– Нет, не будем. У вас сохранился билет?
– Разумеется. Билет, Алексей Михайлович, является отчетным документом.
– Номер вагона и место помните?
– Да. Шестой вагон, девятое место. Не понимаю, черт побери, зачем вам это? Я вообще отказываюсь что-либо понимать! У меня умерла жена, я…
– Тише, тише, – шепотом произнес Кокорин. Дождался, когда Богданович успокоится: – Не нужно навязывать свой устав в чужом монастыре, Леонтий Борисович. Здесь важно, чтобы я понимал, а ваше дело – отвечать на вопросы.
Богданович вздохнул, погасил сигарету и, поставив локти на колени, обхватил голову холеными руками:
– Бред, бред какой-то, честное слово! – запричитал. – Я же не отрицаю своей вины в хранении пистолета, но вы спрашиваете о каких-то глупостях: о погоде, о номере вагона, как будто подозреваете меня в чем-то.
– Я всех подозреваю, у меня работа такая, – полушутя парировал Кокорин.
– Трудная у вас работа! – распрямился Богданович. В глазах его сверкнули гневные искорки. – И, наверно, очень высокооплачиваемая.
– Почему вы так думаете? – не сдержал Кокорин улыбки.
– Не станете же вы всех подозревать бесплатно? И тех, кто приносит государству миллионные прибыли, и тех, кто созидает, кто воплощает в жизнь какие-то идеи…
– Заговариваетесь, Леонтий Борисович? Попейте водички. Хотите, холодненькой достану из холодильника?
Подобные выпады следователь переносил со стоическим спокойствием, они его не только не смущали, но даже не подвигали на какие бы то ни было умозаключения.
– Вы что-то сказали? – отвлекшись от протокола, спросил он, и этим сбил Богдановича с толку окончательно, как если бы ловким приемом отнял у него нацеленный в голову «лепаж». – Я ни в чем вас не подозреваю, Леонтий Борисович, а только выясняю обстоятельства смерти вашей супруги. И с этой целью пытаюсь восстановить все недостающие детали. Например, что вы делали в Малаховке на даче во вторник двадцать первого апреля?