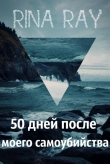Текст книги "История моего самоубийства"
Автор книги: Нодар Джин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 37 страниц)
76. Ты – арзрумская зарница, Гюльнара!
Прямо напротив ООН, на углу 49-й улицы, располагался ресторан «Кавказский». Владел им петхаинец Тариел Израелашвили, жизнелюбивый толстяк, прославившийся на родине диковинным пристрастием к попугаям и нееврейским женщинам из нацменьшинств. Эмигрировал сперва в Израиль, и помимо попугая, напичканного перед таможенным досмотром бриллиантами, экспортировал туда тбилисскую курдянку по имени Шехешехубакри, которая вскоре сбежала от него в Турцию с дипломатом курдского происхождения. Израиль разочаровал Тариела высокой концентрацией евреев. Переехал, однако, в Нью-Йорк, где продал бриллианты и – в стратегической близости от ООН – открыл ресторан, который собирался использовать в качестве трибуны для защиты прав индейцев. С этою целью к грузинским блюдам он добавил индейские и завел любовницу по имени Заря Востока, – из активисток племени семинолов.
Между тем, ни ее присутствие в свободное от демонстраций время, ни даже присутствие попугая, умевшего приветствовать гостей на трех официальных языках ООН, успеха ресторану не принесли. Дела шли столь скверно, что Тариел подумывал закрыть его и посвятить себя более активной борьбе за дело индейского меньшинства, – подпольной скупке в Израиле и подпольной же втридорога – продаже семинолам автоматов «Узи». Провалила сделку встреча, которую Заря Востока организовала в резервации под Тампой между Тариелом и одним из старейшин племени. Этот «поц с куриными перьями на лбу», как назвал мне его Тариел, оказался антисемитом: узнав, что «Узи» изготовляют евреи, возмутился и сделал заявление, согласно которому миниатюрному автоматическому оружию он, по примеру предков, предпочитает старомодные ружья с такими длинными стволами, что, хотя при стрельбе они иногда взрываются, их можно зато подносить к мишени ближе. По возвращении в Нью-Йорк Тариел поспешил в ФБР и сообщил Кливленду Овербаю, что «вонючие семинолы готовят вооруженное восстание против США!»
Овербая растрогала бдительность Тариела, но он заверил его, будто никакое меньшинство не представляет опасности для большинства; тем более милые семинолы, вооружающиеся всего лишь для борьбы против евреев во Флориде. Овербай посоветовал Тариелу забыть о семинолах и повременить с продажей ресторана, который, по единодушному мнению коллег из ФБР, расположен в многообещающей близости от ООН.
То ли благодаря заботе Овербая и коллег, то ли благодаря тому, что Тариел выбросил из меню индейские блюда, бизнес пошел в гору: дипломаты валили в «Кавказский» делегациями, учтиво беседовали с попугаем у входа, нахваливали грузинские рецепты и ликовали, когда Тариел угощал их за свой счет кахетинским вином. Как-то раз – и об этом писали в газетах – Тариела навестил и проголодавшийся тогда, но теперь уже покойный советский министр Громыко. Заходил дважды и другой министр – тоже оба раза проголодавшийся и тоже бывший, но американский и еще живой, – Киссинджер. Шеварднадзе – хотя и земляк – кушать побрезговал: сказал Тариелу, будто находится на диете. Правда, выпил с ним стакан вина за свое «новое мышление» и пообещал способствовать расширению грузинского амбианса в районе ООН. Слово сдержал: напротив «Кавказского», во дворе организации, появился вскоре скульптурный ансамбль тбилисского символиста Церетели «Георгий Победоносец» – веселый горец на веселом же коне протыкает копьем межконтинентальную баллистическую ракету с большой, но легко расщепляющейся ядерной боеголовкой.
Что же касается Зари Востока, она приняла иудаизм, переселилась жить к Тариелу в квартиру, которую он, покинув Квинс, снимал прямо над рестораном, заделалась в нем мэтром и похорошела. Даже Шеварднадзе не мог удержаться от комплимента и, не скрывая блеска в умудренных международной жизнью глазах, сообщил ей, что в Тбилиси одна из газет называется «Зарей Востока». Заря Востока знала это давно, но все равно зарделась от удовольствия и в знак признательности предложила министру отведать клубничный джем, изготовленный ею по рецепту, описанному в романе «Анна Каренина». Тариел божился мне, будто ревновать ее к земляку не стал, потому что завел новую страсть, бильярд.
Эту страсть разбудили в нем Кливленд с коллегами. Они же привили ему и разделяли с ним любовь к кутежам с ооновскими делегатами из третьего мира. Какое-то время эта любовь казалась мне самоубийственно убыточной, ибо Тариел одарял дипломатов 30 %-ной скидкой на блюда, а к концу кутежей к наиболее важным делегатам Заря Востока подсылала политически активных семинолок, которые за ночь сексуальных чудес света спрашивали – по стандартам Большой Семерки – поразительно низкую цену. Ясно, что доплачивал им ресторан, и это должно было влетать ему в копейку, так же, как и разница между реальной и резко сниженной, «Кавказской», стоимостью блюд и напитков. Выяснилось, что все убытки за блюда, напитки и живность покрывали ресторану овербаевцы, но в последнее время, ссылаясь на урезанный бюджет, – перестали.
Лишенная живительных соков дохода, любовь Тариела к третьему миру остыла, но от кутежей он уже отказываться не мог, поскольку, как намекали ему овербаевцы, единственную альтернативу визитам разноцветных дипломатов из ООН представляли визиты черноЪбелых соотечественников из налогового бюро. Добавили еще, будто, несмотря на комфортабельность местной тюрьмы, бильярдов в ней не держат. Обо всем этом – за неделю до Нателиной кончины – я узнал от самого Тариела, приехавшего ко мне за советом. Я порекомендовал ему продать ресторан, расстаться с Зарей Востока и возвратиться в Квинс к покинутым им петхаинцам, а до того не дразнить овербаевских гусей и веселиться с делегатами, валившими в «Кавказский» после каждой победы. Тариел казался мне пугливым, и, направляясь к нему в ресторан за десяткой, я не сомневался, что находится он в данный момент не в одном из бильярдных клубов Манхэттена, а у себя: рассаживает за стол отголосовавшихся противников апартеида.
…Разноцветных дипломатов, возбужденных состоявшимся успехом и предстоявшим разгулом, уже сажали за банкетный стол. Но занимался этим не Тариел, – Заря Востока.
– Где Тариел? – спросил я, но она не ответила.
Ответил – на родном, грузинском, – попугай: Тариела нет.
– Сегодня ж банкет! – возмутился я. – Конец апартеиду!
Заря Востока промолчала, а попугай крякнул по-английски:
– Апартеиду нет!
Я велел ему заткнуться, но он грязно выругался.
– Почему молчишь? – спросил я Зарю Востока.
– Сказали же тебе: его нет, – огрызнулась она.
– В бильярдной?
– В Квинсе, как ты ему и советовал! На кладбище. Там ведь у вас кто-то подох! Позвонил: плевать на банкет, тут у нас, говорит, похороны затягиваются, – хмыкнула она.
– Как именно сказал? – оживился я.
– Так и сказал, – «затягиваются»! – осклабилась Заря Востока. – Ямку что ли недоковыряли?! Ты-то ведь отхоронился уже, кутить нагрянул! А он застрял в гавеном Квинсе! Это уже он второй раз за десять дней! Завел, наверно, поблядушку из землячек!
– Успокойся! – сказал я. – Похороны, да, затянулись.
– А то ты очень того хочешь, чтобы я успокоилась! – пронзила она меня злобным взглядом.
– Конечно, хочу! – заверил я. – Мне надо у тебя получить десятку, если Тариела нет.
Заря Востока вскинула глаза на попугая и прищелкнула пальцами. Попугай тоже обрадовался:
– Жопа!
Мне было не до скандала. Обратился поэтому не к нему:
– Чего это ты, Заря Востока?
– А того что слышал! – раскричалась она. – Сперва советуешь бросить меня на фиг, а потом у меня же требуешь деньги!
– Это не так все просто, – побледнел я. – Объяснить?
– Я занята! – и снова щелкнула пальцами.
Я показал попугаю кулак, и он сомкнул клюв. Зато весь проголодавшийся третий мир сверлил меня убийственными взглядами и был полон решимости бороться уже то ли за сверхэмансипацию женщин в американском обществе, то ли за новые привилегии для индейцев в том же обществе. Кивнув на попугая, я дал им понять, что грозил кулаком не женщине, а птице, – причем, за дело: за недипломатичность речи. Понимания не добился: смотрели по-прежнему враждебно. «Неужели хотят защищать уже и фауну?» – подумал я, но решил, что это было бы лицемерием, поскольку, судя по внешности, некоторые делегаты не перестали пока есть человечину. Догадавшись, что десятки мне здесь не добиться, я одолжил у попугая слово «жопа» и адресовал его третьему миру.
Направился, между тем, не к выходу, а вглубь зала, – к столику с телефоном: налаживать связь с цивилизацией. Возле столика паслись несколько семинолок. Пахли одинаковыми резкими духами и одинаково виновато улыбались. Даже рты были раскрашены одинаковой, бордовой, помадой и напоминали куриные гузки. Оттеснив их от стола, я поднял трубку. Звонить, как и прежде, было некуда. Набрал бессмысленно собственный номер. Никто не отвечал. Не отнимая трубки от уха, стал разглядывать затопленный светом зал. На помосте, перед микрофоном, с гитарой на коленях сидел в соломенном кресле седовласый Чайковский, – композитор из Саратова, которого Тариел держал за изящную старомодность жестов. Чайковский был облачен в белый фрак, смотрел на гитару и подпевал ей по-русски с деланным кавказским акцентом:
Облака за облаками по небу плывут,
Весть от девушки любимой мне они несут…
Кроме делегатов – за другим длинным столом – суетилась еще одна группа людей. Гоготали по-русски и по-английски. Особенно громко веселился крупногабаритный, но недозавинченный бульдозер в зеркальных очках, слепивших меня отраженным светом юпитера. Чайковский зато был грустен и невозмутим:
Птица радости моей улетела со двора,
Мне не петь уже, как раньше
Нана-нана-нана-ра.
Без тебя мне мир не светел, мир – нора,
Без тебя душа моя – нора.
Ты – арзрумская зарница, Гюльнара!
Ты – взошедшее светило, Гюльнара!
Заря Востока отыскала меня взглядом и сердитым жестом велела опустить телефонную трубку. «Пошла в жопу!» – решил я и сместил глаза в сторону. За круглым столом, точнее, под ним, знакомый мне пожилой овербаевец поглаживал ботинком тонкую голень юной семинолки. Она слушала его внимательно, но не понимала и потому силилась вызволить кисть из его ладони. Я подумал, что он загубил карьеру чрезмерной тягой к сладострастию, ибо в его возрасте не выслеживают дипломатов из Африки.
С трубкой в руке, я, как заколдованный, недвижно стоял на месте и не мог ничего придумать. Равномерные телефонные гудки посреди разбродного гвалта, гудки, на которые никто не отзывался, обещали то особое беспокойное ощущение, когда бессвязность всех жизней между собой или разобщенность всех мгновений отдельной жизни обретает отчетливость простейших звуков или образов: отрешенных друг от друга, но одинаковых гудков или бесконечной вереницы пунктирных черточек. Символы всепроникающего и всеобъемлющего отсутствия! Не вещей полон мир, а их отсутствия!
Потом мой взгляд перехватила крыса. Растерянная, шмыгала от стола к столу, а потом ринулась к плинтусу и стала перемещаться короткими перебежками. Движения ее показались мне лишенными смысла, но скоро я заметил другую крысу, за которой она гналась. Никто их не видел, и я представил себе переполох, если кто-нибудь нечаянно наступит либо на гонимую крысу, либо на гонявшуюся.
77. В душе моей кувшины влаги алой
– Положи трубку! – услышал я вдруг скрипучий голос Зари Востока. Она стояла рядом и не спускала с меня расстреливающего взгляда. – Положи, говорю, трубку! – и, надавила пальцем на рычаг.
– Сука! – охарактеризовал я ее.
Среагировала бурно: выкатила желтые семинольские белки и принялась визжать на весь зал. Разобрал только три слова – «женщина», «меньшинство» и «праває». Не исключено, что четвертого и не было, – остальное в поднятом ею шуме составляли вопли. За исключением Чайковского все обернулись на меня, и в ресторане, несмотря на истерические причитания мэтра, воцарилась предгрозовая тишина, которую нагнетало негромкое бренчанье гитары:
Мне утонуть? Пускай – но только в винной чаше!
Я маком стать хочу, бредущим по холмам,
Вот он качается, как пьяница горчайший,
Взгляни, Омар Хайям!
Никто на помощь к Заре Востока не спешил.
Судьба на всем скаку мне сердце растоптала,
И сердце мертвое под стать немым камням,
Но я в душе моей кувшины влаги алой
Храню, Омар Хайям!
Наконец, за англо-русским столом загрохотал недостроенный бульдозер в очках. Отерев губы салфеткой, швырнул ее на стол и направился ко мне. Заметив это, Заря Востока сразу угомонилась и отступила в сторону, – что предоставило бульдозеру лучший на меня вид. Стало совсем тихо. Чайковский продолжал беседовать с Хайямом:
Из праха твоего все на земле кувшины.
И этот наш кувшин, как все они, из глины,
И не увял тростник – узор у горловины,
И счета нет векам,
Как стали из него впервые пить грузины,
Омар Хайям!
Что за наваждение, подумал я, опять меня хотят бить! Ощущение при этом было странное: хотя развинченный бульдозер – тем более, заправленный водкой – представлял меньшую угрозу, нежели орава черных юнцов, защищаться не хотелось: устал. Мысль о Нателе, однако, вынудила меня отставить в сторону правую ступню и нацелить ее в надвигавшуюся машину под самый бак с горючим, в пах, – так, чтобы искра отскочила в горючее и разорвала в щепки всю конструкцию. И ударил бы, конечно, если бы машина не убрала вдруг с лица очков и не сказала мне знакомым голосом по-русски:
– Сейчас тебя, сволочь, протараню!
– Нолик! – ахнул я на русском же. – Айвазовский!
Бульдозер застопорился, забуксовал и взревел:
– Это ты?! Дорогой мой!
К изумлению Зари Востока, Нолик расцеловал меня и потащил к столу представлять как закадычного друга.
…В друзьях мы не состояли, хотя знакомы были с детства. Звали его сперва по-армянски – Норик Айвазян, а Айвазовским он стал по переезду из Грузии в Москву: хотел звучать по-русски и «художественно». Что же касается имени, Нолик, – за пухлость форм прозвал его так в школе я. Имя пристало, и при замене фамилии Норик записал себя в паспорте Ноликом, что при упоминании армян позволяло ему в те годы добровольной руссификации нацменов изображать на лице недоумение. В Штатах я читал о нем дважды. В первом случае его имя значилось в списке любовников брежневской дочки, но список поместило местное русское «Слово». Зато заметка в «Таймс» звучала правдоподобно. Рассказывалось в ней о кооперативных ресторанах перестроившейся Москвы, и в числе валютных был назван «Кавказ» у Новодевичьего кладбища. Упоминалось и имя кооператора – Норика Айвазяна, «московского представителя Организации Освобождения Карабаха».
…Оправившись от липких лобзаний с хмельными кутилами и с самим Ноликом, а также от водки, которую он перелил в меня из чайного стакана, я сразу же собрался попросить у него десятку, но решил сперва справиться о доходах. Ответ обнадежил: «Кавказ» приносил ему ежемесячно 40 тысяч «париков», – банкнот с изображением отцов американской демократии в зеленых париках. Вдобавок, вместе с полковником Федоровым, он затеял под Москвой дело, связанное с производством зеркальных очков. Хотя «снимал в лысых», то есть – в банкнотах с изображением отца советской демократии без парика, но даже по нынешнему курсу – это «20 больших в тех же париках»! Потом, безо всякой связи со сказанным, он пожурил американцев за то, что, как только они набирают несколько миллионов «париков», сразу же притворяются богачами, а богачи, сказал Нолик, – если не борются за великое дело, – омерзительны. На какое-то мгновение мне стало больно за то, что я покинул отчизну, но вспомнил, что на новой родине беженцы имеют и больше. В качестве их представителя я качнул головой и поморщился:
– Сорок тысяч? Всего?! На двоих?!
– Ты что?! – возмутился Нолик. – Толик срывает 50! Но ему и карты в руки: это его идея!
– Какой Толик? – спросил я, хотя не знал и идею.
– Полковник Федоров, – сказал Айвазовский. – Я знакомил!
– Который из них? – оглядел я еле присутствующих.
Они гоготали по английски. Единственный, кто изъяснялся по русски, причем, в рифму, сидел напротив, выглядел полуевреем и не скрывал этого от соседа, которому сам же каждую свою фразу и переводил: «Мой отец – еврей из Минска, мать пошла в свою родню. Право, было б больше смысла вылить семя в простыню. Но пошло – и я родился, – непонятно кто с лица. Я, как русский, рано спился; как еврей – не до конца». Сосед посматривал на него с подозрением. Не верил, что полуеврей спился не до конца. Не верил и я: не тому, что до конца спившийся полуеврей не может быть полковником, а тому, что он ежемесячно срывает под Москвой 50 больших «париков».
– Это он? – спросил я Нолика. – Это Толик?
– Толик это я, – сказал мне полковник Федоров, восседавший, оказывается, рядом, по мою левую руку, которую я, смутившись, сунул ему под нос и сказал:
– Еще раз, полковник!
На полковника Федоров не походил потому, что на нем был яркоЪжелтый нейлоновый блейзер, а под блейзером – яркоЪкрасная тельняшка со словом «Калифорния».
– Никогда б не догадался, – улыбнулся я. – Молод!
– Эх! – обрадовался полковник. – Забыл бык, когда теленком был. А еще, знаешь, говорят: Молодость ушла – не простилась, старость пришла – не поздоровалась.
Айвазовский хлопнул меня по спине и воскликнул:
– Каков ТоликЪто, а! Ума палата и руки золотые! У армян говорят: олень стрелы боится, а дело мастера!
– Я армян уважаю, – согласился полковник. – Но у русских тоже есть свое: дело мастера боится.
– Почти одинаково, только без оленя! – сообразил я и добавил более масштабное наблюдение. – Народ народу брат!
– Философ! – сообщил Нолик обо мне полковнику.
– Философов тоже уважаю, – разрешил Толик и выпил водку, а потом рассмеялся. – А такое, кстати, слышал, – философское: «Все течет, все из меня»? Или: «Я мыслю, следователь, но существую»?
– А что у вас за войска? – рассмеялся я. – Фольклорные?
– Толик у нас полковник безопасности! – ответил Нолик.
– КГБ?! – осмотрелся я. – Или как это у вас называют?
Кроме попугая и Зари Востока никто на нас не смотрел.
– Удивительно! – сказал я Нолику. – А говорил: в одном деле…
– Новые времена! – похвалился полковник.
– А мы тут еще хотим ресторан перекупить у Тариела, – добавил Нолик. – Пора выходить на Америку!
– Это дорого? – согласился я. – Выходить на Америку?
– Наскребем! – пообещал Нолик.
– Молодцы! – вздохнул я. – Нолик, мне нужна десятка.
– Как срочно? – опешил Айвазовский.
– Сейчас.
Нолик вытер губы ладонью и обиделся.
– 10 тысяч?! – разинул рот полковник и вылил в него рюмку.
– 10 долларов, – сказал я.
Айвазовский переглянулся с Федоровым и после выразительной паузы проговорил:
– Мой тебе совет… бросай-ка на фиг философию и займись делом. Это же Америка! Даже у нас, в вонючем Совке, башковитый народ очухался и это… пошел в дело. Я тебе расскажу сейчас что делать, а ты выпей, не стесняйся! – и снова переглянулся с Толиком. – Что я тебе говорил вчера, Толик, а? Прав я или нет?
– Я и не спорил! Народ говорит так: ворона и за море летала, а умна не стала! – и повернулся ко мне. – А ты пей и прислушайся к Норику Вартанычу: он дурному не научит! Таких мало: ему могилу буду рыть, а там нефть, например, найдут!
– Так что же, Нолик, найдется десятка? – спросил я.
– Слушай, милый, – опять обиделся Нолик, – откуда я возьму десятку-то? Мы же тут ходим с чеками. «Тривилерс»! Да, Толик?
– «ТриЪвилерс», «дваЪвилерс»! – рассмеялся полковник. – Трэвелерс! А мы тебе это… – повернулся он ко мне. – Хотим очки подарить! От них польза бывает, понимаешь? Дай-ка надену тебе, мы же друзья уже, дай-ка мне твой нос!
Я не дал носа. Поднялся и похлопал обоих по плечу:
– Мне пора: у каждого Абрама – своя программа. Ну а таких друзей – за жопу да в музей!
– Хорошо сказано! – взвизгнул Толик.
– По философски! – рассудил Нолик.
78. Тайное в природе и в душе тайным и остается
Идти было некуда, и я машинально вернулся к телефону. Заря Востока рассаживала семинолок между борцами против апартеида, а я машинально же нащелкивал свой номер, хотя по-прежнему упорно не подходил к телефону на другом конце. За круглым столом не было уже ни овербаевца, ни непонятливой собеседницы: должно быть, поняла и удалилась с ним. Попугай смотрел уже не на меня, а на Чайковского, – и одобрительно кивал головой. Старику песня нравилась и самому:
Скажи мне, наша речка говорливая,
Длиною в сотни верст и сотни лет:
Что видела ты самое красивое
На этих сотнях верст за сотни лет?
Попугай навострил уши, а старик подмигнул ему и допел:
Ответила мне речка края горного:
Не знала я красивей ничего
Бесформенного камня – камня черного
У самого истока моего.
Я вспомнил о Нателиных камнях; вспомнил с нежностью и Зилфу, ее мать; себя даже – у «самого истока моего», подростком, испугавшимся впервые именно в связи с Зилфиным колдовством над камнями и самоубийством ее мужа, бабника МеирЪХаима, – впервые испугавшимся тогда той догадки, что тайное в природе и в душе тайным и остается. Вспомнил изумленное лицо моего отца, прочитавшего предсмертную записку МеирЪХаима о невыносимой любви к Зилфе. Я расслабился и затаился в ожидании той уже не отвратимой горячей волны, которая разливается из горла по всему телу, растворяя его в пространстве и времени…
Раствориться не успел: снова подкатил бульдозер, только теперь уже вконец развинченный. Забрал у меня из рук трубку и опустил ее на рычаг. Я не протестовал: не ждал даже извинений; ждал того, что было важнее, – десятку. Начал он с извинений:
– Ты уж прости меня, старик, но она настаивает. С другой стороны, она права: телефон не твой, а она тут фигура – мэтр! Фигура к тому же, старик, у нее как раз вполне! Я люблю когда жопа и живот облетают бабу как карниз. Это мне нравится: у черножопых и еще у – как она – у желтожопых. Обезьяны, но есть что помять!
Нолик обвил меня за талию и подталкивал к выходу, а Заря Востока стояла неподалеку и торжествовала. Осознав к своему ужасу, что десятки он мне давать не надумал, а надумал, наоборот, угодить «желтожопому мэтру» и вышвырнуть меня, я перестал его слушать: сперва двинул левым локтем в бак, взболтав в нем горючее, а потом левою же ладонью схватил его за мошонку и сильно ее сдавил. Нолик перестал держать меня за талию: закинул голову вверх и стал глухо хрипеть. Почему-то подумалось, что никому на свете он не нужен – и я решил его взорвать. Кулак мой сомкнулся крепче, но шарики в нем оказались мелкими, и искры разлетелись не оттуда, а из глаз. Догадавшись, что взрыва не состоится, я заглянул Нолику в задымленные глаза и спросил:
– Понял?
Он в ответ заскулил и пригнулся ниже.
– Норик Вартаныч! – окликнул его из-за стола полковник.
Не ответил он и ему.
– Отвечай же, Нолик! Понял или нет? – повторил я, и теперь уже он попытался кивнуть головой.
Я приослабил кулак, и с кивком у Нолика вышло яснее. Я отпустил больше. Яснее получилось и со звуком:
– Понял.
Никто кроме него, однако, ничего не понял. Не поняла даже Заря Востока, норовившая зайти сбоку, чтобы разглядеть – отчего же это вдруг московский гость начал вертеться вокруг своей обширной оси.
– Норик Вартаныч! – крикнул Федоров. – Тебе плохо?
– Иду, иду! – откликнулся Нолик истонченным голосом и посмотрел на меня умоляюще.
– Иди, иди! – и я отпустил его вместе с мошонкой.
Пошел и я. К выходу. Заря Востока провожала меня взглядом, в котором презрение ко мне соперничало с непонятым мною восторгом по отношению к Нолику. Еще больше запутал меня Чайковский:
Оставьте одного меня, молю,
Устал я от дороги и от шума.
Я на траве, как бурку, постелю
Свою заветную мечту и думу.
Это мне было понятно, но, открывая дверь, я услышал иное:
О люди, подойдите же ко мне,
Возьмите в путь: я никогда не думал,
Что будет страшно так наедине
С моей мечтой, с моей заветной думой.
…На часы взглянул уже за дверью. Половина одиннадцатого! Тротуар оказался пустынен: грабить было некого. Отчаяние подсказало план, утонченный, как пытка, но и смелый, как пьяная мечта: проникнуть в здание ООН напротив и приставить к стенке любого дипломата вплоть до генсека. Рассудок силился удержать меня от этого, но ему я уже не доверял, напомнив себе, что миром, представленным этим коробком на той стороне, правят именно отчаяние и неразумение.
Проникать в ООН не пришлось. Одна из запаркованных у ворот машин показалась мне не пустой. Подкрался сзади, увидел сразу две тени, обе на переднем сидении, – и вздохнул: если у одной не окажется десятки, она окажется у другой. Пока решал – с какой стороны заходить, заметил, что они тоже, как и я, вот-вот решат задачу: тонкая, справа, оказалась женской и, перегнувшись скобкою к другой, к мужской, мелко суетилась. Широкая же, мужская, откинувшись на спинку, изредка вздрагивала. Из приспущенного заднего окна протискивался на волю Лучиано Паваротти, но в паузах, когда объемистый тенор вбирал в себя воздух, в том же окне задыхался другой сладострастец; не пел, однако, – постанывал. Мешкать я себе не позволил: в предоргастическом состоянии жертва менее опасна. Расстегнул сорочку и зашел с левой двери. Стукнул локтем в стекло и распорядился опустить его. Оно заскрипело и поплыло вниз, но из брезгливости я отвернулся и объявил водителю, что жизнь гнусна, а потому штрафую его на десять долларов.
– А почему смотришь в сторону? – ответили из-за руля.
– А потому, что брезгую. Подглядывать тоже гнусно!
– Я подглядывал не за тобой! – ответил водитель.
– Чего ты там мелешь! – рассердился я. – Застегнулся?
– Какая разница? – ответил водитель. – Застегнулся, не застегнулся… Сам вот пузо выкатил, а тут дама все-таки!
– «Дама»?! – возмутился я. – Так ты ж этой даме…!
– Ну, иди и докладывай! На него мне тоже положить!
– «Тоже»?! – оскорбился я. – А ну, выходи!
– Послушай! – ответили теперь спокойней. – Чего пристал? Я ж не про тебя – «положить»! Я про Кливленда!
– Про кого? – опешил я.
– А то он не балуется с бабами, да?! Или ты?! Я ж наизусть тебя знаю! И ты – меня: я Бобби, помнишь? И говорю как есть: не за тобой наблюдал. Одно дело – телефон твой или почта, но наблюдать уже не наблюдаем. Я говорю честно; в начальники уже не мечу: стар… И бабы мне дороже, чем должности!
Голову мне можно было к нему не поворачивать. Теперь уже я знал кого собирался грабить, – агента ФБР. Того самого, сидевшего за круглым столом с непонятливой семинолкой. Что за проклятье! – подумал я. – Во всем мире люди грабят безо всякого недоразумения! Особенно тут! Кто ж это надо мной издевается?! Да никто, сам я себя и заложил: надо было идти прямо в ООН, а не приставать к ветеранам секретной службы в ответственные мгновения!
– Надо было идти в ООН, – произнес я и, оскорбленный невезением, обернул к нему печальное лицо.
– Ну вот еще! – проговорил он. – А теперь у тебя опять испортилось настроение. Как тогда, пять лет назад. Сперва буянишь, а потом сам же обижаешься. Ты и тогда рвался в ООН, а ООН тут ни при чем: они с частными жалобами не возятся; только если обижается государство на государство. А ты – хотя и на государство – обиделся от своего имени, а это нигде не считается… Короче, я сказал как есть: не за тобой следим… Могу даже сказать за кем, – и полез наружу.
Я не знал что делать; тем более – брюки у него на причинном месте оказались уже застегнуты и придираться было не к чему, если бы даже я и осмелился штрафовать сотрудника ФБР. Сотрудник тем временем шагнул ко мне, взял за талию, как Нолик, и отвел в сторону:
– А следим не за тобой, хотя и за земляками твоими. В желтой куртке, а особенно – жирный. Знаешь давно?
– Жирного давно! – обрадовался я.
Обрадовался и он:
– Второго знаем: Толя Федоров. Но интересует нас не он.
– Правильно! – загорелся я. – Надо брать толстяка!
– Ты его, видно, любишь! А водку хлестал с ним стаканами!
– Кавказский обычай! – застеснялся я. – Зато потом яйца ему выкручивал! Ты, наверное, сидел уже здесь.
– Намекаешь? – застеснялся и он. – Я, к твоему сведению, девочке показывал как ей позже с толстяком этим, с Гуревичем, себя вести, понял? Семинар проводил! – и рассмеялся негромко.
– С каким это еще Гуревичем? – не понял я.
– С Гуревичем, с дружком твоим, которого сперва лобзаешь, а потом требуешь брать! – и хмыкнул.
– С толстяком что ли? Хорошо работаете! Айвазян фамилия!… Знаю с детства! Гуревичами у него и не пахло!
Бобби заметно огорчился.
– Это хорошо, что не пахло! – рассудил он. – То есть хорошо ему, а нам как раз плохо: значит, водит, сволочь, за нос и нас… Хитер! Это тебе не Федоров! – и качнул головой. – Все отменяется!
– Что отменяется? – полюбопытствовал я.
– Все! – объяснил он. – До встречи с Кливлендом все отменяется! В том числе и эта девочка. А с тобой нам как раз надо обо всем поговорить. О Гуревиче. Об Айвазяне, то есть. Сесть и по-дружески так, знаешь, поговорить… Сам захочешь помочь.
– Не думаю, – признался я.
– Обязательно захочешь… Здесь все связано! С тобою, я слышал, уже говорили о генерале Абасове. Все связано: Гуревич этот… то есть Айвазян, как говоришь, и Абасов! И библия, конечно! С тобой же говорили и о ней, ну! Почему не доверяешь? Я тебе доверяю…
Я подумал надо всем и обрадовался. Не доверию ко мне, но тому, что я понадобился Бобби.
– Знаю, что доверяешь, – сказал я ему. – Долго следили! И много прошло времени! А во времени, Бобби, все меняется. Это раньше я беседовал бесплатно. А теперь я, как все на свете, – американец. Теперь без гонорара не здороваюсь!
Мне показалось, что Бобби испытал приступ жажды:
– С деньгами не я решаю, – и закурил.
– Десять долларов! – выпалил я и снова отвернул голову.
Наступила пауза, заполненная клубами сигаретного дыма.
Нас с Бобби прощупала в темноте одичалая фара заблудшего велосипедиста в белых ботинках и красных рейтузах. Он посмотрел на нас ищущими глазами, но тоже постеснялся и отвернулся. Я проводил его сердитым взглядом, а потом вернулся к Бобби. Лицо у него, все в дыму, было озадаченным. Потом он очнулся, полез в карман, вытащил оттуда бумажник, а из него – две десятки. Я взял обе и догадался, что Нолик, свинья, вырос в важную птицу. Уже захлопнув за собою дверь, Бобби обернулся ко мне и добавил:
– Кстати, не надо Кливленду про семинар, ладно?
Я вернулся теперь уже к правой дверце. По-прежнему постучался локтем в стекло и попросил семинолку опустить его. Лицо у нее было испуганное. Протянув ей одну из моих десяток, сказал:
– Это тебе в знак извинения. За перерыв в семинаре! – и подмигнул ей. – А с толстяком этим, с Гуревичем, – отменяется! Но ты не горюй: там у него внизу трогать нечего! Жидковато!
Она сперва растерялась, но потом, когда Бобби грохнул со смеху, – хотя опять же ничего не поняла, – рассмеялась и сама.