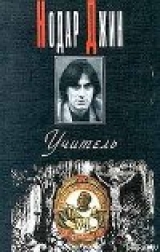
Текст книги "Учитель (Евангелие от Иосифа)"
Автор книги: Нодар Джин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
28. Друзьям дарят духи или шарф, а не гонорею…
Именно так вёл себя со мной и Учитель – вздыхал и брякал трубкой. Точнее, молчал и удалялся в неизвестную даль по белой тропинке. А я стоял посреди травы и провожал его печальным взглядом.
И каждый раз в душе возникало такое же чувство, как когда хоронили отца. Не просто – незащищённости, а сиротливости.
К могиле отцовские друзья меня не пустили. Считали, что я слишком мал. Позволили только переступить порог кладбища – и велели ждать. А гроб с отцом понесли по белой тропинке в горку. В самый конец кладбища, где хоронили бедняков.
И долго не возвращались. До ночи. Сбросили отца в землю и – как принято – начали пить. А про меня забыли. И пока вернулись с пустым гробом, я сидел в траве и слушал цикад. Душа в животе разбухла и подступила к самому горлу. Потому что все мои слёзы текли вовнутрь. Я отца жалел.
И сердился на живых. За то, что они были живые, а он нет. Сердился прежде всего на мать. За то, что была с ним груба.
На себя сердился тоже. За то, что желал ему погибели, когда он напивался и бил меня. Хотя когда не напивался и забирал с собой на работу в соседние деревни, мне с ним было хорошо. В такие дни я казался себе сильным.
После отца уходящяя вдаль тропа возвращает мне всегда чувство покинутости.
И каждый раз, когда в моих снах Учитель скрывается из виду на белой петлистой дороге, я слышу звон цикад. Как на кладбище.
Иногда они трещат так же настойчиво, как телефоны в главные дни.
Как в Смольном, например. И не в тот даже день, когда всё свершилось – и Вождь прокартавил о победе. Свершилось как раз легко. Он и сам удивился.
Но в революции главное не в её свершении, а в недопущении другой. И зависит это от того – кого ввести в правительство. А душа у Вождя в таких вещах отличалась осведомлённостью.
Поэтому телефоны в Смольном затрещали особенно громко, когда он приступил к составлению списка. Даже Троцкий не был уверен, что войдёт в него. И весь день – на всякий случай – жаловался всем, что Ильич нездоров. И ещё – что много звонков.
Но ему в основном звонили иностранцы. И в основном писаки. И не потому, что он знал неглавное – их языки. А потому, что главное знали они: с прессой Лейб Давидович готов болтать хоть в аду. Где этим сейчас и занимается.
Один из звонков к нему перебросили тогда и мне. Великий оратор занят был: хорохорился перед янки. Который написал потом, что Троцкий потряс его так же сильно, как те десять дней, которые потрясли мир.
А звонит, сказали мне, баба. Из Парижа. Я сперва отказался. Французского не знаю. А зачем? Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на языки.
Мне объяснили, однако, что баба говорит по-русски. Поднимаю трубку и выясняю, что хотя отец её известный русский дворянин, звонит она от имени французской писательницы. Неизвестной.
Но эта баба разговаривает со мной надменно. Ей не понравился мой акцент. Дескать, – хуже, чем еврейский.
Хотя звонила она не обо мне поговорить. О писательнице. Которая, мол, стала недавно лесбиянкой. И моей любовницей. То есть – не моей, а её. Я поздравил наследственную дворянку, но добавил, что занят и жду сейчас более важных известий.
Важнее не бывает, возражает она и добавляет, в свою очередь, что эта писательница – не совсем лесбиянка. Дуалистка. Спит даже с мужиками. И даже с лысыми.
Я предложил ей передать теперь поздравления писательнице. А потом вместе с ней пойти на три буквы. Или – учитывая особенности дуализма – на пять.
И тогда она меня оскорбляет. Ты, мол, либо дурак, либо хуже – тоже еврей. Что значит «тоже», насторожился я. «Тоже», как кто?
И она назвала мне нашего Ильича.
Доказательствами, впрочем, располагала к другому обвинению. Ради чего и звонила. Писательница, говорит она мне, к сожалению, очень хорошо знает вашего Ильича. С которым встречалась, когда он жил в Париже, а она сочиняла роман о беглом революционере.
Встречалась часто, но уступила ему только раз. А потом отказывалась. Наотрез.
Почему? – возмутился я.
Оказывается, не потому, что Ильич картавил. Или что, как выяснилось позже, он женат. Или наконец, что её отбила у Ильича моя собеседница.
Ваш Вождь, говорит собеседница, нашу писательницу заразил.
И не большевизмом, а гонореей. Большевизмом не смог. Смог только гонореей.
Но повёл себя по-хамски: отнекивался и утверждал, будто здоров. И будто заразил её другой революционер. А может быть, – и не революционер, а приспособленец. Соответственно, мол, ваш Вождь не признал за собой никакой материальной ответственности.
Правильно, отвечаю, он очень здоров. А её заразил приспособленец. И прощайте, а то опоздаете куда я вас послал.
Но она, увы, снова нашла что добавить. Ваш Вождь, говорит, написал писательнице ворох грязных писем. Много грамматических ошибок, но столько же скабрезных деталей. И отнюдь не о буржуазии.
А о вневагинальном сношении.
О каком? – удивился я. И она повторяет мне из Парижа это самое слово. Которого я тогда не знал. И признался в этом. Она объяснила. Правда, – стесняясь. Поскольку её отец, повторяла, был известный дворянин. Но потом – как ни в чём ни бывало – стала читать отрывки из этих писем.
Застеснялся даже я. Хотя она предупредила, что в переводе это звучит мягче. И хотя мой отец был неизвестный сапожник.
Мы торговались долго. Но мне удалось убедить её, что денег для откупа от скандала у нашего правительства пока нету. Хотя бы потому, что пока нету и правительства. Но когда, говорю, оно будет, будут и деньги. И вашу писательницу мы обидеть не посмеем.
Если же в правительство введут также меня, то не обидим и вас. И вдвоём с ней будете кататься, как сыр в масле. Вневагинально.
Так и вышло. Я всегда держу слово. Моей собеседнице мы ничего, разумеется, не платили, потому что её отец был дворянин. И не важно даже – известный или нет. Главное, – она ни при чём.
Но писательнице выплачивали пенсию вплоть до того дня, когда Крупская решилась наконец покинуть нас, живых, и вернуться к Вождю. Несмотря на то, что он был как бы с нами.
И главное, несмотря на то, что даже при жизни он пользовал её лишь в начале. Причём, с досады, что её подруга ему отказывала.
А Крупская меня ещё ненавидела! И ставила Троцкого выше. Что бы сталось с её базедовым взглядом, если бы та дворянка дозвонилась до болтуна Лейба!
Но, видимо, список свой он от этого взгляда укрыл. О чём я и рассказываю. Да, Ильич включил меня в число пятнадцати министров!
И благодарил за чуткость к жене. И – что я уберёг её от раны.
Хотя от позора уберёг я государство, а не эту дуру.
И даже не Вождя. Который к концу тоже осоловел. Не только кукарекать начал, но даже к жене прислушиваться. А она ему накудахтала обо мне гадости. Что я к ней нечуток. И он нахохлился. Прислал записку: не позволю! Я Вождь, а она мне – интимный друг!
Но ведь друзьям дарят духи или шарф, а не гонорею. И почему – будучи Вождём – он забыл в Париже о чуткости к этому интимному другу, когда другому другу, менее интимному, строчил записки о невагинальном сношении.
Или когда поселил у себя с самым интимным другом ещё одну блядь. И тоже называл её интимным другом. Предаваясь с ней тем же невагинальным сношениям. И прислушиваясь при этом не к жене, а к граммофону. К «Аппассионате» Бетховена.
Я, может быть, не очень чуток и к классической музыке, но ни с первой женой, ни со второй не позволял себе ничего вневагинального. Даже с Валечкой – только сегодня.
Но я об этом уже написал. Сейчас же рассказываю о том, что уходящая дорога напоминает мне верещанье цикад, а оно – звон телефонов в главные дни.
А тот день был в моей жизни из главных. Хотя мне стукнуло уже 37, именно тогда я и получил впервые работу. Если не считать четырёх месяцев в тифлисской обсерватории. Чего я не считаю. Ибо не за звёздами родился наблюдать.
Потом были другие главные дни. И другие звонки. Напоминавшие мне верещанье цикад. И, стало быть, похороны отца. И дорогу, ведущую в никуда. А на ней – исчезающего в дымке Христа.
В чистом белом хитоне.
29. Трезвость – бесполезное достоинство…
Но в этот юбилейный вечер, во сне, он впервые объявился мне в майорских погонах. И не спешил удаляться. Сам же и затеял разговор о главном.
О конце мира.
Видимо, тоже решил уважить мой юбилей. Или встревожился, услышав речь писателя Леонова. Что настал час отсчитывать время с моего рождения.
Быть может, решился наконец на большой разговор. А почему, собственно, нет? С кем ещё ему говорить? И потом – сам-то он царём так и не стал. В отличие. И дослужился лишь до майора. Тоже – в отличие.
А я – и он это уже видит – не просто ведь царь. Хотя и сам он, правда, не простой учитель. И не ровня ему другие цари или маршалы.
Потому и вошёл ко мне без стука. И закурил мой «Казбек». И развалился в моём кресле. Давя при этом спиной мой новый китель с маршальскими звёздами.
И стал изрекать в глаголах сущие истины.
Когда он договорил про чаши гнева и я бросился к нему с распростёртыми руками, меня поразил не только его вид. Не только погоны на хитоне и фуражка со звездой вместо тернового венца.
Более неуместным показался мне звон цикад. Не внезапным и резким, а именно неуместным. Ибо Учитель никуда не удалялся. Сидел за столом – и петлистой тропы рядом не было.
– Куда же ты уйдёшь, – изумился я, – без петлистой тропы?
– Как можно?! – отвечает. – Я не ухожу, товарищ Сталин!
– А почему трещат цикады?
– Это не цикады, – отвечает майор и поправляет на лбу фуражку, чтобы не кололась терновыми шипами. – Это телефон.
И тут во сне я сознаю, что мне это только снится. Никакого Учителя в облике майора! И никакого майора в облике Учителя! Только сон! А на самом деле – ни венца, ни фуражки! Ни цикад, ни телефона!
Но хотя я и повернулся на другой бок, прикрыв себе ухо плечом, цикады не унимались. Не перестали тревожиться. Звенели точно как на кладбище. Когда от меня уводили отца. Точно как в траве на обочине белой дороги. Когда уходил от меня Христос.
Я испугался за себя, собрался с силами и попятился назад. Вышел из сна.
И увидел мой диван. А на нём себя. А на себе кальсоны. И почувствовал, как затекла рука. И услышал, как трещит телефон. И вспомнил, что мне 70 лет. И что в 70 лет с дивана поднимаются кряхтя. И несмотря на возраст, хотят пожаловаться маме. На то, что не дают поспать.
– Товарищ Сталин, это, извините, Орлов! – сказал Орлов.
– Почему Орлов? – буркнул я. – Почему не Лозгачёв?
– А он – вы же видели… И добавил ещё… Праздник…
– Ты, получается, опять самый трезвый?
– Единственный, Иосиф Виссарионович!
– Трезвость – бесполезное достоинство, Орлов! Особенно – когда единственное.
– Я знал, что вы спите, товарищ Сталин, и очень извиняюсь… Но – события!
– Говори!
– Во-первых, гости уже прибыли. Из Китая… Ну, не оттуда, а с вашей другой дачи. Товарищ Мао прибыл, с одним словом! То есть – одним словом. Но – с одним переводчиком…
– Скажи ему, что прибыл раньше времени.
– Он знает, но говорит, что – умышленно. Надеется переговорить с вами до прибытия других гостей. Говорит – очень важно!
– Ты идиот, Орлов. Ты работаешь у меня не для того, чтобы верить Мао. А чтобы Мао не будил меня.
– А я, товарищ Сталин, не потому беспокою, а потому, что… Вы сами велели звонить в любой час, когда – разговор.
Я остыл:
– А кто теперь? И с кем?
– Товарищ Берия с товарищем Молотовым.
– Теперь уже с ним?
– Так точно, Иосиф Виссарионович.
– Тогда ты прав, Орлов, – кивнул я. – Что разбудил.
– Спасибо, Иосиф Виссарионович! Перевести вам?… К вам?
– Переведи! А Мао скажи – сплю. То есть – скажи переводчику. Пусть он тоже переведёт.
– Ясно, товарищ Сталин. Но почему «тоже»? Кто ещё?
– Ты. Ты ведь тоже должен перевести.
– Но я же – не словає. Я линию перевожу.
– Это я так. Шучу.
– А-а-а! – расхохотался Орлов.
– И ещё!
– Да, Иосиф Виссарионович?
– Власик звонил?
– Звонил… Но…
– Ну, чего мнёшься?
– Он тоже немножко того… Тоже приложенный…
– Почему «тоже»? Кто ещё?
– Как Лозгачёв… Но ведь праздник, товарищ Сталин…
– Говори!
– Доложи, говорит, товарищу Сталину, что нашёл его и везу… К столу… Как вам сказать…
– Скажи, как он сказал!
– Везу, говорит, майора Христа… Иисуса, товарищ Сталин…
– Отлично, Орлов!
– Да?
– Да. Переводи!
30. Долгожительство – дело вкуса…
Незадолго до войны Лаврентий катал меня на глиссере по абхазскому озеру Рица. И рассказывал о том, что если во всей Грузии на квадратный километр приходится втрое больше князей, чем во всём остальном мире, то в Абхазии на тот же километр приходится впятеро больше долгожителей.
Берия уговоривал меня подражать последним. И тоже очень долго жить.
– А разве очень долго жить возможно? – пошутил я.
– Необходимо! – настоял Берия. – Хотя долгожительство – дело вкуса.
– И абхазцы, говоришь, предпочитают долго жить?
– Сто и выше!
– Даже не-мусульмане? – не пошутил я.
– Вы шутите? – не понял Лаврентий.
– Абхазцы ведь мусульмане. И в году у них 10 месяцев. Вот и получается «сто и выше».
– Но долго живут и христианские абхазцы! – поручился Лаврентий. – У которых в году 12!
– А атеисты? Большевики?
– Пока неизвестно, – рассмеялся он.
– Почему неизвестно? А Лакоба кто был – известно? – обернулся я к другому грузинскому большевику. Который сдирал для Лаврентия шкурку с абхазского инжира. – Кто был Нестор Лакоба? Бразильский большевик? Или китайский?
От волнения тот раздавил пальцами сочный плод:
– Нет, товарищ Сталин. Лакоба был не бразильский и не китайский большевик, а абхазский! Даже лидер!
– Лакоба был не только абхазец и «лидер»! – по правил его Лаврентий. – Он был ещё враг!
– А разве лидер может быть врагом, Лаврентий?
– Может! – не испугался он. – По отношению к другому лидеру. Главному.
– И что же в этом случае получается? – улыбнулся я.
– В этом случае, Иосиф Виссарионович, – улыбнулся и он, – неглавный лидер живёт недолго. Меньше, чем сто. Даже если он абхазец. Как Лакоба.
Я убрал с лица улыбку и заключил:
– Если лидер – враг, Лаврентий, то он не «лидер и враг», а просто враг. И не другого лидера, а народа. А если он враг народа, народ и лишает его лидерства.
– И не только! – кивнул Лаврентий и защитился ладонью от водяных брызг. – Народ лишает его и жизни!
И сразу после этих слов началась пальба.
Стреляли громко, но неметко. Тем более, если целились в меня.
Попал в меня только Лаврентий. Лысиной – в живот. Сбил с ног на дно глиссера и – вместе с абхазскими большевиками – навалился мне на грудь. И лежал там долго – пока враги не перестали неметко стрелять в нашу сторону.
А может быть, в другую. Дело не в этом. И не в том даже, что, возможно, стреляли не враги. И стреляли не в меня, а в горный воздух. И что эту стрекотню подстроил сам Лаврентий. Чтобы с большевиками навалиться мне на грудь и прикрыть собою от пуль. Куда бы они ни летели.
Не в том также дело, что именно тогда я и решил поднять его из Грузии в Москву. Дело в том, что хороший художник, то есть мастер, опережает жизнь. Пусть даже Лаврентий и разыграл на Рице спектакль – он выразил вечную правду: враги, увы, таятся всюду. И выразил её в драматической форме.
Про Рицу Лаврентий вспоминал часто. В последний раз – в начале этого года.
Иосиф Виссарионович, говорит он, помните ли высокогорную Рицу? И помните ли, что, несмотря на её высокогорность, в вас там стреляли? Слава богу, не метко! Но враг не дремлет, Иосиф Виссарионович! И с каждой неудачей совершенствуется!
Я и сам чуял неладное. Слишком уж тихо было вокруг.
А тихо потому, добавил Лаврентий, что враг поднялся очень высоко. Так же высоко, как высоко над морем – и тоже тихо – залегло озеро Рица. Выше – лишь вершина. Куда, мол, враг и метит.
Это известие Лаврентий получил из Америки. Где решили, что пора всё кардинально менять. Не у них, а у нас. И что ждать милостей от природы нельзя. Ибо не исключено, мол, что Сталин решил подражать абхазским долгожителям.
По словам Лаврентия, кто-то из моих засранцев согласился с Америкой, что милость у природы надо вырвать. То есть срочно меня репрессировать.
Но посмертно. Чтобы мне не удалось поговорить с народом.
«Это смешно! – рассмеялся я и махнул рукой. – А как они собираются меня репрессировать?!»
31. Читал много книг – и имел столько же принципов…
Через месяц я, разумеется, снова рассмеялся и спросил Лаврентия – есть ли новые вести из-за океана. Есть, отвечает, но не вести, а инструменты. И хорошие. То есть – крохотные и чувствительные. Не чета, мол, извините, отечественным микрофонам.
Ладно, махнул я рукой, играйся!
Датико Накашидзе рассудил верно: Лаврентий боялся прежде всего за себя. Засранцы его ненавидели. И не потому. А потому, что он умнее их. И талантливей. Но главное его преимущество в другом. Он знает, что сменить меня не сможет. По крайней мере – единолично. И не раньше, чем когда перестанет быть грузином.
Поэтому я и доверяю ему. Опять же – пока. Потому что он может всё, – даже перестать быть грузином. И доверяю я ему что бы о нём ни говорили.
Датико Накашидзе тоже видный чекист, но не знает, что сменить Лаврентия не сможет. Даже если бы не был грузином. Он – глупый романтик. Хотя Лаврентий доверил ему установку микрофонов по другой причине. Датико приходится ему родственником.
Я знал его ещё подростком. Когда он тётю свою навещал, лаврентиеву кузину. Она служила у нас экономкой. После Нади.
А он пытался сдружиться с моей Светланой, но ничего не вышло. Перестарался. Читал, оказывается, много книг – и имел столько же принципов. И изложил их ей все. Но Светлане не понравился ни один. Тогда он заявил ей, что имеет и совершенно другие.
Но она потребовала у его тёти, чтобы он перестал приходить. Или умножать и менять принципы, хотя дело не в них. Он, дескать, сильно потеет, а пот отдаёт луковым запахом.
Датико старался понравиться и мне. Но тоже перестарался. Читал наизусть из Вальтера Скотта и Байрона. По-английски. До сих пор, кстати, подозревает, что я говорю на всех языках. И до сих пор при виде меня краснеет. И главное – потеет.
Лаврентий сказал племяннику, что об операции с микрофонами не должен знать даже я. А следовательно, мол, если почему-то не увидимся, молчи и на том свете.
То ли из страха угодить туда сразу после операции, то ли из стремления отличиться, Датико связался со мной через Орлова и рассказал сперва о том – кого из моих засранцев уже «озвучили» микрофонами. И как. А потом – кого предстоит «озвучить». И как.
Я молчал. Прервал его лишь когда он сказал, что товарищу Жданову есть предложение вшить инструмент под лопатку. Под видом сердечной капсулы. Или вместе с ней. Ибо, мол, он болен грудной жабой – и один врач предложил всадить ему под кожу, как в Америке, новый препарат.
Чья идея, изумился я, – Берия?
Наоборот, засиял Датико, моя.
Мне не хотелось обижать его, и я назвал идею неприемлемо романтичной. Потому что – объяснил – придётся довериться врачам. Сперва хирургу, который будет вшивать инструмент, а скоро – когда Жданов умрёт – патологу. Который будет его резать.
А почему вы уверены, извинился он, что товарищ Жданов нас скоро покинет?
Я ответил, что товарища Жданова знаю хорошо: он не только член правительства, но и свояк. Отец моего зятя.
Я оказался прав. Жданов покинул нас скоро. Сам. Без вмешательства со стороны. Если не считать грудную жабу. Или считать, что она может быть на стороне, а не внутри.
На панихиде мы с Датико обменялись взглядами. В стёклах его очков отражался гроб с товарищем Ждановым, а в зрачках искрился восторг от моей проницательности. Я ответил ему беззвучным призывом к постижению тайн. В том числе тех, которые касаются видных родственников.
Он понял мой взгляд, но вообразил, будто мне есть что добавить. И наутро снова попытался навестить меня. Через того же Орлова. Который ему, разумеется, отказал. Но спросил – «озвучен» ли уже видный дядя.
Да, открылся Датико, и я пришёл просить у товарища Сталина разрешения забросить сюда, на дачу, дядину линию. Орлов ответил правильно: у товарища Сталина нету времени принимать эту линию – когда будешь забрасывать.
Но забросить разрешил. И даже обосновал своё решение: товарищ Берия, молодец, всех уже прослушивает. А себя нет. Тоже, видимо, туго со временем.
Но, по-моему, Лаврентий не прослушивал себя не из-за нехватки времени, а потому, что себе доверяет. Хотя мне, например, не доверяет. Самого меня. Не доверяет мне, правда, и себя. Поэтому хотя я – благодаря племяннику – и прослушиваю дядю чаще, чем других засранцев, я не уверен, что не прослушивает меня и он.
Ещё меньше уверен я в том, что племянник действительно заложил дядю. Племянники бывают всякие. В том числе – незакладывающие.
Про меня ходит слух, будто я подозрителен. Но не я один. Или не только мы с Лаврентием. Не только даже грузины в целом. Мир кишит людьми, у которых, например, при виде мужика, крадущегося в постель к чужой жене, возникает определённое подозрение. Действительно, не исключено ведь, что он намерен притвориться в этой постели её мужем.
Не исключено ведь и то, что Датико только притворяется, будто мечтает сменить Лаврентия. А на самом деле понимает, что, пока он грузин, ему не поможет даже отсутствие собственных принципов. Или нежелание их выяснить.
Не исключено, следовательно, что Берия знает про переброшенную ко мне линию. И про то, что я его прослушиваю. А потому изо всего, что он говорит, трудно понять – что говорит он потому, что он говорит, а что говорит потому, что я его слушаю.
Но если подумать, разобраться можно. Это требует времени, но к юбилею я накопил его вдоволь. Потому и пишу эту повесть.
А к жизни – к боевому оружию, как назвал её остолоп Ворошилов, вернусь когда накопленное время закончится. Ворошилов думал, что пошутил, назвав жизнь боевым оружием. Шучу, мол, то ли в кавказском смысле (а пачэму нэт? пачэму – нэ баэвое?), то ли в еврейском (а кто её знает, может, – и огужие, но не боевое).
Но он попал в точку. Жизнь – это оружие, с которым идёшь в бой против смерти. И других врагов. И вернусь я к этому оружию сразу после Нового года. Дольше ждать опасно.
Нас уже со всех сторон обложили.








